Текст книги "Немилосердные лета"
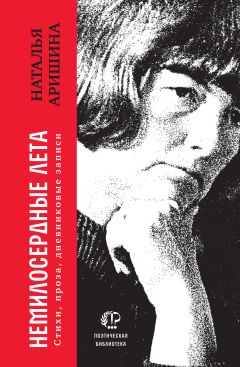
Автор книги: Наталья Аришина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Дом, надо сказать, с появлением мемориальной доски постепенно преобразился. Однажды мы вернулись из долгой поездки и его не узнали. Он теперь смотрится почти шедевром конструктивизма и не дисгармонирует с грандиозным соседом – бывшим Моссельпромом, тоже обновленным. Картину портит лишь облезлый бывший театр «Секретарёвка» (по фамилии хозяина театра П. Секретарёва), на сцену которого выходил сам Станиславский. В промежутке между наружным лифтом, висящем на нашем доме, и притулившейся с этой стороны к нашему дому «Секретарёвкой» прячется с незапамятных времен маловыразительная и пострадавшая от природных катаклизмов мемориальная доска, посвященная сталинскому лауреату драматургу Б. Ромашову. На нее никто не обращает внимания. Пьесы забыты, а биография мутноватая.
Последний живой свидетель происшедших некогда событий, старенький Яков Матвеич к тому времени, когда мы тут объявились, совершенно один жил в необъятной ромашовской квартире, приходясь драматургу каким-то родственником по женской линии. Уже в нашу бытность он уехал доживать свой век в Сибирь. Впервые он туда отправился не по своей воле, а вследствие усилий Ромашова, которому он чем-то помешал. Срок свой он отбыл, был реабилитирован и по иронии судьбы оказался единственным наследником гонителя и претендентом на его квартиру. Мы с Ф. года два изредка общались с Яковом Матвеичем – его квартира была напротив нашей. На наших глазах витальный Яков Матвеич стал тускнеть. А появилась возможность – продал за баснословные миллионы свои апартаменты каким-то золотопромышленникам и опять отправился в Сибирь-матушку, где он, как оказалось, пустил корни. Говорят, помер. В квартиру кто-то изредка наезжает, но в основном она пустует.
Наш ареал назывался в очень отдаленном прошлом Кислошной слободой. Мы, называя это место Кисловкой, начали обживать его в 1987 году. Поневоле заново осваиваем теперь. Самоизоляция еще не кончилась, хотя мы сделали прививки от коронавируса и нам разблокировали проезд на все четыре стороны души по социальной карте москвича. Воспользовались мы ею впервые позавчера, 4 февраля 2021 года. Я хочу запомнить эту дату. Ездили мы с Ф. в его клинику. И ничего плохого ему там не сказали. Вот почему мне хочется пропустить 2020 год, когда все было так плохо и неожиданно. Но не получается.
Хорошее в повседневной жизни граждан 65+ наверняка присутствует, но его надо хорошо поискать. Плохое находится без труда и каждый день. Например, мне уже много месяцев закрыт доступ в библиотеки. Я не читаю толстые журналы. Я лишь случайно узнала, что «Вопросы литературы», «Вопли», изменили дизайн. Мне не кажется, что в лучшую сторону. Лазарь Лазарев и Таня Бек этого никогда не узнают. Но и у меня, как говорил поэт, «жизни заметная долька от жизни успела отпасть» (стих Межирова).
Нужные книги купить не на что. Даже лучшую прозу собственного мужа. Все книги в одном экземпляре и не всем друзьям подарены. Даже не радуешься, что тиражи расходятся. Библиотеки недоступны, но недальние прогулки не возбраняются.
Выхожу из дома, иду по переулку туда, где он упирается в здание последней московской гимназии Марины Цветаевой. Были и другие московские. И ялтинская, перед которой растет огромный кедр. Я по нему скучаю. Марину Ивановну мы с Ф., автором книги о ней в ЖЗЛ, зовем МЦ, она так подписывала свои письма к многочисленным адресатам. Письма собраны в четыре тома, которые подготовил к изданию Лев Мнухин. Нечеловеческий труд. Лев Абрамович пришел на презентацию книги Ф. в Некрасовку. Мне было боязно: что-то он, лучший цветаевед, скажет? Я знаю, что книга хороша. И Л. А. это подтвердил. Посетовал только, что нет алфавитного указателя. Л. А. сказал: «Ничего, составим сами». МЦ, как всегда, не очень везет: не успел, ушел. И пылкая Любочка Калюжная, редактор Ф., ушла. Сгорела на работе. Мы приехали из Ялты, я, как всегда, привезла ей пучок лаванды. Оказалось, на могилу…
Я все о грустном и о самом грустном. Синдром самоизоляции.
Прогуливаться пешком в пределах своего ареала не запрещено. Особенно – до помойки. Чтобы до нее дойти, надо миновать гимназию МЦ. За ней – хорошо устроенный маленький скверик, даже новые скамейки стоят и кустики подстрижены. Сейчас всё в снегу, лепота, будто и не на помойку идешь, потряхивая нерассортированным мусором. Нет условий сортировать в четырехметровой кухне. Помойка устроена эстетично: павильончик с воротцами, два никогда не переполняемых бака.
Еще недавно бытовой мусор нашего дома положено было выносить в нижний дворик бывшего Моссельпрома, там стоит такая же типовая мусорка. Раньше на нее смотрели сверху незанавешенные окна мастерской Ильи Глазунова. И даже снизу были видны сияющие оклады больших икон. Такие только в храмах бывают. Незадолго до нашего водворения на Кисловке из мастерской выбросилась в колодец двора глазуновская муза. Бывший Моссельпром кардинально заменил хозяев или хозяйствующих субъектов (мне без разницы): верхний моссельпромовский дворик-сквер, только-только благоустроенный городскими властями, вдруг был объявлен суверенной территорией новых моссельпромовцев. Доступ к «нашей» помойке наглухо перекрыли: в нижнем дворе ворота и калитку заперли на кодовые замки. Проходной сквер, через который мы из своего переулка попадали во двор с помойкой, снабдили оградой, достойной средневековой крепости, – ее даже штурмом не возьмешь. Обе калитки – на запоре. На каждой из них долго красовалось объявление: «Частная собственность». Мы привыкли и не посягали. Нашли новую помойку, куда ходим наверняка незаконно. Логика в действиях новых хозяев жизни есть: когда моссельпромовский скверик благоустроили городские власти, снабдили удобными скамейками и урнами-вазонами, он стал любимым местом отдыха всех окрестных бомжей. В иные сезоны бывает их большой наплыв. Они роются в помойке и в урнах, оставляют заметные следы своего пребывания, потеки мочи на асфальте дворика и дорожках сквера. А теперь сквер стал неприступной крепостью и объявлен детской площадкой, на которой не замечено ни одного ребенка или хотя бы детской коляски.
Я выбрасываю свой незаконный мусор в «цветаевском», пока доступном скверике. Заглядываю в неподалеку стоящую палатку, в которой девушка Гуля, у которой «полумесяцем бровь», торгует дорогой выпечкой. Гуля на мои редкие покупки не сетует, приветливо отвечает на мое «здрасте». Мы иногда разговариваем про жизнь.
За Гулиной палаткой начинается следующий сквер, метростроевский. Метростроевское здание, подстанция метрополитена, – шедевр архитектуры, я не шучу. Особенно выразительны горельефы по углам с устремленными в будущее фигурами метростроевцев обоего пола.
Метростроевский сквер выводит меня к переходу через Большую Никитскую.
Я иду повидаться со своим бронзовым земляком и ровесником (если совсем точно, он меня годом старше). Почти всю сознательную жизнь я прожила в Москве, но еще ни разу не назвала себя москвичкой. Что-то надо для этого иметь за душой (чего у меня, видимо, нет). Я хочу побродить по снежку в сквере Муслима Магомаева.
По стечению обстоятельств все мои знаменитые земляки, не только он, увековечены здесь, в шаговой для меня доступности. Старается скульптор Александр Рукавишников. Посмотреть на Муслима, который стоит на пересечении двух переулков, Вознесенского и Елисеевского, меня подвигла круглая дата: в сентябре этого года будет десять лет с тех пор, как он здесь стоит. Не то чтобы я была такая уж меломанка, нет. И слово «земляк» для меня, в общем-то, условность. Но родилась я в Баку. Это факт.
Магомаев стоит за пределами своего сквера. И сквер получил его имя постфактум. Сквер примыкает к Азербайджанскому посольству. В центре его сидит средневековый персидский поэт Низами Гянджеви – Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф. Конечно, по чистой случайности я появилась на свет по адресу: Баку, Низами, 28. Свидетельство о моем рождении потеряно, а на мой запрос в бакинский ЗАГС мне ответили на азербайджанском языке, перешедшем на латиницу, что записи о моем рождении не сохранилось. Наверное, кто-то опасается моих претензий на азербайджанское гражданство. Нет, не претендую. Я с Баку рассталась добровольно, но что-то во мне иногда вздрагивает, просыпается детское зрение, и я вижу улицу Низами, бывшую Торговую, и роскошный и величественный снаружи дом с суматошным, крикливым внутренним прямоугольным двором, увешанным длинными балконами. Поперек двора натянуты веревки на роликах, на них вечно сушится белье. Помню, как бабка подтягивает веревку к перилам нашего балкона (балахана) и складывает белье в большой эмалированный таз, а на мне болтается ожерелье из деревянных прищепок, и я цепляю к нему те, что подает мне бабка.
С балкона виден черный ход ресторана «Ширван». К нему подвозят глыбы льда, осколки которого достаются разновозрастной детворе. Себя я помню с двух лет. Вертеться возле ресторана мне не позволял возраст. Но бабка приносит колотый лед в миске. Он быстро тает, его перепадает слишком мало, чтобы утолить жажду. Вкус льдинок я предпочитала мороженому: его доставал мороженщик из бидона, в котором был металлический цилиндр, обложенный льдом, и накладывал ложкой на вафельный кружок, покрывая второй такой же вафлей.
Веселая жизнь ресторана происходила за пределами двора, там шумел уже проспект Кирова, и мороженщика я помню на углу Низами и проспекта Кирова. А второй, нарядный балкон дедовой квартиры, где я родилась, висел над сквером «26 бакинских комиссаров», я смутно помню балконное литье и сквер в отдалении, потому что вся жизнь дома была сосредоточена во дворе. Чугунные лестницы крест-накрест в разных концах двора соединяли балконы. На противоположном «Ширвану» конце, рядом с лестницами, была арка, ведущая в неведомое мне пространство. Но, пройдя через эту арку, можно было добраться до квартиры, где жил старый певец Бюль-Бюль. Все, что было со мной в моем младенческом и детском Баку, похоже сейчас на игру в испорченный телефон с отголосками взрослых разговоров. Смутно помню про громкое убийство в квартире Бюль-Бюля, что-то связанное с его прислугой. Хорошо сквозь немыслимую толщу лет вижу знаменитую Шовкет Мамедову в длинном и ярком домашнем халате: она распевается этажом выше нашего. Зачем память хранит ее рулады?
Спустившись по гулкой лестнице, мы с бабкой проходили через ближайшее парадное на улицу Низами. На ее противоположной стороне росли олеандры. Я знала, что у них ядовитые цветы и листья. Не такие смертельные, как у анчара, но все-таки их следовало избегать.
До Баку, по рассказам бабки, она жила в деревеньке под Саратовом, принадлежавшей когда-то ее деду, а после смерти отца перебралась к брату в Баку. Брат служил в жандармерии и, кажется, погиб на боевом посту. Еще у нее была старшая сестра, Дарья Евгеньевна, горбунья, которая жила в Одессе, была замужем и имела дочь.
Бабка побывала в горничных в богатой бакинской семье Черномордиковых, претерпела вместе с ними погром. И оказалась в Иране на театре военных действий. Где-то по дороге она потеряла младшего, шестнадцатилетнего отпрыска семьи Черномордиковых, с которым пустилась в бега. Из вещественных доказательств ее пребывания в Иране (она говорила – в Персии) помню только два: ларец темного дерева, напоминающий сундучок, и маленький персидский коврик ручной работы, такой маленький, что пригодился мне для моих кукол. Возможно, он служил когда-то для намаза. Ценности в семье если и были, то все ушли в торгсин. Дед заканчивал свое медицинское образование в Баку, уже имея сына, а потом и мама подоспела.
Моя бабка была страстной курильщицей. В бабкином переднике всегда можно было обнаружить пару прокопченных мундштуков. Она чистила их длинной, почерневшей от никотина спицей. Спица всегда лежала в той самой шкатулке-сундучке, сработанной каким-нибудь кустарем с восточного базара.
В шкатулке хранились всякие крупные и мелкие предметы вроде зингеровских ножниц, наперстка, запасных ключей и переставших ходить серебряных часиков. Сверху всегда лежали какие-нибудь квитанции. Я часто просила у бабки сундучок – поиграть. Бабка на время высыпала все содержимое в большое майоликовое блюдо для плова. А сундук становился чаще всего сундуком-самолетом из сказки Андерсена. Герой летал в нем по ночам к турецкой царевне Будур. Роль царевны исполняла ряженая целлулоидная Катя, а сына купца играл второй мой пупс, китаец Ли. Араб, турок или китаец – разницы для меня не было. У меня был и Андерсен, и адаптированные сказки «Тысячи и одной ночи», и «По щучьему велению» (потом еще и фильм про Емелю вышел, но я больше любила «Золушку»). «Сказка» и «книжка» для меня были тогда синонимами (разумеется, этого слова я не знала).
Курить бабка начала давно, в боевой юности – будучи телеграфисткой в рядах Красной армии, совершавшей персидский поход. В тех же рядах служил, будучи тогда фельдшером, мой дед. Там они и соединились.
Мой «взрослый» Баку продлился недолго. Родители после демобилизации отца покинули Дальний Восток и уехали на его родину в Запорожье. Обосновались и получили квартиру в Мелитополе. А я, поступившая на филфак Дальневосточного университета, осталась во Владивостоке оканчивать первый курс.
Мне было семнадцать лет, и мне нечего было возразить родителям, когда меня решили перевести на второй курс Бакинского университета. Дед с бабкой давно жили в Дербенте, более отчетливом для меня городе, чем Баку. Но там не было университета. Бакинская квартира пустовала и предназначалась мне. Дед оставил эту квартиру в конце сороковых, срочно уехав из Баку в Дербент, по причине мне неясной. В Баку он занимал высокую должность в Министерстве здравоохранения.
Это уже был не тот город, который остался в моей детской памяти. Я чувствовала себя всему чужой и заброшенной. Я писала стихи по-русски, а стихия чужого языка меня пугала. Когда еще я его выучу, чтобы говорить на нем и понимать чужую речь вокруг меня? И нужно ли мне это? И я сделала то, что сделала: продала все ценное, что у меня было, бакинской однокурснице – и улетела во Владивосток…
Отец, военный врач, хотел, чтобы и я стала врачом – как его тесть, мой дед, как мой прадед. Но, похоже, видел, что я этого не потяну.
Отец был по-настоящему красив, мне нравилась его офицерская морская форма и особенно кортик. У него была врожденная военная выправка, хотя он когда-то страстно желал быть фотографом, а не военным и не врачом. Приехал перед самой войной из Запорожья в Кронштадт, но в училище, где учат на фотографов, припоздал. И поступил в фельдшерское. А потом война и база подводных лодок в Баку. И на войне бывают свободные минуты. Молодой фельдшер познакомился в Бакинской оперетте с моей мамой, вчерашней школьницей. И тут же захотел жениться. Больше всех этому был рад дед. В глубине души он не хотел, чтобы его Алёша (домашнее имя мамы) ушла на фронт, даже санитаркой или медсестрой. Вслух он этого не говорил. А мама, у которой семейная жизнь не заладилась, часто потом упрекала деда, что он «сбыл ее с рук». Едва ли мама была права. Отца моего он полюбил, как родного сына. Настоял, чтобы тот окончил медицинскую академию, и всех нас опекал до последних своих дней.
Медового месяца у моих родителей не было. Отцовская субмарина несла службу на Северном флоте. Вести оттуда приходили редко. Пришла посылка с галетами и шоколадом (они входили в паек, который получали подводники). В ответ была послана моя фотография с измазанной шоколадом физиономией. Я знаю, что отец очень любил сладкое, а я – не сластена. Перекормили в детстве.
После смерти отца мне досталось несколько моих детских фотографий, подписанных для него дедом. Кажется, отец, служа на Северном флоте, чаще получал письма от тестя, нежели от своей юной жены. Я не знаю, откуда появились у меня эти роскошные игрушки во время войны. На одной из фотографий я, полутора-двух лет, стою в зачехленном кресле и придерживаю за темечко сидящего на подлокотнике голого пупса Катю. А в ногах у меня – тряпичный Пьеро (никаких игр с ним я не помню). На второй фотографии, снятой в ателье, мы сидим рядком на замысловатом столике: плюшевый мишка, пупс Ли в трусах и я, с бантиком над челкой, в блузочке, в сарафане на перламутровых пуговицах и в явно новых блестящих ботиночках. Фотографии черно-белые, но я отчетливо помню шоколадного Ли в цветных трусах и бурого мишку по имени Мусик. Помню, что Мусику, пережившему со мной войну, через несколько лет младшая сестра Танька взрезала брюшко. Мне удалось до прихода взрослых собрать опилки и аккуратно зашить Мусика. Помню и подарок отца – нарядную немецкую куклу несказанной красоты. У нее были настоящие волосы и закрывающиеся голубые глаза с ресницами. На ней все было настоящее. Я назвала ее Мальвиной. Лысая Катька, из которой я до этого спокойно делала царевну Будур, была безжалостно лишена царских нарядов, они рядом с платьем Мальвины выглядели безнадежно. Но с Мальвиной приходилось играть украдкой, потому что любознательная Танька могла сделать такое, отчего мне заранее хотелось реветь. Выход нашла мама. Ей понадобились деньги, а просить их у деда и тем более у мужа она не любила. И чтобы спасти Мальвину от Таньки, она продала ее на барахолке. Мальвина оказалась, к ее удивлению, намного дороже, чем она думала. Туда же потом отправился детский аккордеон, на котором я даже не успела научиться играть.
До конца маминых дней сестра безвылазно жила при ней. Когда вышла замуж, уже мама, давно расставшаяся с отцом, жила при сестре. Мы выросли очень разные.
Отец не мог простить мне самовольства. Да и не до меня им было тогда: родители разводились. Дед и бабка поняли и простили. Деда после моего бегства во Владивосток я не видела ни разу. Хоронили его с почестями, подле крепости Нарын-Кала, которая господствует над древним городом. Положили на кладбище Кырхляр, рядом с сорока мучениками Аллаха. Дед был Доктор, уважаемый человек. Его не звали по имени-отчеству – Василий Лаврентьевич. Он был Доктор. Но пришли иные времена. Те, что ходили поклоняться мусульманским святыням, затоптали своими чувяками дедову могилу. Через несколько лет мы с Ф. добрались до Нарын-Кала. Но могилы уже не было.
Мы поженились через два года после моего возвращения во Владивосток, в день моего рождения. Мне исполнилось девятнадцать.
Теперь мы вдвоем бродили по пустынному мусульманскому кладбищу. Несколько баранов паслись каждый возле своего колышка. Травы мало. Жарко. Чуть поодаль привязан грязноватый недовольный жизнью ослик. Завидя нас, он взревел как-то уж слишком по-звериному. От неожиданности я вскрикнула: «Ах ты, ишак!» Мне тут же стало стыдно. Бедный ослик, каково-то ему на привязи. Да и баранам несладко.
Мы все же проникли в крепость через пролом в стене. Казалось, что ее ждет полное разрушение. Не верилось, что жизнь сюда вернется. Но недавно я услышала по радио о Дербенте как о культурной столице Дагестана. И громкое восхищение красотами твердыни Нарын-Кала.
Мы побродили у подножья крепости в зарослях кизила. Побродили по средневековому магалу («магал» значит «квартал», кажется, по-арабски) с диковинными для Ф. плоскими крышами. И побрели назад, следуя уступам полуразрушенной городской стены, к берегу Каспия. Последний, отдельный ее уступ кончался у самой железной дороги. Спустившись с насыпи, мы толкнули массивную деревянную калитку в стене из ракушечника. Она была выше человеческого роста, но скрывала весьма непритязательное дедово жилище из того же ракушечника, оплетенное плющом и посаженными дедом виноградными лозами. Дело шло к вечеру. Бабушка не находила себе места, тревожась за нас. Но в настоящий ужас она пришла, когда увидела, что́ я тащила на плече через весь город: это был старый, видимо, давно вышедший из употребления сосуд для подмывания. Такими пользуются мусульмане. Кувшин нам впарили как старинный в кустарной мастерской, не объяснив его назначения. Подшутили.
Азербайджан окончательно стал чужой страной, но странное тепло во мне осталось. Мне нравится сквер Низами-Магомаева. Нравится, что земляк стоит на перекрестке, не посягая, как и я, на обжитую уже землю. Муслим стоит на цилиндрическом постаменте, на котором выгравировано его имя, а под ним еще и гранитная глыба, которой придана форма рояля. На стенке «рояля» – ноты и слова песни «Ты – моя мелодия». Вознесся он довольно высоко над землей. И все же сквер, принадлежавший Низами, переназвали в 2018 году. И теперь это сквер имени Муслима Магомаева. Слава богу, что никому не пришло в голову потревожить древнего поэта, который тоже отмечает в этом году круглую дату: его посадили в этом сквере тридцать лет назад сами азербайджанцы.
Еще один мой знаменитейший земляк – Мстислав Ростропович – тоже приобрел поблизости свой сквер. Но сидит тоже не в центре, а сбоку припека. В центре – бронзовый юноша с крылышками восседает на звере, похожем на льва. Бронзовый Ростропович – при своем верном инструменте, за работой. Сквер его имени – за спиной, а перед лицом, хоть и сбоку, – православный храм Воскресение Словущего на Успенском вражке.
Ростропович с Вишневской жили тут же рядом, по адресу: Брюсов переулок, 8/10, в доме, специально выстроенном для композиторов и профессоров Московской консерватории. Арам Хачатурян тут жил и Дмитрий Шостакович. Нас в этот дом как-то привел дядя Ф., Исай Фаликов, опереточный режиссер. До сих пор идет где-то поставленная им оперетта, и кое-кто спрашивал у Ф., не его ли это работа. Привел нас дядя Исай на обед к Людмиле Лядовой. Тогда Людмила Алексеевна была живая и веселая. И сильно кокетничала с молодым поэтом. Даже песенку какую-то спела, сказав, что сочинила ее в 1942-м. Я ревниво съехидничала, сказав, что песенка – ровесница Ф.
Неужели карантин подходит к концу? Да, разблокировали нам с Ф. проезд на городском транспорте. Спасибо, конечно, за заботу. До библиотеки в Доме Гоголя, куда нужно позарез, я могла бы и пешком дойти. Вот чего я не могу понять, так это «ковидных ограничений» для лиц 65+, запрещающих посещение библиотек. Не наблюдала я, чтобы старичье прямо-таки туда ломилось. А как же быть с теми, кому библиотека жизненно необходима, кому принесенная из хранилища или снятая с полки книга скажет больше, чем ее оцифрованный вариант? Про архивы даже не заикаюсь. Это отдельная тема, я до нее еще доберусь. Мой вопрос получился риторическим, как и многие другие, возникшие, как всегда, неожиданно. Я никогда не пряталась от своего возраста, но и подчеркивать его не собиралась. И не могу благодарить тех, кто сделал это за меня.
Мы с Ф. навещаем сквер с сидящим посередине удрученным Николаем Васильевичем. Ковидным летом его ненавязчиво подновили. Я все еще оглядываюсь на это непривычное лето – без Ялты, без привезенных оттуда стихов и пучков лаванды. Мы это пережили, другие были «развлечения».
Осенью я с большим облегчением спрятала в папку «выписной эпикриз» Ф. Прежние я тоже храню.
Мы стряхиваем снег со скамьи и на минутку присаживаемся возле Н. В. Погода позволяет. Стряхнуть снег с гоголевской крылатки некому. Вход в библиотеку прячется в колоннаде, над которой нависает заваленный снегом балкон. Всё по-зимнему, хотя нечто, витающее в воздухе, дает мне почувствовать, что мы с Ф. перезимовали. Открывается тяжелая дверь в библиотеку и выпархивает стройная и хорошенькая Машенька. Она работает в абонементе, и я всегда прихожу в ее часы. Она, кажется, не курит. Выбежала на минутку воздухом подышать? Она замечает меня, смотрит виновато. У меня на руках второй том Шеллинга. Толстые журналы и первый том мне удалось вернуть в срок. А второй том сильно у меня задержался, я все боюсь, как бы он не затерялся среди моих домашних книжных завалов. Машенька меня успокаивает.
Сегодня мы не пойдем на Поварскую, в «сквер Беллы». В нем почти всегда скучает какая-нибудь детская коляска. Иногда выпивают, чокаясь шкаликами, бомжи новой формации. Они едва ли что-нибудь знают о Белле. Но та Белла, в честь которой пивнушку на Аэропортовской назвали «Ахмадуловкой», тоже другая.
Вход в мессереровскую мастерскую совсем рядом. В ней, а не в респектабельной квартире на Ленинградке, которую построил ПЕН-клуб, ей бы хотелось жить. Там она одиноко бродит взаперти, ничего не видя вокруг. Посреди сквера – огромный старый тополь, я бы даже сказала – древний. Не могла Б. А. его не любить. А я не могла о ней не вспомнить, перебирая по необходимости давние и новые выписные эпикризы Ф.
Новым любопытством к старому писателю Погорельскому я в некоторой степени ей обязана, ее восторгам по поводу его «Лафертовской маковницы», которую нельзя было не перечитать. Выписные эпикризы как таковые мне напомнили, что даже Антония Погорельского (в старом издании, со старой орфографией) читала она в больнице, куда частенько попадала. Тогда она оказалась в питерской больнице, на Васильевском острове. Сначала читала Пушкина и Гоголя, а потом добралась и до Погорельского, которого, как сама признаётся, читала впервые.
За Погорельского, возможно, взялась, прочтя письмо А. С. из Михайловского брату Лёвушке. Он там очень забавно изображает себя котом. Я проверила, писано 27 марта 1825 года: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь… ‹…› Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину». В «Гробовщике» А. С. упоминает одного из героев «Маковницы»: «Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского». Вслед за Б. А. перечитывая Погорельского-Перовского, я уяснила, что «лафертовская» – это переиначенная «лефортовская». И что действие происходит у Проломной заставы. При первом чтении много чего ускользает.
Б. А. так описывает свой роман с Погорельским: «Прямо перед окнами палаты был дом, который казался мне таинственным. В нем то зажигался, то гас огонь свечи и мерцали глаза кошек. Я выходила в больничный двор. Возвращалась в палату, читала Погорельского, а вблизи стоящий дом с чердаком опять был освещен мерцанием свечи и глазами кошек. Все это происходило на Васильевском острову (так писали в то время)». Небольшой том ахмадулинской прозы составил, снабдил портретом своей работы и издал в «Вагриусе» Борис Мессерер (2001). Там не пропустила я зарисованного с натуры кота деревенской приятельницы Б. А., колоритной тети Дюни, достойного пополнить галерею знаменитых котов:
«В утешение себе воспомню и воспою единственную тети-Дюнину живность: поджарого, мускулистого черного кота, состоящего из мощной охотничьей энергии постоянной азартной проголоди. При нас он питался сытно и как бы роскошно, но неутомимо мышковал, рыбачил, стрелял глазами по птицам. Тетя Дюня убирала всю снедь на высокую недоступную полку, приговаривая: “Близко молоко, да рыло коротко”. ‹…› В тот раз, не дожидаясь моих постыдных рыданий, он выхватил из дырявой тары живого рака, унес на крыльцо и там съел целиком, оставив на ступеньке убедительно наглядное “мокрое место”».
В сборнике, в котором я обнаружила среди прозы других авторов «Маковницу» Погорельского, оказался Одоевский с его «Необойденным домом». А в следующий заход в Гоголевку Машенька вынесла мне откуда-то из недр абонемента мало востребуемый томик Одоевского («О литературе и искусстве»). В приложении, в угловых скобках значилось: «Беседа В. Ф. Одоевского с Шеллингом». Запись в путевом дневнике. Вот так от Беллы протянулась ниточка к Одоевскому, а от Одоевского – к Шеллингу, которого князь сразу же по знакомстве пригласил к себе на обед, – и Шеллинг, не чинясь, согласился. О России Шеллинг говорил: «Чудно́е дело ваша Россия, нельзя определить, на что она назначена и куда идет она, но к чему-то важному назначена».
В литинститутские годы на Шеллинга времени у меня не хватило. Остался за бортом вместе с любомудрами. Впрочем, его двухтомник на русском языке, составленный А. Гулыгой, вышел почти через два десятилетия после окончания мною Литинститута. Желание заглянуть в Шеллинга внезапно возникло, когда Ф. занялся МЦ и подписал договор на свою будущую книгу о ней с «Молодой гвардией». С чего я взяла, что МЦ читала Шеллинга? В детстве и юности она читала много немцев. Но ее «Сводные тетради» свидетельствуют: «…за всю жизнь не прочла ни единой философской строки, но я знаю душу, я каждый день вижу небо и каждую ночь вижу сны» (Неизданное: Сводные тетради. – М., 1997, с. 222). Она и Чехова не читала, там же, на странице 221-й признаётся: «не читала ни “Дяди Вани”, ни “Трех сестер”, ни “Чайки”». Здесь они с Анной Андреевной вполне единодушны, может быть, в первый раз. Когда я определила круг ее чтения, стало понятно, что немец Шеллинг туда не вписывается. Я с удивлением обнаружила, что МЦ любила в основном «подростковую» литературу. Даже ее Федра вышла из какой-то популярной античной хрестоматии на немецком, а вовсе не из шеллинговской философии мифологии. «Ипполит, Ипполит, болит…». Еще я выяснила для себя, что и «Евгения Онегина» Марина Ивановна читала не очень прилежно. И считала, что детям до четырнадцати лет его вообще читать не следует. С гениями это случается.
Я все читаю с опозданием. Обрадовалась было, что карантин позволит время от времени валяться на диване и читать что заблагорассудится. А вот нет: о библиотеке ЦДЛ можно было забыть навсегда еще до карантина. Уж не помню, сколько лет назад ее закрыли «на ремонт». Ремонт состоял в том, что помещения библиотеки занял кабак, а книги складировали где-то в подвалах.
Самый памятный мне выписной эпикриз Ф. получил в апреле 1993 года, накануне дня рождения Ахмадулиной.
Они попали в соседние палаты тогда еще существовавшего литфондовского отделения 7-й больницы. Чинно кланялись друг другу в столовой, в крохотной курилке на этаже и больничных коридорах. Иногда в палату Ф. доносился ее голосок. Ее (не без гостинцев во флаконах) посещал только медперсонал. Однажды слышу мужской баритон: «Ты не чирикай, лучше прочти стишок». Ангельский голосок что-то отвечает. Эпикриз свидетельствует, что это соседство продолжалось с 23 марта по 9 апреля. Я с Б. А. за это время ни разу не столкнулась. Но накануне выписки Ф. произошло нечто примечательное. Я спешила к нему и у метро увидела своего земляка-азербайджанца с ведром белых и лиловых левкоев. Я четверть века к тому времени прожила в Москве – и ни разу не видела любимых цветов моего детства. В Баку левкои всегда украшали бабкин пасхальный стол. Москва меня цветами не баловала, разве что черемухой и сиренью. Две черемухи цвели у главной клумбы Александровского сада подле старого тополя-гиганта. Наподобие того, что растет посреди сквера Беллы. Старика несколько лет как снесли, хотя он исправно зеленел весной, опережая всех соседей. Обе черемухи каждый раз напоминали мне, как мы с Ф. ночью одурели от аромата, заполнившего нашу горницу в дальневосточной таежной деревне: огромная охапка черемухи стояла в ведре у нашего изголовья. Ф. учительствовал в деревенской школе, проходил студенческую практику. А я приехала его навестить.









































