Текст книги "Немилосердные лета"
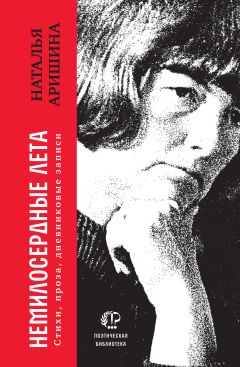
Автор книги: Наталья Аришина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
На какое-то время Ф. и Рубцов сблизились. Когда Коля летом 68-го впервые зашел в общежитскую комнату, где мы с Ф. обитали, Ф., прилетевший с Дальнего Востока, был в тельняшке, и они тотчас заговорили о море – Рубцов служил на Северном флоте. Подробности их отношений мне мало известны, но было там по-всякому – и тепло, и не очень. Ангелов с обеих сторон не было. Алкоголь был.
Один эпизод их общения выглядел так. Они вдвоем сидели за бутылкой «Фетяски» в Цветном кафе ЦДЛ, угощал Ф. Внезапно Коля стал говорить, что такие люди, как Ф., ему всю жизнь вредят. Ф. попросил его покинуть их столик. Коля пристроился рядом, за пустым соседним столиком, напрашиваясь на возвращение на прежнее место. Ф. согласился. Рубцов свернул на популярнейшую тогда тему – евтушенковскую, кроя суперзвезду последними словами. В этот момент Евтушенко вышел из Дубового зала ресторана, пересекая Цветное кафе в сторону выхода. Рубцов сорвался с места в его сторону, нагнал, вступил в дружеский разговор. К Ф. он вернулся как ни в чем не бывало. Бутылка «Фетяски» к этому времени опустела.
Ф. любил рубцовские стихи. Где-то за полгода до их очного знакомства он в очередной раз позвонил мне из Владивостока на телефон общежития, стоящий на столе дежурной у входа в общежитие. Как раз проходил мимо меня Рубцов, о чем я сказала Ф. Он взволновался, попросил позвать Рубцова к трубке. Они долго говорили, Ф. читал наизусть Рубцову рубцовские стихи.
Нынешний Литинститут совсем не похож на тот вуз, который я окончила. Даже ворота, выходящие на Тверской бульвар, теперь наглухо закрыты. А я когда-то писала: «Тверской бульвар, ты классная моя…». Я покинула стены Дома Герцена, но оказалась от него недалеко: целых семь лет прошли в шехтелевском особняке, который давно оставили и я, и моя «контора» (как я там появилась, описано выше). Ф. написал мой лестный портрет той поры:
Прямиком на скворчиные фиоритуры
в неформатно коротком плаще
весь апрель референтка из прокуратуры
шум сирени несла на плече.
За чугунной решеткой большого балкона,
где царили допрос и вещдок,
из какого такого давали флакона
абсолютной свободы глоток?[11]11
Илья Фаликов. На Тверском / Сто стихотворений. – М.: Прогресс-Плеяда, 2012.
[Закрыть]
Годы спустя я узнала, что Александр Парнис, с которым я познакомилась и подружилась в «Прогресс-Плеяде», издательстве Станислава Лесневского, – двоюродный брат моего бывшего сослуживца Макса Хазина. Парнис долго смеялся, представив меня в общении со своим непреклонным братом. Александра тот не одобрял за диссидентские замашки и сомнительные на его взгляд знакомства. Они не встречались и знали друг о друге только через родственников. Я самонадеянно называю Хазина «сослуживцем», зная цену своим познаниям в юриспруденции.
Макс Григорьевич был юрист до мозга костей. Мне не очень нравились его фельетоны, которые он печатал в прежних «Известиях», в них правомерным образом отражался казенный язык нашей «конторы», но его переводы «сербской Ахматовой» – Десанки Максимович – были хороши. Он делал их для души, кажется, не опубликовав ни строчки. Мои стихи он ценил. Пришел на мою защиту диплома, приходил потом на все мои поэтические вечера. Но очень не одобрял уход на вольные хлеба. И нестандартную форму брака с Ф., который, по его мнению, должен был делать больше усилий для укрепления благосостояния семьи. Я часто пользовалась его дельными советами, но не всем следовала. А потом он внезапно исчез с горизонта. Мне и в голову не могло прийти, что он способен эмигрировать. Внешне выглядел человеком очень закрытым, застегнутым на все пуговицы. Умер в Лос-Анжелесе, незадолго до ухода побывав в Африке, где у него родились внуки…
В пору моей учебы в Литинституте моя вечерняя работа на странном для меня поприще вызывала крайнее любопытство симпатизировавшего мне начальства в лице проректора Ал. Михайлова. Он даже несколько раз посетил меня – благо нужно было всего-навсего перейти через дорогу. И мы пили чай в роскошной приемной в стиле ар-деко, в которой я восседала без выходных с 18 до 22, поначалу в качестве референта.
Заходил на огонек и А. П. Межиров. К моей литературной судьбе он был небезразличен, но у него были претензии к моей творческой воле, вернее, к ее недостаточному присутствию. Но все же, как мне хотелось думать, он подозревал, что у меня за душой что-то имеется. Будучи человеком непредсказуемым, он проверял меня на вшивость весьма странным порядком. Однажды, засидевшись у прокурорского камина (в особняке было пусто, в тот вечер нас охраняла только толстая милиционерша Зиночка), А. П. совершенно серьезным голосом сказал: «Д-дитятко, ты должна достать мне пистолет». Я поняла это однозначно: не о стихах же ему со мной говорить, он даже к Татьяне Глушковой относится серьезней (меня ни она, ни ее стихи не привлекали ни с какой стороны). Его жена Елена Афанасьевна считала, что я ошибаюсь на свой счет, – я поведала ей о его издевательской просьбе добыть пистолет. Она прореагировала, как всегда, со спокойным знанием дела: «Это его давняя мечта – иметь пистолет». Но это было потом. А тот вечер чуть было не кончился трагически. «Хорошо, Александр Петрович, вам кольт или сами выберете?» Я все еще думала, что он надо мной подшучивает. Но у него загорелись глаза. Глаза у него были особенные. Правдивые-правдивые. Они достались дочери, Зое. У красавицы Елены Афанасьевны они похожи на вишни.
Мы спустились в фойе. Везде было полутемно – Зиночка везде повыключала свет и дремала на своем посту. «Я покажу нашему гостю кримлабораторию». Пышнотелая Зиночка секунду посомневалась, но все же с кряхтеньем поднялась, поправила кобуру и пошла открывать.
Кримлаборатория облпрокуратуры была лучшая в стране. Помещалась она в подвале, в который можно было попасть, выйдя наружу и открыв дверь под аркой, либо спуститься прямо из вестибюля, через сейфовую дверь с кодовыми замками, ведущую в подземный проход под этой аркой прямо в лабораторию. Везде была кромешная темнота, шумно дышала Зиночка, и, затаив дыхание, между нами шел А. П. По дороге я включала свет, люминесцентные лампы загорались медленно и помигивали. Мы добрались до цели. Прямо у входа находилась темная витрина, и возле нее кожаный диван. Всё устроили на совесть. К стендам с оружием можно было подойти только по проходу между витриной и диваном. И я включила не общий свет, а только освещение витрины. Она имитировала, очень достоверно, комнату, в которой совершено изнасилование и убийство. Кукла (вывезли из Франции) на кушетке, в разорванной одежде, со следами гематогена на теле (запекшаяся кровь), изображала труп с ножевыми ранами на липучках. Учебное пособие, всего-навсего. Когда я уже была следователем-стажером и мое дежурство выпадало на выходные, а моя подруга, зональный прокурор Инна Меликовна Айламазьян, трудилась сверхурочно, в этой витрине любили играть наши дети-сверстники – мой восьмилетний Илья и ее Вита и Сандро. Они обряжали французские формы куклы в свежее белье советского образца – атласный бюстгальтер, розовые трико до колен и сатиновый халатик – и допрашивали в качестве потерпевшей: в вертикальном положении у нее открывались глаза и она переставала быть трупом.
А. П. присел на диван. Дальше идти ему расхотелось. Он заторопился домой.
Мы довольно долго не виделись. Года через два навестили его с Ф. Еще через год я получила от него рекомендацию в Союз писателей.
Был еще один эпизод моего студенческого общения с А. П. Его любила мне припоминать вахтерша нашего общежития тетя Дуся. Однажды довольно поздним вечером (я возвращалась с работы около одиннадцати) в общежитии появился профессор Межиров с большой дорожной сумкой в руках и поинтересовался, в какой комнате живет Наталья Фаликова (Аришина, напомню, – моя девичья фамилия и псевдоним). «С вещами пришел», – подумала перепуганная тетя Дуся и повела его на третий этаж. Я месяца два жила в комнате одна – это и навело ее на мысль о назревающем скандале.
У меня в комнате сидела моя сокурсница поэтесса Валентина Телегина. Мы только что вытащили из духовки целый противень ржаных сухариков в виде мелких кубиков, и Валентина пересыпала их в большую плетеную сухарницу, подстелив белую салфетку, а я заваривала чай. Сухари божественно пахли и еще дымились. Противень выпал у нее из рук, и тетя Дуся с удовольствием прокомментировала свое к этому отношение в обычной манере, обозвав Валентину растяпой. Для меня визит А. П. был неожиданным, и, конечно, мне было любопытно узнать, с чем он пожаловал. Он поставил свой баул на стул и со словами «Т-ты д-должна это п-послушать! Его любит даже г-графиня Голицына», – вытащил допотопный магнитофон с катушками. В бауле, кроме магнитофона, ничего не было. Тетя Дуся, отказавшись от чая, удалилась на свой пост. А. П. снял респектабельное пальто с шалевым воротником (как-то на мой вопрос, что это за зверь, ответил, что бобер, купленный Лёлей), уселся за стол и включил свою бандуру.
Оттуда во всю мощь захрипел Высоцкий!
Репертуар был обширный. А. П. сам так увлекся, что сухарница, которая оказалась у него под рукой, в конце концов опустела.
Через год у меня появилась своя «пластинка с Высоцким». У нее была предыстория. В разгар моей первой сессии в Литинституте я получила срочную телеграмму из Владивостока, от свекрови: «Срочно вылетай Илья проглотил ракету». Игрушечную ракету проглотил наш с Ф. трехлетний сын. По счастью, в ракете был металлический стержень, и в больнице ее без последствий вытащили из пищевода магнитом. Когда я прилетела, дитё и думать забыло о том, что с ним было. Врачи тоже отнеслись к случившемуся как к вполне обычной ситуации. Мне объяснили, что дети глотают всё – гвозди, монеты, даже вилки.
Получив телеграмму, я бросилась к проректору Ал. Михайлову. Дело осложнялось тем, что я одолжила студенческий билет, по которому мне надо было лететь во Владивосток, своей новоприобретенной подруге, Светлане Бучневой. Она приехала к матери, учившейся на Высших литературных курсах. Светлана только на следующий год станет студенткой Литинститута. Став в перестройку ответсекретарем весьма содержательного литературного журнала «Согласие», она ухитрилась потерять лучшую мою повесть «Бухта», выхватив ее, бывшую в единственном экземпляре, прямо из-под пишущей машинки. Потерю я ей простила, но повесть восстановить не смогла. До сих пор иногда вздыхаю.
Билет подруге был нужен для тех же целей, что и мне в тот момент. Но она уже успела его потерять. Александр Алексеевич тут же распорядился выдать новый, и мне даже не влепили выговор за потерю, что лишило бы меня стипендии. И велел по возвращении сообщить о результате поездки.
Мы с моим трехлетним «результатом» пришли к проректору с отчетом. Илюшка, не спрашивая позволения, расположился в большом кожаном кресле (в таких только вожди на картинах сидят). Ал. Ал., указывая на меня, спросил: «А это у нас кто?» И мой Илюша, уже добравшись до проректорского стола, сообщил, не поднимая головы, сунув нос в какой-то заграничный журнал: «Да Наталья, красавица». Даже чью-то ироническую интонацию скопировал. Мой проректор всем этим безобразием был очарован. И даже, уходя с должности, порекомендовал меня своему преемнику. И тот пообещал не оставлять меня вниманием.
«Пластинка с Высоцким» – крошечная, такие выпускали в приложении к журналу «Кругозор», но все-таки мне жаль ее не поставить.
…Ал. Михайлова выбрали вице-президентом Европейской ассоциации критиков (не помню уже, как точно называлась эта организация). И еще он стал кавалером Ордена шампанских вин. Мой растущий сын, который играл в мушкетеров, сразу прозвал его шевалье де Шампанем. По случаю приезда каких-то французских коллег я была приглашена на банкет, который Ал. Ал. давал в «Славянском базаре». Мой бывший проректор был человек щепетильный, он никуда меня не приглашал, пока я была студенткой, и я подумала, что он сочтет меня ломакой, если я откажусь. Я пообещала прибыть вовремя, а он пообещал встретить меня у входа. Когда я положила трубку, я поняла, что поступила опрометчиво: в юбчонке со свитерком на банкеты с иностранцами не ходят. И тут я вспомнила, что у меня есть «связи» в «Таганке». У нас в институте учился сын Юрия Петровича Любимова – Никита, дружба с которым открывала ход и в зрительный зал, и в закулисье.
Зинаиду Славину роль доброй феи вдохновила. Боа из белых перьев, которое напялили на меня в театре, с городским транспортом не рифмовалось. Я прикинула, хватит ли мне на такси. И тут в гримерную вошел хмурый Высоцкий. Славина возликовала: «Карета подана!» Высоцкий, все с тем же каменным лицом, посмотрел на нее. Она объяснила ситуацию. Вид у него был совершенно недоступный, но он махнул мне рукой, и я засеменила за ним в чужих туфлях, в которые было подложено изрядное количество газетной бумаги, потому что я унаследовала от своей бабки 33–34-й размер обуви.
За всю дорогу до «Славянского базара» мы не обмолвились ни единым словом. Я плохо знаю правила уличного движения, но уверена, что он нарушил все, что возможно. Он подкатил свой серебряный мерседес прямо к крыльцу, где переминался с ноги на ногу Ал. Ал.
«Сидеть», – сказал мне В. С. Вышел из машины, высадил меня, поцеловал мне ручку и был таков. Ал. Ал., человек тактичный, ни о чем меня не спросил. До французов мне не было никакого дела. Я переживала свою встречу с Высоцким. Но по ходу дела вдруг стало понятно, что они принимали меня за очаровательную, неповторимую мадам Михайлофф. После банкета, когда Ал. Ал. вез меня домой, я попросила подкатить к служебному входу Театра на Таганке. Через несколько минут я вышла в своем обычном виде. И Ал. Ал. отвез меня в коммуналку в Люберцах, где мы пребывали тогда втроем – моя мама, мой сын шевалье и я, непонятно кто.
Глава пятаяДва года назад я собрала под одной обложкой лучшее, на что способна в стихах. Назвала свое избранное «Общая тетрадь». Отдельных «тетрадок», а точнее – книг стихов – набралось полдюжины. Шестую я посчитала неоконченной, так и обозначила, назвав «Львы сторожевые». Символика достаточно прозрачная применительно к стихам и труднообъяснимая в прозе. О прозе я не помышляла, считала, что выговорилась на тот час до конца. Стихи следовали за временем, соблюдая хронологию. В иные моменты они просто не возникали: какой в этом отношении спрос со стихов? Никакой.
Разумеется, мне ясно, что цитировать свои стихи в мемуаре – в некоторой мере моветон. Но порой нет выхода, и я это делаю.
Прошло два года со дня выхода книжки, и оказалось, что шестая тетрадь так и останется незаконченной. Точно знаю, когда началась седьмая: 15 апреля 2019 года, ночью, когда приемничек у меня в головах, который я, засыпая, забыла выключить, прошелестел о пожаре в Нотр-Дам. Пожар был погашен утром 16 апреля. У меня возникло ощущение крайней незащищенности, которое, если честно признаться, не покидает меня по сей день. Меня перестала радовать вышедшая книга, в которой я подводила предварительные итоги. Некоторое разочарование посещало меня после почти каждой вышедшей книжки. Но здесь было другое: никакие символические сторожа не уберегают ни от чего. С таким настроением я начала писать «Нотрдамских пчелок» (см. с. 32).
С пчелами все обошлось, спасло то, что ульи расположены на тридцать метров ниже основной крыши, на кровле ризницы с южной стороны собора (была публикация в The Gardian). К ним пробралась пчеловод Сибил Мулен. В июле с трех ульев собрали 66 килограммов меда. И в январе 2020 года Мулен снова проверила ульи. С ними было все в порядке.
Я не видела Нотр-Дам во всей красе. В августе 2001-го, когда я единственный раз была в Париже, он стоял в лесах. Так что это, по крайней мере, не первая реставрация. Полноценной вроде бы ни одной еще не было. Недавно для реставрационных целей спилили несколько столетних дубов.
Я нашла в своем дневнике описание нашего с Ф. въезда в Париж и воспроизвожу его здесь в первозданном виде. Так мне писалось и виделось двадцать лет назад.
Был вторник, первый день августовских ид нового тысячелетия… проще говоря, нечто новое наступило, потому что мы именно во вторник, ранним утром 15 августа 2001 года въехали в город Париж. В глубине души я никогда не надеялась в него попасть. Что не мешало воображать его всю мою бессознательную, полусознательную и сознательную жизнь. Но это была в чистом виде литература, мое главное жизненное пространство. Я пережила бы неприезд в Париж. Но вот произошло.
Сначала был страх, подавляемый быстрой ездой в ночном автобусе по дойчландским и бельгийским автобанам: у меня была шенгенская виза, а у Ф., настоящего виновника внезапно произошедшей вокруг меня Европы, ее не было (по недосмотру симпатичнейших чиновников из Фонда Генриха Бёлля, чьим стипендиатом он стал в мае). А теперь наступали августовские иды. Подсознательно обозначение знаменательной даты въезда в Париж римским околичным манером легко расшифровывалось первоначальностью в парижской теме все того же Рима, самого что ни на есть первого. Не второго и не третьего. Рим. Париж. Москва. Смирись, гордый человек? Утешься, что твой город стоит нумером третьим? Да и это, кстати говоря, самозванство, вечная московская проблема…
Как только свет стал позволять глазам хоть что-нибудь разглядеть, я начала предпринимать странные попытки «узнавать» Париж.
Нашарила глазами буквы Metropoliten, Porte de Champerret – на большее моего зрения не хватило, да и автобус ехал слишком быстро. Я смотрела прямо в лобовое стекло: громадный обзор, захватывающая перспектива. И в боковое стекло можно взглянуть для корректировки. В нечаянно образовавшийся в нашей жизни Париж я въезжала с желанием не оказаться тем ничтожеством, которое способно проглотить это событие безвозмездно. Я хотела честно и добросовестно пережить пять отпущенных дней и четыре ночи.
Но вот уже совершенно отчетливо и достоверно мы проехались по бульвару Клиши. Таковой на моей заочной карте Парижа существовал, слава богу. Мы проехали Мулен Руж. Я удивилась. Мне казалось, что это заведение должно быть глубже запрятано, не кидаться в глаза первому встречному. Тут же возник в автобусе шумок, и за моей спиной кто-то поинтересовался билетами. Пятьсот франков с носа – и будет вам зрелище плюс полбутылки шампанского в придачу. И все дела. Днем позже, возвращаясь пехом в свой Hotel des Chasses, мы обнаружили возле «Мельницы» изрядную толпу. «Толпа» – не совсем точно. В длинную очередь аккуратно выстроились пожилые нарядные пары. Моложе сорока, кажется, не было никого.
Чтобы уж покончить с темой «Мельницы», которая возникла сама по себе, так как не я планировала автобусный маршрут, по которому мы с Ф. въехали в великий город Париж, доскажу про ночную Пигаль, по которой Ф. вел меня в уже ставший домом отельчик. От Пигаль, утомясь продираться сквозь толпы расово разноцветного населения, мы дошли до ближайшего метро и благополучно добрались до нашей станции – «Мэрия Клиши». Я толкучку терпеть не могу. На Пигаль не рвалась, пошла, раз повели. Весь юмор заключался в том, что близорукий Ф. подробностей Пигаль не мог разглядеть. Подробности видела я: из освещенных витрин выступали разные привлекательные для заинтересованного взгляда части тела (живых тел в витринах я не наблюла). Рекламировались самые разнообразные сексуальные действия, доминировала фемина, ее многозначительно однополая любовь. Женские лица были запечатлены с тем выражением, когда существо сосредоточенно занимается самым важным и значительным делом. Так в любой профессии выглядят профи.
Пигаль, не очень прячущаяся, но все же отступающая в темноту, показалась мне более уверенной в себе, чем Мулен Руж. Я вспомнила словосочетание «парижский шик». Впрочем, вокруг сновало множество негров, арабов, китайцев, японцев, мы вот с Ф. зачем-то проталкивались сквозь толпу. В метро тоже были в основном лица, мало отвечающие моим представлениям о французах и француженках. Женщины моего поколения были одеты примерно в той же манере, что и я. Не видела я и не собиралась искать никакого «парижского шика». Но меня пугала понятность Парижа. Он делал что хотел. И я понимала, что меня никто не одернет. Всегда пределом моих мечтаний было, чтобы все были сами по себе. Каждый – сам по себе.
Ф. не мог бы разглядеть пласпигалевские витрины, но они были не откровенней «Происхождения мира» из музея Орсе, написанного Курбе в 1866 году; публике его показали только в 1995-м.
За несколько месяцев до отъезда в Европу у Ф. вышла важная для него книга: «Прозапростихи». – М.: Новый Ключ, 2000. Ища в дневнике парижские записи, я наткнулась на ту, которую вела, сидя в Малом зале ЦДЛ на презентации этой книги.
12.02.01
Презентация. Вечер ведет А. М. Турков. Записываю дословно, почти стенографирую, получаются выжимки.
Турков начал с Л. Мартынова (не успела записать). Потом предоставил слово Ф., который предложил презентацию превратить в дискуссию о современной поэзии помимо повода, собравшего всех нас здесь.
Дальше пошли ораторы.
Бек. Главное качество этой личности – его неангажированность. Я сначала хотела сказать, что «Прозапростихи» – книга лучшая в своем жанре, а она – единственная.
Белицкий. Лучшая критика – когда поэт говорит о поэте. У меня зависть к этому поколению. Не поэты исчезают, а люди, которые понимают этот язык.
Волгин. У Винокурова: «Когда мы говорим о стихах – мы в уголь превращаем алмаз». О стихах лучше всего пишет поэт. Я не согласен с Алёхиным, который говорит о феерическом десятилетии поэзии. Мы видим отдельных поэтов. Нового слова в этом десятилетии не произнесено. Лично мне близко поколение семидесятых.
Королев. Книга знаменательная… Имен такое множество, что… Автор слишком либерален. Современному поэту слушатель не нужен. С кем он разговаривает – с Богом, с компьютером? Поэты разобщены, но и читатели – тоже.
Рейн. Несмотря на предложение Фаликова его обругать – я не могу. Скажу со всей правдой: эта книга мне нравится. Мы все – гренландские тюлени. Он не только неангажированный человек – он находится внутри поэзии на совершенно законном основании. Я считаю, что лучшее, что обо мне написано, написал Фаликов: он заодно со мной. Я просто горд.
Романов. После Рейна говорить трудно. Эта книга бесценна для будущего историка русской поэзии. Она подводит итоги столетия. Достойно зависти то, как много у Фаликова «своего».
Кружков. Писать о современной поэзии очень трудно – сразу оказываешься в перенапряженном поле. Отчасти он взялся писать потому, что критики перестали думать о поэзии. Поэт в отсутствие критики. Напряжение: пристрастие и беспристрастие. Это мне очень дорого. Это дневник и производственный роман.
Ряшенцев. Спокойствие и внутреннее достоинство (как у Гумилева). Эта книга написана нашим братом – гренландским тюленем. Журналистские книги о поэзии невыносимы. А страна наконец-то перестала притворяться, что она любит стихи. Я помню, как уходили из критики люди. Фаликов абсолютно лишен групповых пристрастий.
Чухонцев. С годами я разучился говорить о поэзии. Только частные замечания. Это ближе к адамовической критике, нежели к гумилевской… Я в школе перечитывал Есенина, на первом курсе – Мандельштама. Сейчас начали издавать третьестепенных поэтов. Наше поколение тоже уходящая натура, но мы застали великих поэтов. Мне врач, старый, тугоухий, как-то сказал: «Вы, наверное, не читали еще Анненского». На первом курсе я любил Павла Васильева, Бориса Корнилова, на третьем – Тютчева. Великого поэта девяностые не дали. Ретрансляторы смысла встали впереди смысла. Не все люди развиваются на протяжении жизни.
Шайтанов. Быт заслонил поэзию. Нужно ли знать сор, чтобы понимать стихи? Библиография опережает литературу. Он знает сор, но им не заражен. Этого здесь, безусловно, нет… Он подобрал несжатые колоски. Поэты не слышат поэтов. Илья Фаликов нарушил привычку поэтов – не читать друг друга.
Алёхин. Как объявлено у нас, это дискуссия. Я пришел дискутировать. Уж больно всем сестрам по серьгам. Я и есть апологет этих десяти-пятнадцати лет. Прихода новых форм, изменения музыкальной основы стиха. Появилось новое стихомышление. Весь поздний Самойлов отвратителен для чтения, потому что это голая техника! Я очень рад, что это движение поэзии отражает Илья Фаликов.
Амелин. Я – малокрасноречивый оратор. Поэт отказывается от своей личности, чтобы понять другого. Это огромное благородство. Алёхин говорит о бушующем цветении поэзии. Я – подопытная букашка. Переоценка происходит: он сознательно отобрал ориентиры. Многих поэтов я не понимаю – о которых он пишет с любовью. У советской поэзии есть недостаток: у советской поэзии нет понятия смерти. А кто это понимает – тот не советский поэт.
Все перечисленные ораторы плюс личности, не слишком нам известные, после вечера в Малом зале набились у нас на Кисловке как сельди в бочку. Всегда поражаюсь резиновой вместительности нашего гнезда. Время от времени у нас собирались немыслимые количества литературных людей.
Теперь знаю, какой важный год был 2001-й. Следующий, 2002-й, многое зачеркнет в нашей жизни. Но я и дневник вела только в первом полугодии. А потом наступил полный мрак. Но про это я писать не буду.
Выбрала в дневнике дату. Так богатый автовладелец выбирает красивый номер для своего автомобиля: 01.01.01, понедельник. 7:30. И ниже – несколько страничек из карманной записной книжки, двухсотстраничной:
Мы вдвоем вернулись домой в середине новогодней ночи. Едва пробило двенадцать, не допив свой брют, отправились в Александровский сад, через него – на Красную площадь, потом на Тверскую. Дошли до Пушки[12]12
Пушкинская площадь (жарг.).
[Закрыть] и по бульвару пришли домой.
Нынешней ночью у нас разные программы. Я лежу у себя на диване, пытаясь заснуть.
Ф. не ложился, бодрствует с бутылкой «Привета» и двумя бутылками «Старого мельника».
Открыла синий том Мандельштама. Предисловие Александра Дымшица не осилила. Открыла примечания Харджиева. До стихов дело не дошло, не те мозги.
Весь прошлый год почитывала собственные тетрадки и блокноты, разложила по альбомчикам фотоархив. До перепечатки дневниковых записей дело не дошло.
P. S. Пива, которого я терпеть не могу, Ф. давно не пьет. В Ялте оценил красное сухое вино. Никакое пиво не сравнится с бокалом «Бастардо», выпитого в кафешке над прозрачной, бегущей по камешкам Учан-Су. Сидишь и ждешь, когда прилетит трясогузка. Она каждый день появляется на большом плоском валуне и занимается своими делами. Эту трясогузку присвоил себе Ф., я на нее не претендую. У меня есть своя пластинка, посвященная лангенбройхским трясогузкам…
Вот так всегда бывает: думаешь об одном, но прилетит трясогузка, прилепишься к ней взглядом, отвести его не можешь. И все поехало в другую сторону.
Посткриптум о вреде пива для организма неминуемо приведет туда, где его очень любят. Это деревня Лангенбройх недалеко от Кёльна. А в Кёльне теперь (достаточно давно) живет поэт Даниил Чкония. Это он, зазвавший Ф. в Германию и все сделавший для его приезда, донес до сведения начальников из Фонда Бёлля, что ныне живущий в поместье классика стипендиат Ф. соскучился по своей жене-поэтессе. И Дунька попала в Европу. Некоторые особенности характера и поступков Даниила я запечатлела. Не выношу туристических экскурсий, но только не тогда, когда их ведет друг Даниил, блестящий говорун.
Муза, воспой Даниила. Он песни достоин.
Поднял флажок предводителя в стенах брюссельских
и поутру подарил нам Атомиум. Славно
выглядит этот аналог прославленной башни.
Едем в автобусе по королевским владеньям.
Небо безоблачно над павильоном китайским.
Тучка проносится, пагоды не задевая, –
столь лаконична японская эта цитата.
Муза, воспой Даниила, поэта и друга!
Что мне Европа и добрая эта столица? –
Все в ней на совесть и все в ней с хорошей оглядкой –
помнит же твердую руку барона Османа.
Муза, воспой Даниила! Беспечный даритель,
некогда нам подарил он Батум и Арагву,
и на закате – литой силуэт цитадели.
Бойтесь данайцев. Без умысла – дар Даниила.
Муза! Тщеславная, запечатлелась я нынче
даже на фоне трагической Рыбы Магритта.
Но обошла я, конечно, с брезгливою миной
струйкой своею весьма нашумевший фонтанчик.
Улочек узких, харчевен, гурманских притонов
я б не чуралась, да дырка в кармане мешала.
Муза, воспой Даниила! Бесценный даритель –
так он рожден – с широтою грузинского жеста.
Чем занимался бёллевский стипендиат? Жил в поместье Бёлля, гулял по окрестностям великолепных деревень, писал что хотел, выезжал на выступления и встречи с читателями в разные города, прежде всего в Кёльн, побывал и в Бонне. При жизни Бёлля эту деревню посетил и немного пожил в ней Солженицын в первое время изгнания. Часто гостил Лев Копелев, близкий друг Бёлля. Лангенбройх принимал у себя художника Юрия Ларина, сына Н. Бухарина, а также писателей А. Волоса, В. Кантора. Здесь побывал творческий народ из многих стран мира.
Горы, долины, реки Рейн и Рур, германские дубы, кукурузные поля, коровьи и овечьи стада, пробегающие косули, майские соловьи, шпили кирх, лопасти ветряков, зелень флоры и небесная лазурь, земля Северный Рейн-Вестфалия.
Но я вернусь к своим трясогузкам. Их появление датировано: 26 июля 2001-й. Далее мой дневник повествует о времени, проведенном за круглым столом перед домиком Анны Марии Бёлль, вдовы Генриха Бёлля, время от времени навещающей деревню. Фотоаппарата у меня не было, но дневник сохранил мой рисунок: домик, круглый стол, дачное кресло, листья плюща для памяти, со всеми прожилками, искусственное болотце.
Мадам Бёлль. Так зовет вдову фрау Людвиг, опекавшая нас бывшая соседка Бёлля. На прощанье фрау Людвиг мне подарила его фотографию в рамочке и поющую бархатную лягушку (возможно, символ Лангенбройха). Лягушка, если нажать ей на брюшко, поет до сих пор. Фрау Людвиг – логопед, разговаривать на моем французско-английском «моя – твоя» с ней было почти безболезненно. Она знала толк в том, что такое артикуляция. Кое-что мы друг о друге узнали: она была из тех мест, где я пошла в первый класс. Немка, протестантка. Из Восточной Пруссии. Ее покойный муж был в Лангенбройхе «пожарников начальник» и еще чего-то командир. По-моему, в Генриха Бёлля она была бесконечно влюблена. И поделилась бы со мной воспоминаньями, кабы я могла ее толком понять.
…Я сижу на мощеной площадке у домика мадам Бёлль. С площадки – вход на кухню, довольно аскетичную: длинные полки вдоль стен, стеллаж с жестянками чая. Корзины, термос, кофейник – утварь немудрящая. Простота эта – кажущаяся. Интерьер продуман сыном Бёлля Винсентом, профессиональным архитектором. Все бёллевское подворье когда-то было крестьянским двором. Особенно пленила меня бывшая конюшня, переоборудованная в студию для живописцев.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































