Текст книги "Немилосердные лета"
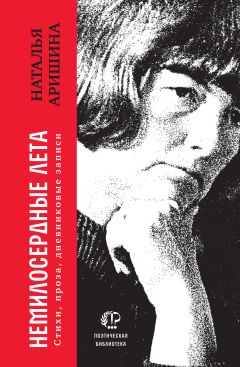
Автор книги: Наталья Аришина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Старые сирени и обе черемухи Александровского сада не вписались в его новейший облик, целая шеренга лип вдоль допожарного Манежа исчезла, как не было. Теперь – нахрапистые кони Церетели, зверье на дне канавки и прочий его фирменный кич. Пузыри на Манежной. А было: «На площади Манежной бросал монету в снег…» До чего же грустно и нежно звучит голос Беллы внутри меня!
Земляк-азербайджанец отдал мне левкои совсем даром. До больницы я шла, опустив лицо в свой невероятный белый и фиолетовый букет. Не могла надышаться. Это были единственные левкои за всю мою четвертьвековую Москву.
Из глубины коридора мне навстречу в коротком халатике, в шлепанцах на каблучках своей зыбкой походкой шла Б. А. И я поняла, чьи левкои у меня в руках. Цветы ушли по назначению.
В ее палате по всем углам стояли маленькие дешевые иконки, в банке с несвежей водой – три поникшие гвоздики. Ее день рождения еще не наступил.
Я записываю то, что вспоминаю, не соблюдая хронологии. Это, по-моему, естественно. Пусть вспоминается как вспоминается. Даже если бы я этого не записывала, все равно что-то постоянно в памяти всплывает. Или снится во сне.
…Неведомо куда мчится поезд, составленный из разнокалиберных вагонов. Такие бегали в сороковых, пятидесятых, шестидесятых. Удушающе пахнет паровозной гарью. Я вижу себя на станции с пирамидальными тополями: сажусь в притормозивший поезд, иду по вагонам, ищу свободное место. В поезде – одни литераторы, весь, в моем понимании, цвет Союза писателей. В конце последнего вагона вижу Олега Чухонцева, притулившегося на боковушке. Он меня не видит, смотрит в окно. А я думаю: можно ли считать, что мы знакомы?.. Сон кончается, никто никуда не доехал.
Как всегда жалко, что сон кончился. Просыпаюсь, как правило, посреди ночи. И уже до утра не получается уснуть. Гадаю: на какой станции я села в поезд? Таких две. Закрою глаза и отчетливо вижу Дербент с шеренгой тополей за железнодорожными путями. Опять закрою глаза – и вижу Мелитополь. Там они росли повсюду. Все последние годы прошлого века я проезжала мимо, едучи в Крым. В Дербенте могилу деда на кладбище Кырхляр сровняли с землей. Даже Мелитополь стал заграницей. Пока была жива, могилу отца навещала лишь его единственная сестра Надежда. Братьев было четверо.
Не спится. Лежу и думаю о своем и чужом: где между ними граница? Вспоминается вычитанное у Плутарха: «Поскольку поток времени бесконечен, а судьба изменчива, приходится удивляться тому, что часто происходят сходные между собой события». А какой-то классик сказал, что мелкие события сближаются столь же странно, как и великие.
Вспомнилась Ялта позапрошлого лета, возможно, последняя наша с Ф. Ялта.
И опять вспомнилась Белла. Она углядела в Ялте любимую птицу моего детства. Было это в мае 1970 года: я видела в книге воспоминаний о ней[4]4
М. Завада, Ю. Куликов. Встречи вослед. Библиотека мемуаров «Близкое прошлое». – М.: Молодая гвардия, 2017.
[Закрыть] воспроизведенную страницу ее письма к дочке Ане. Там был и стишок.
Но не хочу утешенья другого.
Дайте мне долго смотреть на удода.
Только одна мне удача угодна:
Пусть процветает семейство удода.
Пусть говорит восхищенный народ:
Славься, прекрасная птица удод!
Под стихами нарисован удод – на повисшей в пространстве ветке. И сбоку – автопортрет Б. А. Во весь рост, с простертой к птице рукой. Похоже на детский рисунок. Портрет удода – так себе. Он во всей красе виден только в полете. Автопортрет удачней – сходство передано неуловимо. Так бывает, когда рука талантлива. Небрежная прическа, расклешенные брючки по моде семидесятых. И жест свой она передала достоверно. Стихи про удода помню по публикации в «Юности». Они начинались строкой «Анина мама, гуляя у дома, каждое утро встречает удода».
Что же касается меня… Я перешла в пятый класс в еще недавно бранденбургском Пиллау. Теперь это Балтийск. Но учиться дальше мне пришлось в Дербенте – родители за очередную выходку отправили в очередную кавказскую ссылку. К деду и бабушке. С ними мне было хорошо, а вот с родителями – не складывалось. Первый раз я попала в переплет, когда отец служил в предместье бывшего Кёнигсберга (он был к тому времени офицер, военный врач, флотский), а я пошла в первый класс. В свою первую школу я ходила по заброшенной немецкой узкоколейке, проложенной через лес с корабельными соснами. Высажены они были и росли как по линейке. Но ходить в лес было строжайше запрещено. Повсюду надписи «Запретная зона» и «Осторожно, мины». Но я и мои товарищи, деревенские мальчишки, дети переселенцев из разоренных войной белорусских сел, частенько пренебрегали запретами ради пригоршни черники или особенно блестевшей патронной гильзы. Однажды мне было поручено спрятать немецкую гранату. Мне, потому что только у меня был портфель, а у моих одноклассников не было ни портфелей, ни учебников, ни пеналов, ни чернильниц-непроливашек. В школу меня собирала бабушка: сшила форму из маминого школьного платья старшеклассницы. И три фартука, два черных и один белый. Научила пришивать кружева к воротнику-стойке и манжетам. У нее откуда-то была целая шляпная коробка тесьмы, кружев и лент. Из этой коробки возникло для меня загадочное слово «Валансьен», которое всплыло и пригодилось только в следующем веке. Дед подарил маленький коричневый портфель из тисненой кожи с замочком. Мне было стыдно, что я явилась в школу при таком параде. Но делать было нечего. Впрочем, меня, белую ворону, никто не обижал. И даже мой портфель с замочком пригодился. В него-то мы и упаковали найденную гранату.
В тот день меня гулять не выпустили, а к вечеру у меня поднялась температура. Гранату я привязала к маминому поясу от халата и спустила из окна бельэтажа сыну нашей молочницы Борьке. Пояс так и остался привязанным к гранате, когда она в тот же вечер взорвалась. Он-то и выдал мою причастность к истории с гранатой. Один из мальчишек погиб, Борька остался без глаза. А меня больше в школу не пустили. За мной приехала бабушка и увезла в Дербент.
В Дербенте я окончила второй класс. Отца перевели в Балтийск. Третий класс прошел там благополучно, а в четвертом я ухитрилась провалиться под лед, попав в полынью, оставленную рыбаками. На Каспии дед брал меня на рыбалку, но ловили мы с берега тарань и бычков или шемайку с камней возле бойни…
В пятый класс я пошла в уже знакомую школу в Дербенте. Была она в соседстве со станцией, на мощенной булыжником улице, и именовалась «железнодорожной». Название улицы я забыла. В школу меня провожала бабушка и приходила за мной к окончанию уроков. Она сидела и ждала меня в соседнем скверике, из которого были видны школьные ворота. Я такой плотной опекой тяготилась, но помалкивала.
В отпуск в Дербент приехал отец. И в тот же день был вызван в школу. До его приезда никаких эксцессов со мной не происходило. Вызвала родителей «англичанка» – армянка. Мне она поначалу нравилась: красивая, яркая, с крупным носом. И одевалась она по тем временам очень нарядно. Имени ее уже не помню. Но помню, что она любила повторять на разные лады: «Вот так, в таком разрезе». Английский в ее подаче меня не увлек: я начала писать стихи, и особенно одолевал меня этот зуд на уроках английского. В тот злополучный день она застукала меня за попыткой воспеть удода, поразившую меня экзотичную птицу: ее сильный длинный клюв, почти павлиний хохолок и непохожие на птичьи узорчатые крылья. В полете он казался мне похожим на бабочку. А на земле вечно ковырялся в бабушкиной клумбе, добывал рыже-коричневых медведок, весьма устрашающего вида насекомых с мощными челюстями. Даже скорпионы меня пугали меньше – в них было что-то опасно-грациозное. Скорпионий укус мне случилось претерпеть, когда я, забравшись на высокую ограду из ракушечника, окружавшую наш двор, пыталась разглядеть в бабкин театральный бинокль крепость в горах – Нарын-Кала. И я очень хотела там побывать. А потревоженный в своей щели скорпион уколол меня своим ядовитым хвостом. Бабушка, ворча, достала из шкафа банку с оливковым маслом, в котором плавали сородичи моего обидчика, и тампоном, смоченном в этом снадобье, помазала укушенное место.
Про удода я писала так:
Крепконосая, пригожая,
чем-то с бабочкою схожая,
птица пестрая удод
жить медведкам не дает.
«Англичанка» почему-то решила, что я высмеиваю ее. Она вырвала у меня из рук листок, разорвала его в клочья, выгнала меня вон и велела прийти с родителями. Утром я появилась с отцом. У него была отличная выправка, голубые глаза, орлиный нос и неотразимая военно-морская офицерская форма. И я поняла, какое впечатление он произвел на бедную училку. Видела бы она его в парадной форме с кортиком!
Она терпела неделю, а потом вызвала его снова. И я сказала ей: «У папы кончился отпуск. Дедушке прийти?» – «Вот так, в таком разрезе… – сказала она, – нет, дедушку тревожить не будем».
Английский я до сих пор знаю скверно. Даже армянский, который я решила освоить в Литинституте, давался мне легче.
Глава втораяПандемия придала нашей повседневной жизни абсолютно иной ритм. К ограничениям мы довольно легко и быстро привыкли, несмотря на потерю летней Ялты, весьма ощутимую. Мы обзавелись новыми привычками.
Наше внимание привлекла клумба в метростроевском сквере. В прошлом эта территория была монастырским садом, к которому примыкала гимназия Марины Цветаевой. Она сад навещала. Но от того сада едва ли осталось хотя бы одно прежнее дерево. У нас было подозрение по поводу возрастного с виду английского клена на самом краю сквера, но кто же в саду, да еще монастырском, заводит клены? Английские клены, по моим наблюдениям, долголетием не отличаются. Они обрастают морщинистыми наростами, в ураганные дни теряют крупные ветки, по-стариковски сутулятся.
Знаю один в Лебяжьем переулке в тылу межировского дома. Клены эти еще тем прекрасны, что, при голизне соседей, стоят обвешанные золотистыми летучками с семенами внутри. Зачем-то берегут семя при себе. Но поздней осенью и зимой они радуют этими золотистыми то ли кружевами, то ли кудрями. Клен в Лебяжьем переулке не живописен и не кудряв. Похоже, что на середине ствола по нему прошлась пила тех, кто отвечает за городское озеленение (не знаю, как называется эта контора). Главный ствол – в полтора моих роста, то есть всего-то метра в два с половиной. На уровне моего лица – нарост с человеческую голову.
Я пригляделась к нему. И он вроде как глянул на меня – это был лик сэра Уистена Одена. Для меня его метафорой раньше виделся старый известняк с рытвинами и трещинами. Впрочем, морщинистое лицо уходящего сэра Уистена мне не казалось старым. Оно излучало особенное, оденовское обаяние мудрого английского алкаша, никогда не теряющего самообладания. Я прочла у Бродского перечень напитков, которые сэр употребил в день их знакомства в его присутствии. Это питие как бы заменяло стихотворение, которое пишется для разгонки. Вырисовывается пучок неожиданных строк, которые непременно пускаются в работу. Впрочем, Оден писал каждый день не только стихи. Не знаю, чем он страдал, трудоголизмом или алкоголизмом. Оденоподобный клен, ствол которого укоротила неведомая пила, выбросил в пространство пук прямых, расходящихся в стороны молодых веток. Они зеленели вхолостую, не думая о потомстве. «Здравствуйте, сэр Уистен, – говорю я. – Вас не стесняет такое близкое присутствие этого дома? Не заслоняет ли он свет? Не слишком ли густая падает от него тень? Уж не это ли соседство оставило вас без изначальной кроны?» Мне нравится болтать эту чушь. Ф. стоит рядом и слушает вполуха.
Лебяжий переулок, дом 1. Адрес указан в стихотворении Межирова «Медальон». По этому адресу межировский герой шлет треугольники писем с фронта. Об этом же доме молодой Пастернак, снимавший там комнату, писал: «Коробка с красным померанцем – моя каморка…».
Под этой крышей срифмовались две войны!
В бывшей Лебяжьей слободе, а это были земли боярина Никиты Зотова, вечно что-то перестраивалось. И хозяева тоже менялись. К ХХ веку образовался изряднейший культурный слой. С 1912 года перестройкой будущего дома с майоликами в Лебяжьем занялся архитектор Сергей Гончаров, отец моей любимой художницы Натальи Гончаровой.
Когда началась Первая мировая война, гончаровская перестройка все еще длилась: на полях войны с переменным успехом сражаются русские и немцы, а в абрамцевской печи обжигаются майоликовые плитки, чтобы сложиться в панно под крышей гончаровского дома. На современные события майолики только намекают – на них изображены сцены из баллады А. К. Толстого «Боривой»: «Сшиблись вдруг ладьи с ладьями – и пошла меж ними сеча». Примечательна дата этого крестового похода немецких князей на балтийских славян: 1147-й. Год первого упоминания Москвы в летописях. Едва ли это случайное совпадение. А. К. наверняка об этом помнил, когда писал свою балладу. Славяне немцев победили. Что из того, что своего грозного Боривоя, славянского вождя, поэт придумал? Духоподъемные майолики появились в Лебяжьем в дни Первой мировой, когда опять пролилась кровь давних противников. Всего десятилетие пройдет – и в Лебяжьем появится на свет Александр Петрович. Он сам признавался, что родился фантазером и мечтателем. Не успел выйти из мальчишеского возраста – «как вдруг война», нешуточная, Вторая мировая. «Я прошел по той войне, и она прошла по мне…».
В Лебяжий я попала после выхода книжки Межирова «Лебяжий переулок». Однажды он после своего семинара на Высших литературных курсах посадил меня в машину и повез показывать Москву. Привез в Лебяжий и сказал: «Я здесь родился». Еще мы тогда побывали на Новодевичьем – А. П. показал мне могилу Луговского, своего учителя.
Знакомством с семьей Межировых я обязана Ф. Сама бы я в дом поэта прийти не осмелилась, уже было написано Ахматовой «Я пришла к поэту в гости…». Подражать стыдно. Пусть А. П. и был для меня, как Блок.
Межиров написал очень похвальный отзыв на зависшую в Дальневосточном издательстве рукопись стихов Ф., часть отзыва потом стала предисловием к вышедшей книге «Олень» (1969). Ф., будучи в Москве, в разговоре с Александром Петровичем упомянул, что его жена, то есть я, приедет в Москву учиться в Литинституте. А. П. заочно пригласил меня в гости.
Этот день я помню еще и потому, что это день похорон И. Г. Эренбурга, в центре города на улицах было некоторое напряжение. И мне по телефону Елена Афанасьевна, жена А. П., объясняла, как к ним добраться от Новодевичьего. А Ф. в это время уже бороздил дальневосточные моря. Он ходил то матросом, то библиотекарем на огромной, как город, плавбазе. Есть чудная фотография: он, юный, сидит на фоне книжного ряда своей библиотеки с развернутой «Литературной газетой» в руках. В этом номере напечатано его стихотворение «Татьяна Ивановна».
Лебяжий переулок мы теперь навещаем вдвоем. Разглядывая центральное панно межировского дома, выполненное по отливкам Врубеля, я однажды предположила, что именно красавица в подводном царстве, которая изображена на нем, – прообраз межировских балерин. Он видел ее еще до того, как его «писать учили Тулуз-Лотрек, Дега». Эта модель Врубеля по фамилии Гузикевич была балериной в театре Солодовникова, бывшего владельца дома. Глядя на красавицу на центральном панно, рядом с которой идет сражение, разбиваются в щепки и тонут боевые ладьи, я вспомнила межировское стихотворение про балерину из кордебалета, поразившую воображение мальчика-солдата на театре войны: «Переулок мой Лебяжий, лебедь юности моей…».
Метростроевская клумба круглится посреди хорошо подстриженного газона. Над ней постепенно поднимаются стебли цветов, которые мы условно называем «тиграми». Условно, потому что они имеют отдаленное сходство с тигровыми лилиями и дикими саранками, которые гораздо скромнее (привет из дальневосточного детства Ф.). «Тигры», которых множество росло в палисадниках облюбованного нами уголка Ялты, обычно начинали цвести с приближением дня рождения Ф.
Обнаружив московскую клумбу с начинавшими подниматься знакомыми стебельками там, куда мы обречены ходить чуть ли не ежедневно, мы сочли это добрым знаком. Нам перекрыли доступ к прежней помойке, но метростроевская, как оказалось, имела свои преимущества. Опустив мешок с мусором в контейнер, мы отправлялись наблюдать за «тиграми». Они нас не подвели: 24 июня я, оправдывая себя пандемией, – назло врагу сорвала с клумбы влажный от утренней росы стебель с оранжево-красным цветком и еще двумя готовыми раскрыться бутонами. Оба по очереди расцвели на столе у Ф. За обедом я выпила бокал массандровского шардоне, чокнувшись с флорентийской замысловатой бутылью, в которой пылал цветок. Ф. временно наложил на себя запрет на спиртное.
Прошедший год все отдаляется и отдаляется, а карантин, хоть и ослабевая, длится и длится. Вот уже и февраль на исходе, с переизбытком снега, с, казалось бы, забытыми морозами, ощутимо о себе напомнившими.
Иду по заснеженной Поварской в Дом литераторов. Давненько туда не заглядывала. Все еще фальш-фасад закрывает здание с аркой, ведущей к Гоголевскому скверу, но арка не перекрыта. Можно было бы попетлять по переулкам и потом уже выйти к ЦДЛ. Но в переулках снег не убран, бог знает что прячется под ним на тротуарах, а во дворах и вообще по пояс. Поварскую в такой красе я тоже не упомню, когда видела. Снег чистый, в воздухе кружатся мелкие снежинки, не мешают ни ходу, ни зрению. Даже наоборот.
Подхожу к скверу, перед которым стоит… Нет, это не Бунин. Это какими же глазами надо было увидеть Ивана Алексеевича, чтобы он оказался похожим на трактирного полового? Стоит истукан с перекинутым через руку полотенцем: «Чего изволите?»
А сквер заснеженный – прекрасен. Замело снегом пень знаменитого вяза, но я его помню огромным, зеленым, казалось, готовым простоять еще не одну сотню лет. В перестройку на него покушались – общественность стеной встала на защиту. Еще немного он постоял, а потом втихомолку снесли, оставили огромный пень с табличкой, чем он был.
Поэта, который громче всех защищал исполина, уже нет на свете. Каюсь, меня не было среди тех, кто его читал. Помню, что однажды обнаружила в холодильнике недопитую кружку пива, накрытую его книжкой под названием «Ярило». Издательство помню – «Современник». А имя начисто забыла. Мой сын после ухода из вуза, собираясь идти в армию, на время устроился в ЦДЛ работником сцены. Мне, зашедшей туда по пути домой, на мой вопрос, не видел ли он отца, ответил: «Сидит в Цветном кафе с Ярилой».
У меня в изголовье висит фотография моего по-мальчишески миловидного сына той поры, сделанная штатным цэдээловским фотографом.
В фойе ЦДЛ у администратора, в шкафчике под лампой, Ф. и мне оставлена новая книга Юрия Ряшенцева. Сам автор оставил, еще неделю назад.
ЦДЛ вполсилы, но заработал. Юрий Евгеньевич приходил встречаться с «мальчишками». Выпивали в кафе, не кофе (рассказала подруга, Наталья Познанская, она же – заведующая литчастью ЦДЛ). «Мальчишкам» под девяносто. У Ю. Е. эта круглая дата (круглее не придумаешь) – в нынешнем июне. В Коктебеле в былые годы дни рождения отмечали с небольшими передыхами почти весь месяц: художник Валерий Сергутин, поэт Борис Романов, поэт Юрий Ряшенцев, поэт Илья Фаликов.
В редакции поэзии журнала «Новый мир» поныне висит на стене венок, сплетенный мной из горной флоры в Коктебеле для Олега Чухонцева, в свое время сидевшего в том кабинете. Привезя с юга это незатейливое изделие, я вручила его поэту – певцу Коктебеля. Он был крайне растроган, долго упивался его запахом и собственноручно прикрепил высоко на стену, над своим местом в редакции.
В 2000 году я помогала Владимиру Коробову (в Союзе российских писателей) составлять крымскую антологию, которую он назвал «Прекрасны вы, брега Тавриды…». В том же году она и вышла. В выходных данных – те же имена: редактор Б. Романов, художник В. Сергутин. Ф. прячется за псевдонимом – корректор И. З. Седловский. Фаликов тоже присутствует: набор – И. И. Фаликова. Это наш с И. З. сын.
Я тоже объявлена – в длинном списке тех, кого В. Б. Коробов благодарит за помощь (вкупе с Российским авторским обществом, порог которого я обивала, ища обладателей авторских прав и предупреждая, чтобы денег не ждали…).
В число авторов мы, в каком-то смысле «последние коктебельцы»[6]6
Мне, разумеется, известно о многолетнем существовании Волошинского конкурса поэзии, о патетических джазовых фестивалях на том берегу, но это – другой Коктебель, не наш.
[Закрыть], тоже вошли. Последний коктебельский день рождения Ф. мне особенно памятен. Ряшенцев прочел с листа стихотворение «Феодосийское лето» и вручил, с посвящением, новорожденному. Существовало оно в одном экземпляре, написанное от руки. Было вручено Ф. 24 июня 1998 года. По моей просьбе включено Ю. Е. в его подборку в антологии. Он удивился. Он уже забыл о своем шедевре, а я до сих пор вздрагиваю от строки «спор камней у фонаря…». Листок я нашла.
…Мчатся будни моментальные,
и давно нам не новы
тополя пирамидальные –
взрывы веток и листвы.
И недавно в парке пропитом
было нами решено
не ходить к знакомым профилям –
мы чужие им давно.
Не союзами, не сектами
мы от них отделены.
Просто – люди фин-де-сьекля мы.
Много ль нашей в том вины?
Краткий день тысячелетия –
вторник или, там, среда.
Что всегда держал в секрете я
молвлю, хоть не без труда:
просто жил я слишком сдержанно,
шастал где-то стороной –
пораженье ли одержано
иль триумф потерплен мной.
Между тем соседство близкое,
спор камней у фонаря –
вся тщета феодосийская –
это все не зря, не зря[7]7
Ю. Ряшенцев. Феодосийское лето.
[Закрыть].
…Хорошо помню разговор с Юрием Кузнецовым, которого я с несвойственной мне настырностью уговаривала поучаствовать в крымской антологии. Раздраженным и категорическим тоном – по телефону – он говорил мне, что о Крыме никогда не писал, а я стала читать ему – по его книге – длинную фантасмагорическую балладу «Четыреста», и он дослушал ее до конца (она заняла потом шесть страниц в антологии). Потом он разговорился, и мы как-то даже нехотя расстались навсегда.
Мы учились в Литинституте почти в одно время. Был только один эпизод, с ним связанный: однажды я с его будущей женой, Галей Каукеновой, целую ночь переписывала изданный за рубежом сборник Гумилева. Гумилев ее не интересовал, она хотела сделать подарок Юре. В Литинституте она называла себя Галей. Но свою жену Юрий называл ее настоящим казахским именем Батима. У нее были сильные, длинные, ниже пояса, волосы, похожие на роскошную гриву породистой вороной кобылицы. После Литинститута она многие годы работала переводчиком в Верховном суде. Его здание высится рядом с бывшим издательством «Советский писатель».
Помню отказ А. С. Кушнера участвовать в антологии – гонораров авторы проекта не предусмотрели, а сообщать поэтам эту приятную новость предоставили мне. А. С. резонно полагал, что за работу надо платить. У меня тоже были претензии к руководителям проекта, но они оформились не сразу. Уж очень нравилась идея антологии, и не было представления о законах рынка, много чего не было. Денег тоже не было, но они так и не появились никогда. Зато антология есть. Тираж 5 тысяч. Даже у моей первой книжки «Терновник», вышедшей в 1983-м в «Советском писателе», тираж был 10 тысяч.
В более поздней книге «Крымские страницы русской поэзии: антология современной поэзии о Крыме: 1975–2015» (СПб: Алетейя, 2015), мы с Ф. тоже участвуем большими подборками, в незримых ветеранских лаврах…
Я все еще бреду домой из ЦДЛ. Обратно – по Большой Никитской. Хожу я по ней полвека. Никогда она не была такой великолепной. Когда-то, уже при мне, и про нее можно было сказать «неровный строй домов сутулых» (стих Межирова). Я счастлива, что она есть – такая, какая есть сейчас. Вся закутанная в снега. Вокруг храма Большого Вознесения уже в мою бытность деревья стали большими. На них сейчас пышные барские шубы. В воздухе порхают легкие снежинки. 61-метровая колокольня, которую наконец-то получил храм, возникла и стоит, как будто всегда так и было. 20 мая 2004-го ее освятил патриарх Алексий II. Колокольня не выглядит новоделом, жаль, что Пушкин венчался не под ее колокола. Про странную ротонду с незнакомой малорослой парочкой внутри, странный придаток к храму на краю сквера, промолчу. Красный граф А. Н. Толстой сидит, бронзовый, лицом к колокольне, спиной к палатам великого Суворова. Александр Васильевич крестил свою Суворочку не в недостроенной громадине Большого Вознесения, но здесь же, сбоку припеку, у Феодора Студита, в его вовсе не студеной, а теплой и уютной церковке. Здесь, раз в жизни, по просьбе своего растерявшегося сына, я со слезами молилась перед образом, который мне указала торговавшая свечами женщина, уверенная, что он помогает роженицам. На белой стене висел вовсе не образ, даже не икона, а тускловатыми красками писанная картина, сюжета которой я не помню. Я плакала от бессилия, от презрения к своему неверию и читала подряд все молитвы, которые помнила наизусть. Читая молитву Ефрема Сирина, я пришла в себя. «Господи и Владыко живота моего…»
Невестка моя трудно, но родила. Моего внука сын назвал не в честь императора Константина и не в честь города, в котором родился преподобный Феодор Студит, а в честь своего друга Кости, единственного из сверстников, к которому он тянулся. Счастлив в дружбе мой сын не был. На крестины меня не позвали.
За два года до рождения внука мою внучку крестили в Большом Вознесении. Крестным был мой деверь. Хороший был день. Никто никого не раздражал, все были родные. Такие дни выпадают редко. Про свою крестницу деверь потом ни разу не вспомнил. Воцерковление его как-то сошло на нет, а я и вовсе не воцерковлялась. Но «атеистка» – это не про меня. Заполняя немецкую анкету по приезде в немецкую деревню Лангенбройх к Ф., тогдашнему стипендиату Фонда Бёлля, в графе «вероисповедание» я тогда написала «традиционное». И я знаю, что Ф., сказавшийся атеистом, никакой не атеист по сути. Дед его, сын сосланного в Сибирь поляка Седловского, естественно, был католик. Ни малейшей тяги к католицизму я за Ф. не наблюдала, но и к атеизму – тоже. А во мне, когда я твердо выводила «традиционного вероисповедания», ощутимо зашевелились мои православные корни. Правда, мой дед по отцу, Михаил Иванович Аришин, которого я никогда не видела, был, по семейному преданию, из ссыльных молокан. У меня с Ф., у обоих, оказались ссыльные предки. Надо ли придавать этому какое-нибудь значение? Некоторые вопросы всегда остаются без ответа.
Я прохожу, мысленно все же перекрестясь, мимо Феодора Студита. Благодарю его за помощь, за то, что я пережила, стоя перед той необычной иконой. Вспомнила и Ефрема Сирина, но вместо его великопостной молитвы, вместо «Господи и Владыко…» всплыло пушкинское «Отцы пустынники и жены непорочны…».
Место, где стоит храм Большого Вознесения, очень наташинское: царица Наталья Кирилловна жила неподалеку, там, где сейчас Столовый переулок. Первая Наталья. Дочка Суворова – вторая, дворец полководца еще ближе к храму в последней редакции (первый был деревянный; при Наталье Кирилловне – уже каменный). И Натали Гончарова тоже жила поблизости от Никитских Ворот. Конечно же, мою внучку крестили Натальей.
Недавно узнала, что и Феодор Студит был поэтом.
Духоподъемное слово я нашла у, как оказалось, близкого мне поэта Феодора Студита. Называется этот текст «К ухаживающему за больными»:
Это божественное дело – бремя слабых нести.
Его получил ты и подвизайся теперь, о чадо мое,
Чтобы совершать тебе твой путь с сердечной теплотою и усердием.
С самого раннего утра смотри за своим больным.
И ухаживай за ним прежде всего ласковыми словами.
Затем подобающим образом подноси ему дары пищи.
Каждому то, что потребно ему по его состоянию,
Ведь он твой член, не проходи мимо ближнего.
Если ты будешь так служить, то награда твоя велика будет:
Свет неприступный и небесный удел.
Первоначальной целью, ради которой я села за свой видавший виды комп, было избавление себя от накопившейся груды записных книжек. Нет, от дареных избавляться я не собиралась. Уж очень они великолепно сработаны, прямо шедевры. Вот и преподобного Феодора Студита я цитирую, сначала погладив шелковистую обложку с вытесненным на ней цветком лотоса. Прекраснейшая бумага, ни тебе клеток, ни тебе линеек. Подарок Наташи Познанской.
Миновав дурацкую ажурно-металлическую арку, которой за счет городского бюджета опять «украсили» начало Никитского бульвара, мимоходом зацепив глазами афишу театра Розовского (он, Розовский, наверняка был на ряшенцевском мальчишнике в ЦДЛ), пройдя хорошо вычищенный Калашный, я уже почти дома. Еще несколько шагов – и я нырну в свой подъезд, спрятанный под наружным лифтом (лифт уже несколько дней почему-то ходит только вниз).
«Почему “Емелино озеро”? – думаю я о книжке Ряшенцева, которую мне не терпится открыть. – И что это за Емеля?» Я хорошо помню книжку ЭКСМО 2019 года с аляповатой обложкой: «В кружащей лодке». Лодка с героем не в этом озере кружила. Хотя в третьем томе ряшенцевского пятикнижия названы Ивашка и Емелька и сказано: «уж если что в дефиците – это / кивающий вовремя собеседник». И названа тройка, в которую входят «герои российского быта»: Левша, Емеля и Балда. Это явно не цэдээловский ряшенцевский мальчишник.
Собираясь открыть Ряшенцева, я заглянула в фейсбук (до ковидного года такой привычки у меня, можно сказать, не было).
Ростовчанин Эмиль Сокольский уже прочел «Емелино озеро». А ведь за «Озером» (2020) не так давно поднявшийся огромный горный массив – вышедшее за последние годы пятикнижие Оренбургского издательства, 2011–2017. А еще «Сто стихотворений» (М.: Прогресс-Плеяда, 2018) и «В кружащей лодке» (2019)… Титан Ряшенцев!
«…Неважно, о чем идет речь – о детстве или о старости, о Москве или Провансе, о Боге или мировой литературе, важно иное: сплетение слов, мерцание метафор, настройка звука, ход ритма, поворот строки. Не тема, а фактура слова. Я могу не согласиться с тем, что стих Блока об остром французском каблуке плох, безвкусен, но я не могу не согласиться с полногласием сказанного поэтом о том или о сем, меня убеждает сам стих, а не сопутствующие ему предтекстовые задания. Стих передает состояние автора, его смятение и тоску, ностальгию по молодости, любовь к родине или ненависть к ней. У него нет окончательной точки. Он противоречит себе. Восторг, обращенный к былому, соседствует с проклятием времени, в котором происходит это великолепное былое. Просто оно прошло. “Вот и все”, как сказано у него. ‹…›
Роща поколения редела. Уходили, замолкали, терялись. Уцелевших можно пересчитать по пальцам, заговоривших по-новому почти нет»[8]8
И. Фаликов. Седьмой возраст // Независимая газета. 2018. 25 января.
[Закрыть].
Я читаю Ряшенцева «для себя», я не ученица Ряшенцева, большую часть жизни я смотрела на него издали. Можно было бы сказать, что я ученица Межирова. Но он учил, как Анненский Гумилева, сказавшего: «Десяток фраз, пленительных и странных, / Как бы случайно уроня…» Слишком многое из того, что он ронял, я не могла поднять, я в те годы была к этому не готова. Я училась сама, но с оглядкой на него.









































