Текст книги "Немилосердные лета"
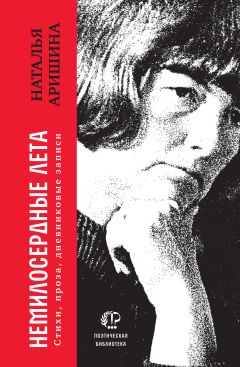
Автор книги: Наталья Аришина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Не хочется возвращаться к мертворожденной федерации, но сюжет требует завершения. С распадом СССР вопрос решился сам собой, связи с республиками разрушились. Но на мой адрес все еще приходили бандероли со стихами для альманаха федерации, в ЦДЛ собирался практически неуправляемый женский клуб. Нестареющая Дина Терещенко тормошила меня, изыскивая поводы для встреч. «Давай обзванивать девочек, – говорила она, – послезавтра Масленица». Или что-нибудь в том же роде.
Дину эта самодеятельность вполне устраивала. Она не занималась литературной поденщиной, а стихи были для души, стихи – это не заработок. На худой конец у нее имелась пенсия и остатки прежней роскоши.
Мне вернули рукопись из умирающего во младенчестве издательства «Столица». С «Советским писателем» я уже имела дело (первая моя книжка «Терновник» выходила там в течение пятнадцати лет), за переводы перестали платить. Приближалась компьютерная эра. Про мою палочку-выручалочку – машинопись – можно было забыть, хотя диссертации продолжали выпекать. Один мой товарищ по семинару Ошанина в Литинституте (завлаб, как и Алена) неплохо жил, пиша диссертации друзьям из республик и иным платежеспособным соискателям. Состояния он, к сожалению, не нажил: любил выпивать, да еще и стихи писал.
…Позвонила Лариса: «Я к тебе зайду». Приехала, вся пушистая, в меховом жакете из пестрокрашенных кусочков песца, в крупной бижутерии, заполнила собой всю нашу квартирку. «Почему у Фаликова комната больше твоей?»
Чаев гонять не стали. Я видела, что она зашла по делу. Намечалась по женской линии поездка в Испанию. «Ты поедешь в Корею», – успокоила она меня, хотя никакого беспокойства я не проявляла и вопросов не задавала, ни в Испанию, ни в Корею не намыливалась. Да у меня и паспорта заграничного сроду не было. А доллары я впервые увидела, когда Лариса их получала в кассе Большого союза перед предыдущей поездкой.
«Знаешь, – сказала она, – ты все равно мой “вице”, а Вике Токаревой для поездки в Испанию нужен статус по феминистской линии». – «Ну так пусть она будет твоим “вице”, мне без разницы». – «Ты ничего не понимаешь». – «Не спорю». – «Мы должны избрать ее президентом женского клуба ЦДЛ». – «Диночку Терещенко удар хватит». – «На тебя-то она согласна, вот ты ее и уговоришь, чтобы временно избрали Вику». – «Давай без меня». – «Без тебя будет возня, а время не терпит». – «Ну черт с тобой», – сказала я.
Оказалось, что внизу на улице стоит ее машина, женская общественность оповещена, нас ждут.
Не помню, где мы заседали, кажется, в бывшем парткоме над Дубовым залом ЦДЛ. Помещение было набито битком. Я с удивлением увидела Зою Богуславскую, она поедет в Испанию. (У них с Ларисой будет один номер в гостинице. Она потом расскажет мне, что Лариса оказалась легка в общении, чрезвычайно организованна. По утрам делала гимнастику.)
Мне улыбнулась обычно строгая Татьяна Алексеевна Кудрявцева. О Ларисе она как-то поведала мне, что дружит вообще-то с Олегом Васильевым, мужем Ларисы. Но я промолчала, когда она похвалила «Кремлевских жен». Я храню томик переведенного Т. А. в девяностых Грэма Грина с нежным автографом.
Вика Токарева сидела на видном месте и смотрела вопросительно. Вокруг нее сидели дамы, в нашей тусовке прежде незамеченные. Почему-то очень решительно выглядела моя литинститутская однокорытница Надежда Кожевникова.
Наш клуб с подачи Дины Терещенко уже условно назывался «Московитянка». Лариса заняла председательствующее место, а я села писать протокол. Забавно было бы сейчас вытащить кое-какие сохранившиеся бумаги из моего дивана, но пружина, поднимающая лежак, давно сломалась, и трогать диван опасно. Если он развалится, спать будет не на чем. Кушетка Ф. тесна даже нам двоим. Было жалко смотреть, когда на нем провел пару-другую ночей Борис Чичибабин, да еще вдвоем со своей Лилечкой Карась. Пришлось подставлять стулья…
Шуму было много. Единогласно решено утвердить название клуба. Московитянки ко мне привыкли, и на стороне постоянных участниц чаепитий был перевес. Я взяла самоотвод. Вика стала президентом. Моя группа поддержки была разочарована. Маша Авакумова перестала со мной здороваться. Не помню, провела ли Вика хоть одно заседание. По просьбе Диночки Терещенко мы снова собрались. Выбрали ее президентом. И она руководила «Московитянкой» до своего ухода в лучший мир. Меня она, не слишком обремененная образованностью бывшая рабфаковка, звала Alma Mater.
В фойе ЦДЛ подошла Зоя Богуславская и спросила, не хочу ли я устроиться на работу. Я ответила, что еще как хочу. Она улыбнулась и продолжила: «Редактором отдела культуры в “Работницу”». Только что оттуда ушел Саша Ткаченко в главные редакторы «Юности». Предложение было неожиданное, как и внимание Зои Борисовны. Я спросила, сколько времени у меня на размышление. Она наклонилась к моему уху и сообщила размер зарплаты. Прекрасно помню дату, когда я возглавила отдел культуры: 5 мая 1991 года.
В Ялте-2019 я много думала о Ларисе. Написалась «Слава».
Испытала на мгновенье жгучей зависти укор.
Замела свое томленье флорентийским платьем в пол.
И поверх голов смотрела, щурясь, с красного крыльца,
угадав, что песня спета, вся допета до конца.
В итальянском городе Таормина Лариса получила премию – ту же, что и Ахматова. Аналогию с ААА она постоянно держала в сознании. И некоторое условное сходство было. Скажем, низкий ее голос. Впрочем, она говорила так смолоду, а Анна Андреевна – только в старости. Ларисе представлялось, что Михаил Сергеевич Горбачев был увлечен ею по-мужски, и это каким-то образом повлияло на ход мировой истории – подобно тому, как ААА считала причиной холодной войны свою встречу с Исайей Берлиным.
Тема Дубны была бы неполной, если бы я не описала неожиданную встречу в поезде. Лицо и осанка сидящей рядом попутчицы показались мне определенно знакомыми. Она тоже приглядывалась ко мне. Я первая ее вспомнила, вдову моего давнего коллеги Володи Никонова. История очень давняя, но мне важно ее вспомнить.
Начать придется издалека.
Первые мои семь лет после Литинститута никак с литературной работой не соприкасались. Рукопись первой книжки без движения лежала где-то среди многочисленных несрочных рукописей издательства «Советский писатель». Судьба ее была проблематична. Я старалась об этом не думать. Ф. вдалеке бороздил моря…
В год моего окончания Литинститута наш сын должен был идти в первый класс. Для этого нужна была крыша над головой, прописка и постоянная работа. Работу я нашла, еще учась на втором курсе вуза. Просто перешла через Тверской бульвар и остановилась перед входом в самый красивый особняк бульвара. Он и сейчас привлекает внимание своими эркерами, парящим балконом прихотливого литья, цветными витражами над ним. Я не знала тогда, что к нему приложил руку Шехтель. В окне у входа белел листок с объявлением: «Требуется уборщица». На вывеску учреждения я внимания не обратила и толкнула дверь.
Вестибюль украшала лестница в стиле модерн. Белые своды потолка напоминали храмовые. Почти у входа за внушительным письменным столом сидел милиционер, за спиной которого всю панель занимали какие-то кнопки, связанные с охраной. На противоположной стене вестибюля на дубовой двери блестела табличка с надписью: «Главный бухгалтер М. И. Хренова».
Постовой еще не успел сориентировать меня насчет объявления. Отворилась дверь, выплыла сурового вида тетка и вопросительно посмотрела на него. «Вот, Мариванна, – сказал милиционер, – на работу хочет устроиться, уборщицей». М. И. оглядела меня с ног до головы. На мне была пушистая итальянская кофта цыплячьего цвета. «Уборщицей? Такая красивая девка – плевательницы за этими… (тут М. И. употребила не очень цензурное слово) мыть?!» «Деньги нужны, Мария Ивановна». Услышав, что я давно совершеннолетняя и что имею сына, М. И. заметно ко мне расположилась. «Грамотная… Стишки, значит, пишешь… Что еще умеешь?» Я даже вздрогнула, до того бурно она обрадовалась, что я профессионально печатаю на машинке. «Приходи завтра. Будешь у нас референтом». По сравнению со стипендией в 26 рублей 50 копеек, которой меня, как замужнюю, едва не лишили, зарплата в 130 рублей мне показалась сказочной. Мария Ивановна была фронтовичкой. Она и потом меня опекала. А контора, куда я ткнулась, прельстившись изысканной архитектурой, оказалась Прокуратурой Московской области.
С постовым Геной подружился мой сын: я часто по выходным брала его с собой на работу. Постового он звал Крокодилом Геной. Мои сослуживцы его баловали. Однажды Гена подарил ему машину с ракетами, которой можно было управлять при помощи пульта. Я сидела в приемной и перепечатывала очередное обвинительное заключение, а Чебурашка занимался своей игрушкой. Внезапно (это была то ли суббота, то ли воскресенье) в приемную вошел мой начальник, областной прокурор Владимир Васильевич Кузнецов. Проворчал по поводу папок с уголовными делами, которыми снабжало меня следственное управление: для перегруженных следаков вовремя перепечатать обвинительное заключение было большой проблемой. В мои обязанности, референта прокурора, это не входило. «Обнаглели», – проворчал В. В. и прошел в свой кабинет. Послышался какой-то шум, голос моего сына: «Цель опознана! Огонь!..» Он спрятался в камине и оттуда пальнул ракетами в моего начальника. Тот от неожиданности опрокинул стул. Я влетела в кабинет. Произошла немая сцена. Последствий инцидент не имел.
Я почти приблизилась к истории моей попутчицы, котораятоже ехала на женский форум в Дубну. Она и ее муж были юристы. И родители обоих занимали крупные должности. Особенно отец Володи, генерал КГБ. По Володе это было совсем незаметно. К тому времени, как он появился в нашей конторе, я опять была студенткой. Меня приняли сразу на третий курс ВЮЗИ, заочного юридического института. Я путалась в хвостах по специальным предметам. Покой мне только снился. Должность моя называлась следователь-стажер. Мои коллеги и доброжелатели не поддерживали мой выбор, мой начальник облпрокурор хотел, чтобы я со временем возглавила отдел статистики. А я выбрала на свою голову следственное управление. Мы успели поработать с Володей в одной следственной бригаде, но вскоре открылась вакансия в Генеральной прокуратуре (генпрокурором был наш прежний начальник, прокурор Московской области С. И. Гусев) – и Володя стал важняком, следователем по особо важным делам.
В ту ночь я дежурила в своей конторе. Зазвонил телефон. Володя умер на генеральской даче, на руках жены. Оторвался тромб. Ему было 26 лет.
Прощались с Володей в клубе на Лубянке. Я пришла рано. Посреди зала он лежал один. Потом стали собираться люди. Я боялась смотреть на вдову. И мой взгляд почему-то упирался в ее красивые полные ноги в туфлях на высоких каблуках (я машинально отметила: Gabor) и в черных тончайших колготках. В голове вертелась тупая мысль: где-то я уже видела такую нарядную скорбь… Вспомнила актрису, приятельницу Евтушенко, молодую вдову Михаила Луконина у его гроба на сцене Большого зала ЦДЛ и живущие отдельной жизнью, притягивающие взгляд ноги. Потом были еще одни неожиданные похороны, на которые я попала по службе – мне надо было встретиться с родственниками самоубийцы. И в моей, как мне казалось, бесполезной рабочей тетради появилось стихотворение под названием «Нелли».
Ты, Нелли, уходила второпях.
Зачем, скажи, туда ты так спешила.
В последний раз смотрю на профиль твой,
прозрачный, острый, горько неподвижный,
на тронутый румянами роток,
чуть приоткрытый словно для дыханья
последнего.
И навсегда – за раму
открытого окна… Прости меня.
Здесь, посреди своих подруг заклятых,
зачем, – спросила б, – топчутся они
у кружевного маленького гроба?
Как хороши их туфли фирмы Gabor
и черные узорные чулки…
Когда я поставила точку, мне стало очевидно, что никаким юристом я не буду. Я заменила ее многоточием, но оно оказалось еще красноречивее. В тот же день я положила на стол прокурора заявление об уходе. Поступила по формуле: «Чин следовал ему: он службу вдруг оставил…» Даже не дождалась обещанной квартиры. До сих пор не знаю, почему именно Нелли поставила эту точку. Она действительно ушла. И моя жизнь опять круто изменилась.
Мой редактор в «Советском писателе» Евгений Храмов про «Нелли» и прочие такие стихи говорил: «магия». Ни во что не вторгался. Был он крупный, вальяжный, доброжелательный. В свободное от стихов время переводил маркиза де Сада. На днях мы с Ф., в который раз глядя на пафосный горельеф в метростроевском сквере, вдруг одновременно вспомнили песню, которую горланили в школьном хоре, ничего не зная об авторе слов, а это был Евгений Храмов, всего лет на десять нас постарше:
Сабли вспыхивали, как молнии,
С колокольни строчил пулемет.
Эй, который тут – комсомолия?
Выходи, два шага вперед!
Сквер был пустой, никто не удивился вышагивающей меж высоких сугробов возрастной парочке, распевающей всеми забытые теперь комсомольские песни. Примерными комсомольцами мы не были. А меня и вовсе в первом моем вузе из комсомола выгнали, не разобравшись в характере наших с Ф. отношений: женитьба это или моральное разложение. А про то, что заявление лежит в ЗАГСе, было сказано: «Бумажкой хотите прикрыться». Ф. не пострадал, потому что у него был академический отпуск. Не совсем, впрочем, добровольный. Разнообразную мы прожили жизнь. Времена менялись не единожды. И сюрпризы явно еще будут.
Я не знаю, не будь этой вынужденной ковидной домашней отсидки, этого, вполне можно сказать, домашнего ареста, взялась бы я (в том числе «с отвращением») так подробно читать свою жизнь. Есть вполне приемлемые эпизоды. С ними я справилась: четче всего вижу свое детство. Если оглянуться на А. А. Ахматову – она те эпизоды своей жизни, которые удостаивала неоднократного пересказа, называла «пластинками». Но я не знаю, с каких пор она стала пользоваться этой удобной формой, чтобы вспоминать. Уже приписав изобретение «пластинки» ААА, я случайно наткнулась на текст Юрия Олеши (из его дневника 1930 года, который он начал весной): «Сейчас я вынимаю из памяти куски, сортирую их, складываю. Затем нужно будет изготовить пластинки, вроде тех, какие вдвигаются в волшебный фонарь, и придумать аппарат, который мог бы просветлять их и проектировать».
Я заглянула в «Записные книжки (1958–1966)» ААА (изданы в 1996-м, М. – Турин). Записных книжек осталось только двадцать три, издание занимает 850 страниц. И Юрий Карлович упоминается один раз, на с. 743[9]9
В записной книжке – л. 4.
[Закрыть]: «Ю. Олеша. Ни дня без строчки. М., 1965». И всё. Никаких пояснений.
Записная книжка, в которой он упоминается, у архивистов значится под номером 23. Хотелось бы на нее взглянуть и взять в руки (ед. хр. 116)…
«Записная книжка в черном ледериновом переплете с золотым обрезом. На переплете тисненая надпись золотом: “Notes”. На шмуцтитуле рекламное объявление “The Premier Series of Light Handy Books”. На контртитуле печатная надпись: “Made in England”. Бумага голубая, в линейку. 10,7 × 12. 18 л.
Книжка подарена Ахматовой в Лондоне И. Берлином. Заполнялась с сентября 1965 по февраль 1966 г. Большая часть осталась незаполненной.
Л. 1. “A. A. from her first foreign visitor in 1945. 15.6.65”[10]10
А. А. от первого иностранного визитера в 1945. 15.6.65 (англ.).
[Закрыть].
Рукой Берлина».
Пластинки «Ахматова – Олеша», видимо, не существует. Но времени, потраченного на ее поиски, – не жалко. В записной книжке № 23, л. 2, есть записи, озаглавленные «К плану биографии». Чем не пластинки: «Дому было 100 лет. Зимы»; «Херсонес (летом). [У самого моря] (1914)»; «Встреча с Гумилевым (Сочельник). Гимназия. Стихи»…
Заглянула я и в «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской – не говорили ли они с Анной Андреевной о Юрии Карловиче? Таких записей нет. Есть грустная запись 1960 года о болезни и уходе в мае того года Юрия Олеши и Бориса Пастернака. Лечили их одни и те же врачи, у Б. Л. сначала подозревали инфаркт…
Читала – как в первый раз («Записки об Анне Ахматовой», т. 2, с. 385):
«Лечит Пастернака Фогельсон, а дежурят возле него литфондовские врачи и сестры; инфаркт тяжелейший. Фогельсон говорит – тяжелей, чем у Олеши.
Зачем же он это говорит!
Олеша вчера умер».
С. 886–887:
«14 мая 60
А. А. отяжелевшая, слабая, полубольная.
Я была у нее недолго.
‹…›
Заговорили о Б. Л. – о его болезни. (Фогельсон полагает – мне передавал Асмус: инфаркт еще страшнее, чем у Олеши, но организм гораздо могущественнее; состояние хотя и тяжелое, но далеко не безнадежное.)»
Ю. К. ушел 10 мая 1960-го (я видела его могилу на Новодевичьем).
Б. Л. умер (не от инфаркта) 30 мая того же года. Помню, как, поступив в Литинститут в 1967-м, отправилась в первый раз в жизни в Переделкино, на его могилу. Теперь его ближайший сосед – Е. А. Евтушенко. И Асмуса тот же погост приютил…
Так я и не узнала, кто придумал «пластинки». Граммофоны, патефоны, пластинки отжили свой век. Но и я пишу о прошедшем. И мне подходит такая форма изложения. Детских «пластинок» у меня множество: чем больше вспоминаешь, тем теплее делается. Были, конечно, и горькие моменты. В детстве боль быстро проходит. Детство кончилось сравнительно рано.
Я уже с самого начала своего рассказа не стала ставить все «пластинки» подряд. Но начать следовало бы не с виртуальных, а с вполне осязаемых, патефонных. Помню дербентское постпослевоенное лето с «Рио-Ритой», «Домино», «Голубкой» наравне с «Катюшей» и «Землянкой». Мы, дедовы нахлебники, крутили пластинки на балахане с видом на часто бурлящий Каспий. Мы – это я с младшей сестрой и двоюродные сестра и брат, дети старшего брата мамы, которого я звала просто по имени – Женя. Он возился со мной в мою младенческую пору в Баку, и я помню его военную форму. Во время войны он был летчиком. Дядя и отец появлялись ненадолго. За нами присматривали наши неработающие мамы.
Под балаханом, в летней кухне, трудилась бабка, работали керогаз и керосинка со слюдяным окошком. Иногда мы принюхивались к мангальному чаду. Благоухал лилиями бабкин цветник, медленно зрели виноградные гроздья: виноград был черный, но кисть наливалась цветом неравномерно, темные ягоды теснились среди зеленых. Мы ежедневно пощипывали кисти на лозе, увивающей наш любимый балахан. Не унимался от рассвета до заката бабкин птичник, еле умещаясь в углу двора в вольере, сооруженном дедом из жердей и рыболовных сетей. В те счастливейшие годы, когда я жила под крышей у деда, весной мы с бабкой поднимались на железнодорожную насыпь в десятке шагов от нашего подворья и шли с оглядкой по шпалам километра полтора до заведения под названьем «инкубатор». Там мы набирали в четыре затянутых марлей лукошка цветных цыплят, капризных, на шатких лапках, индюшат, гусят и шустрых пекинских утят. Вперед я смотреть не умела, тем более – видеть в этой живности еду. Я любовалась пушистыми шариками, наблюдала, как они росли, чтобы потом видеть этими же глазами, как бабкин специальный для этих целей нож одним махом сносил птичьи головы. Вспомнишь тут «Черную курицу» Погорельского… Дюжина «пластинок» из жизни крылатых и четвероногих обитателей дербентского подворья по трагизму может сравниться с историей Муму или Каштанки.
Город, хоть и дышал рядом, на расстоянии вытянутой руки, был вне наших интересов. Впрочем, мы, дети нашей семьи, навещали летний кинотеатр и какую-нибудь заезжую оперетту. Ни дед, ни отец, ни дядька ни в кино, ни в оперетту не ходили, но к нам всегда присоединялась бабка. Она надевала свои крепдешины или креп-жоржеты, укладывала волосы, красила темной помадой, двумя точными мазками, тонкие губы, душилась «Красной Москвой» или «Красным маком», обувалась в лакированные лодочки, возможно еще из бакинских запасов. У нее была ножка тридцать третьего размера, в Баку ей шил обувь армянин-репатриант дядя Артем. Я помню, как его сынишка, неся бабке обнову, зазевавшись, потерял одну из сафьяновых, почти кружевных туфелек цвета сливочного мороженого на французском каблуке. Мне было года четыре, я играла с этой туфелькой в «Золушку».
Бабка преображалась не хуже Золушки. Со спины ее принимали за девушку. В кино нам покупали жареные семечки – с условием, чтобы мы не плевались и не роняли шелуху. У каждого было по два газетных кулька – один пустел, другой наполнялся. После сеанса мы сдавали мусор бабке. Попкорн назывался просто жареной кукурузой. Бабка покупному не доверяла – у нее для каштанов и для кукурузы была специальная жаровня. В ней же изготовлялся «вареный сахар» с грецкими орехами. По вкусу это напоминало конфеты под названьем «Рококо» (проще – теперешнюю «Коровку»), которые приносил дед. Но особенно мы любили «Морские камешки» с изюминкой внутри (дед говорил «катышки») и миндаль в шоколаде.
Дед начинал свой день с рыбалки, благо жили мы на самом берегу. Вставал в четыре утра. К завтраку у нас были жареные бычки и тарашка. А дед уходил на работу, с портфелем, помахивая тросточкой. Выглядел он, как старик Хоттабыч, только молодой, без бороды, но зато с усами, как у Чарли Чаплина: в парусиновой паре, канотье, белых парусиновых туфлях, которые бабка чистила зубным порошком. Дома дед любил ходить в рабочем темно-синем кителе, к которому бабка подшивала белый подворотничок. Китель достался деду от зятя, моего отца.
Мы никогда не видели, чтобы дед и бабка ругались, хотя прекрасно знали, что во многом они не совпадали друг с другом. Видимо, они умели друг другу уступать. Бабка курила – дед не курил. И к живности относились по-разному. Бабка – как к еде, а у деда с каждой тварью были особые отношения. Помню любимого дедова кота Ваську и кошку Манишку (у нее, чернушки, была белая грудка): деда звали Василий, бабку – Мария. Был еще рыжий голубоглазый котенок Серунджан – дед подобрал его на железнодорожном переезде и вылечил от поноса. И это еще не весь дедов зверинец. Летом обеденный стол стоял на воле, под навесом. И за едой деда окружали его любимцы: Дылда, здоровенная коричневая курица, которая несла двухжелтковые яйца, Голик, совершенно голый петух, у которого вместо хвоста торчали всего три белых пера и что-то похожее на перья на концах крыльев. Пух с него сошел, кожа задубела, перьями он так и не оброс. Был еще Пип, странный гусенок. У него была короткая шея и сплюснутое туловище. Собратья его не принимали, шипели, щипались. Пип жил во дворе, на воле, – как собачонка. Он и на море с нами ковылял на своих крепких коротких лапах. Все пернатые, включая Голика, обожали хлебные шарики, которые дед умел каким-то особым макаром скатывать. Он всех щедро угощал.
Каждый раз, когда бабка обезглавливала очередную жертву, я рыдала. Я понимала, что ораву, которая каждое лето сваливалась на нее и деда, кормить надо. Но и сегодня не могу себя заставить есть суп и вареную курятину или другую птицу, особенно когда готовлю сама. Но спокойно ем котлеты и колбасу, а в Дербенте преспокойно ела выловленных дедом бычков, тарань и весьма охотно – контрабандную севрюгу и черную икру, за которыми мы с бабкой ходили на рассвете к рыбакам.
Особенным кошмаром для меня было убийство Пипа. Вольер уже опустел. Я была в школе, когда бабка зарезала Пипа на день рождения сестры. Сестра первые годы своей жизни провела с родителями в послевоенном Ленинграде, все еще полуголодном и не отошедшем от блокады. Я там побывала в мои шесть лет. Помню дворы с дровяными штабелями (родители занимали пенал в коммуналке на Пятой Красноармейской). Внутри штабелей можно было прятаться, чего до ужаса боялась мама. Долго я в Питере не задержалась. Я не знала, что такое голод, а сестра любила поесть. До сих пор помню, как она ела Пипа. Ей, как новорожденной, выбирали лучшие куски и восхищались ее аппетитом и чумазой круглой мордашкой.
Дербентский патефон на балахане был первым патефоном в моей жизни. Был второй, и он же последний. Мы с Ф. обнаружили его, когда вселялись впервые в собственное жилище. Даже не патефон, а ящик от патефона («а музыку, – по Вознесенскому, – унесли»). Не стоит, конечно, злоупотреблять чужими метафорами. Но так и тянет сказать, что одни истории похожи на патефонные пластинки, другие – на долгоиграющие, третьи – на гибкие, как те, что когда-то выпускались в приложении к журналу «Кругозор».
За вторым патефоном придется вернуться во Владивосток, но уже едва ли доведется добраться туда физически.
Уже мужней женой я, после изгона из университета и комсомола, работала секретаршей в идеологическом отделе Владивостокского горкома партии. Ф. попросил какого-то с детства знакомого ему комсомольского вожака, кажется секретаря комсомольского райкома, о моем трудоустройстве. И тот привел меня – в горком партии.
Мой первый начальник, идеологический секретарь Владивостокского горкома, Геннадий Алексеевич Соколов, звонил по телефону сам, соединять мне его почти никогда не приходилось, только если ему звонило высшее руководство. Печатать на машинке я не умела, и сначала он носил свои бумажки в машбюро, тоже самостоятельно. Чаи он в рабочее время не гонял, а когда оставался после рабочего дня в своем кабинете, спроваживал меня домой и с чайником тоже справлялся сам. Сидеть сложа руки было тошнотворно – я вытребовала себе у завхоза новенькую «Оптиму» и довольно быстро научилась печатать.
Я впервые увидела свои стихи отпечатанными – на белой горкомовской бумаге.
Своими успехами я поделилась с Геннадием Алексеевичем и сказала, что ему незачем обращаться в машбюро (там на него вечно ворчали, имея в виду меня). Он спросил: «Под диктовку сумеешь?» Я не знала, но ответила утвердительно. Он перетащил машинку в свой кабинет и начал диктовать, предупредив, что к работе горкома его рукопись отношения не имеет. Мне это было до лампочки. Мне хотелось, как, впрочем, и ему, удостовериться, что у меня получится. Как ни странно, получилось хорошо. Диктовал он четко. Текст был интересный, про хунвейбинов – в Китае шла «культурная революция». По образованию Геннадий Алексеевич был историк. И очень скучал по научной работе. Статью про хунвейбинов он написал для какого-то журнала. В отделе тоже были довольны, что обзавелись собственной машинисткой.
У Ф. тогда были довольно частые нелады с милицией. Случалось разное. И мне иногда приходилось, используя «служебное положение», вызволять его из ментовки. Никаких особых правонарушений он не совершал, но компания у него была шумная и отличалась выдумкой.
Как-то группа молодых поэтов позвонила в дверь местного классика по фамилии Халилецкий (он тогда был еще и собкором «Литературки» по Дальнему Востоку). В руках у одного из поэтов был красный флаг, который он попытался вручить супруге классика, вышедшей на шум. В честь всенародного праздника 8 Марта. Шутка понята не была.
Не помню, по этому ли случаю я просила помощи у Геннадия Алексеевича. В следующий раз Ф. однажды вечерком, вместе с молодым преподавателем Дальневосточного университета, прокатился на тележке, с которой днем торгуют мороженым, по Океанскому проспекту, круто спускающемуся почти к самому берегу Золотого Рога, и самое веселое – их поездка привела непосредственно к порогу отделения милиции. Преподавателя по имени Боб вызволил отец-декан. А Ф. получил предупреждение об исключении из вуза. Последнее произошло, но по другой причине, скажем кратко – за драку в ресторане с последующим наказанием в виде пятнадцати суток (держали в городской тюрьме, водили на черную работу под конвоем), но эту подтему можно закрыть за давностью событий…
Как-то Г. А. спросил меня: «Почему ты нигде не учишься? Вон у твоего муженька времени хватает и стихи писать, и учиться, и хулиганить, а ты так и будешь всю жизнь за машинкой сидеть и бегать его выручать?» Я честно призналась, что из университета меня выгнали по доносу однокурсниц, которых оскорбил мой с Ф. в тот момент вольный союз, продолжавшийся одну ночь. И что изгнана я с формулировкой «моральное разложение». Г. А. вздохнул и взялся за телефон. Возвращаться на курс, собрание которого почти единогласно заклеймило меня позором, мне не хотелось. Я знала цену своим доносчицам: в снятую мной комнату, почти рядом с университетом, я позвала их на совместную жизнь из многолюдного полуподвального общежития. И комната была оплачена мной вперед.
Я еще года три с лишним потянула волынку на заочном отделении, ходатайства о восстановлении меня в комсомоле не подавала, а потом уехала поступать в Литинститут.
Владивосток, отметивший 100-летие в 1960-м, в те годы бурно строился. Бухгалтерша горкома получила квартиру в обновленной части города – Моргородке. А до этого всю жизнь прожила в коммуналке, в пенале с печным отоплением. Ее комнатушка досталась нам.
Печка, скорее плита – с духовкой и двумя конфорками, стояла у стены, посередке, доминируя в темноватой комнатушке. У двери – умывальник, под ним – цинковое помойное ведро и на нем, прикрывая его, – эмалированный тазик с побитой эмалью. На подоконнике пылился патефон без ручки с почти выпотрошенной начинкой. Сортир и колонка – в глубине двора, большую часть которого занимали дровяные сараи, среди них и наш, с остатками угля и ящиков для растопки. Печку мы никогда толком не топили.
Это был самый центр города-порта, в дореволюционном прошлом рассадник всяческого разврата, разгула и разбоя: притоны и малины, шалманы и кафе-шантаны.
Бывшая квартира моих родителей, занятая флотским начальством, находилась рядом, на Китайской улице (будущем Океанском проспекте), в респектабельном доме сталинской постройки. А весь тот шанхай, который замыкал наш с Ф. дом, выходя фасадом уже на улицу Колхозную, был как раз напротив. В одном из шанхайских строений помещалось художественное фотоателье. Сохранился снимок, сделанный, когда мне было 16 лет.
Весь шанхай смели в наше отсутствие. Наш дом уцелел и преобразился, в перестроечные времена туда вселился, как гласила реклама под крышей, Инкомбанк. Фотографии нашего старого дома нет. Мы, навестив Владивосток в 1989 году, сфотографировали его в новом облике. А заодно и родительский, с аркой. Я долго искала глазами мой бывший балкон, чуть было не ошиблась этажом. Инкомбанк, кажется, вскоре скоропостижно прогорел.
Чем был наш с Ф. владивостокский дом в прежние времена, я достоверно не знаю. Он состоял из трех этажей, мы обитали на третьем. В квартиру, которую предварял наш пенал, вела облезлая деревянная лестница, напоминающая чердачную. Кто занимал «бельэтаж», я не интересовалась, было слишком много отвлекающих моментов. Чердачная лестница вела в довольно обширный зал с двумя окнами по одной стене, той, что напротив входа, который на ночь запирали на чугунный крюк наподобие кочерги. Забегая вперед, скажу, что из-за этой кочерги Ф. приходилось частенько возвращаться домой нетрадиционным образом: недалеко от нашего окна, выходящего во двор, висел покореженный фрагмент пожарной лестницы. Ф. подпрыгивал, цеплялся за него, подтягивался, проходил по кирпичному карнизу и нырял в форточку – наш диван стоял прямо под окном. Однажды, будучи навеселе, он перепутал окна и нырнул среди ночи к толстой соседке Лизке.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































