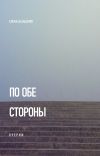Текст книги "Улан Далай"

Автор книги: Наталья Илишкина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– У нас таким молодым пить нельзя! – объяснил Кануков.
– За победу революции имеет право выпить каждый, кто может держать в руках оружие! – возразила Маруська. – Ты умеешь стрелять? – обратилась она к Чагдару.
– Как всякий казак, – с гордостью ответил Чагдар. – Мне уже скоро восемнадцать.
Маруська налила в свой стакан из пузатого графина, подошла к Чагдару, протянула пахучее пойло. Чагдар на всякий случай убрал руки за спину.
– Ты что, не уважишь революцию? – наступала Маруська; ее белая черкеска с пустыми газырями была уже не дальше сжатого кулака от груди Чагдара. Казалось, еще немного – и женщина навалится на него и задушит.
– Пей! – выдохнула она в лицо Чагдару.
Чагдар выхватил из Маруськиной руки стакан и, стараясь не стучать зубами о тонкий стеклянный край, выглотал до дна. Пламя пожара полыхнуло внутри, обожгло рот, глотку и рвануло ниже, в желудок. Чагдар закашлялся, хватая ртом остужающий воздух.
– Ну вот и принял боевое крещение! – Маруська постучала ладонью по его груди.
Чагдару было невыносимо стыдно. Женщина, и при том еще посторонняя женщина, трогала его на глазах у старшего мужчины. Чагдар сполз по стенке, спасаясь от этой выпирающей, как горбы верблюда, груди и этих паучьих лап, опустил голову, чтобы не смотреть на Маруськины коленки в шелковых чулках.
– А калмыки все такие застенчивые, товарищ Кануков? – промурлыкала Маруська.
– Маруся, оставь его, у него нет опыта, – попытался выгородить Чагдара Кануков.
– Девственник?!
Открытие взбудоражило Маруську окончательно. Она подняла ногу в лакированном сапожке и поставила на плечо Чагдара. Запах женской плоти и дурманящих цветов шибанул Чагдару прямо в нос. Он резко дернулся и ударился затылком о стену. Голова закружилась, перед глазами поплыли алые круги…
– Девственник? – повторила вопрос Маруська. И, не дождавшись ответа, постановила: – Это хорошо, что девственник. Значит, не сифилитик. Товарищ Кануков, уступи мне на ночь кабинет. У меня в вагоне неудобно: места мало и переборки тонкие. А тут такой стол роскошный…
Глава 9
Март 1920 года
Чвак-чвак, чвак-чвак – гнедой под Чагдаром с трудом продвигался по жирной пашне, с чмоканьем вытягивая из раскисшей земли жилистые ноги. Рядом по дороге, такой же вязкой и угрюмо-черной, тянулась бесконечная вереница вконец измученных, истрепанных, оголодавших беженцев-калмыков: верхом на истощенных лошадях, на телегах, на волах, на верблюдах. Были и пешие, совсем доходяги. Колыхались по мартовской хляби, скрипели-стонали подводы, полные стылых мертвецов, – невозможно остановиться похоронить, – живые, нет, полуживые, брели на своих двоих. Иные отходили к обочине, падали и замирали, а толпа тянулась дальше, не поднимая глаз, не протягивая рук, двигалась обреченно к непонятному морю, куда под страхом смерти велели им идти атаманы…
За два года Гражданской войны на Дону шашкой и веревкой истребили казаки немало безземельных крестьян, и калмыки в стороне не стояли. Ловили бывших своих арендаторов, надевших теперь буденовки и красноармейские шинели, и перед тем, как порешить, заставляли есть землю. «Земли тебе казацкой захотелось? Ешь досыта!» В отместку заживо сжигали красноармейцы захваченных в плен калмыков-деникинцев. Каждая сторона стремилась изничтожить врага под корень.
В конце января, когда Сводный конный корпус, тогда еще с Думенко во главе, вышел к реке Сал, Чагдар попал в родной хутор. Ни дымка, ни коровьего мыка, ни овечьего блеяния, ни конского ржания… Значит, не будет расстрелов и не устроит командир судилище, решая, кого казнить, кого миловать. Больше смерти боялся этого Чагдар.
Теперь нужно уберечь хутор от поджога. Всем своим товарищам и командиру взвода Червоненко загодя рассказал Чагдар, что Васильевский – его родина, что богатым хутор никогда не был и что многие хуторяне сражаются под началом Буденного в дивизии у Оки Городовикова.
Передовой их разъезд беспрепятственно доскакал до хуторской площади и спешился у раскрытых настежь дверей правления. Рядом с крыльцом на истоптанном снегу чернело свежее пепелище большого костра. Тонкие серые хлопья разлетелись далеко окрест, несколько недогоревших листов застряло в кроне старого карагача.
– Чевой-то твои хуторяне всю писанину спалили? – вихрастый Шпонько привстал в стременах и цапнул один лист с ветки. – Про че тут? – Шпонько сунул листок Чагдару. – Почитай-ка нам, ты же шибко грамотный.
Чагдар пробежал листок глазами: «…поведения очень хорошего и антибольшевистского настроения. По неграмотству податель бумаги ставит крест после оглашения ему написанного». Повезло, что имя отгорело.
– Вот тебе и красный хутор! – процедил Шпонько. – Точно фамилие там не написано?
– Да понятно, что наш калмычок своих выгораживает, – вторил Шпонько его дружок Коваль. – Были бы сознательные, не ушли бы за беляками. Твои-то вот, к примеру, где?
Чагдар пожал плечами. До своего база он еще не добрался. Когда лежал прошлой осенью в тифозном бараке в Царицыне, попался ему один иловайский станичник из перебежчиков, который шепнул, что брат его старший Очир за усердное истребление большевиков еще два Георгия заработал и стал полным кавалером. Тогда пожелал Чагдар, чтобы тот станичник из болезни не выкарабкался. Перебежчик помер на третьем приступе.
А Чагдара после тифа откомандировали к оставшемуся без корпуса Думенко: пока тот с тяжелым ранением по госпиталям валялся, Буденный прибрал к рукам командование корпусом, и теперь «батька крестьянской конницы» набирал себе новых бойцов. Неважнецки чувствовал себя Чагдар среди пришлых хохлов и великороссов, только-только севших в седла и с завистью глядевших на то, как он управляется с конем.
– А вот поехали к твоему базу! – предложил неуемный Шпонько.
– Да что, ты, Шпонёк, к Чалунку причепился, – урезонил вихрастого старший разъезда Морозов. – Ты про своих-то родичей все знаешь?
– А мне, дядя, про своих знать нечего. Сирота я! Все перемерли.
– Теперь сиротой быть-то со всех сторон выгодно, – под нос себе пробурчал Морозов. – Теперь без семьи, без имущества самая жизнь.
Шпонько довольно расхохотался:
– Завидуешь, дядя?
– Фисилису твоему, что ли? Была б охота дурной болезни завидовать. А уж сиротству – упаси боже и товарищ комиссар! Тьфу-тьфу-тьфу! – Морозов поплевал через левое плечо. – Скачи-ка ты, неугомонный, к нашим, рапортуй, что хутор чист, можно занимать. Глядишь, тебе товарищ Червоненко за хорошую весть табачку из своего кисету отсыплет.
До чего же благодарен был тогда Чагдар Морозову!
Бойцы разъезда, пользуясь правом первоприбывших, с шутками-прибаутками стали высматривать себе для постоя дома получше, шныряя туда-сюда вокруг площади, где за прочными заборами стояли солидные пустые пятистенки, а Чагдар под шумок отъехал к родному базу.
Издали увидел еще, что ворота и калитка затворены. За два последних года научился Чагдар стучать в закрытую дверь. Хоть и запрещает обычай калмыку бить по дереву, но не стучать бывает себе дороже. Тот беззвучный вход в кабинет начальника станции Куберле в мае 1918-го Чагдар будет помнить всю жизнь. И жутко было, и стыдно, и… сладко. Совестно сказать, но он даже про отца на время забыл. Полный курс по женской части за одну ночь прошел, Маруська ему к утру со смехом на все места синих печатей понаставила. А утром Куберле атаковали белые. И метался Чагдар по станции в поисках отца, пока не встретил вчерашнего разводящего Петра. Увез отца анархический поезд, в санитарный вагон которого разместил его протрезвевший от холодного душа доктор Лазарь. А Маруська оказалась в бронепоезде Канукова и еще не раз на пути отступления к Царицыну вызывала к себе «на беседу» Чагдара.
– Кто в Красную армию через парадное крыльцо пришел, кто – черным партизанским ходом, а ты, Чагдарка, через анархическую постель запрыгнул! – подшучивал Кануков.
Шутка была так себе. По счастью и несчастью одновременно, Маруську по прибытии в Царицын председатель Военного совета товарищ Сталин срочно отправил под присмотром в Москву, пока буйная неукротимая баба, которой любая власть была как кость в горле, не устроила в Царицыне грабежей, как в Таганроге, за что большевики ее судили, но оправдали. А Чагдара приняли тогда бойцом в Отдельную кавалерийскую бригаду под командованием калмыка Оки Городовикова…
Чагдар снял рукавицу и легонько побарабанил костяшками пальцев по оконному стеклу мазанки. Но никто не выглянул в маленькое подслеповатое оконце. Чагдар перемахнул через забор, толкнул дверь в дом – от резкого толчка она распахнулась настежь, в нос ударил запах гнили и запустения…
Внутри было холодно. На кровати, стоявшей под алтарем, навалено несколько кошм. Не сразу различил Чагдар под грудой шырдыков человеческую фигуру. Не помня себя, рванулся к кровати, ожидая худшего, откинул одну полость, другую… Живой! Отец дышал ровно, он просто спал. Рядом с ним лежала домбра.
Чагдар тронул отца за плечо. Баатр встрепенулся, заморгал, поднял голову.
– Ты мне снишься? – спросил он Чагдара.
– Нет, отец, я – в теле.
Баатр порывисто сел, обхватил стоящего Чагдара за пояс, притянул к себе, зарылся лицом в шинель…
– Дождался, – глухо сказал он.
Чагдар опустился на колени и обнял отца. Хотел спросить про мать и Дордже, но язык не поворачивался.
– Они ушли, – отвечая на незаданный вопрос, тихо пробормотал Баатр. – Очир сказал, что всех, кто служил в хуруле, красные поджарят на медленном огне. Я велел Дордже уходить с Очиром. Но Дордже только пятнадцать зим, а по виду – двенадцать. Вояка из него никакой. Я решил так: мать должна присмотреть за ним.
– А ты?
Отец отстранился, потер небритые щеки.
– А что я? Я через советскую власть пострадавший. Да и с тобой надеялся свидеться. Кривой Адык уходил, сказал мне: «Хитрый ты, Батырка. По обе стороны фронта защитников имеешь».
Чагдара переполняла радость. И оттого, что все живы и в безопасности, и от встречи с отцом, и еще оттого, что может теперь, прямо глядя в глаза, сказать Шпонько: «Отец мой дома!»
Недолго стояли они в хуторе – есть там было нечего, рванули дальше, благо белые и не думали обороняться. Очень надеялся Чагдар, что не догонят они калмыцкие обозы, что как-нибудь закрепятся деникинцы в районе Екатеринодара, дадут уйти обозам в ставропольские степи, а оттуда повернут беженцы на астраханские пески и растворятся среди дербетских калмыков. Но белые драпали, как ошпаренные, бросив обозников на волю немилосердной судьбы, кубанские казаки воевать больше не желали и держали нейтралитет, и калмыцким беженцам, как и всем донцам, оставалась одна дорога – вслед за войсками к Черному морю.
Когда в феврале Думенко вдруг арестовали и бойцы корпуса заволновались, забузили, Чагдар ожидал, что наступление красных приостановится, но заместитель Думенко Жлоба жестко взял власть в свои руки и повел корпус вперед.
И вот случилось худшее: за Екатеринодаром они нагнали беззащитный обоз Белой армии. Бесконечной змеей тянулись беженцы, спутались и перемешались казацкие брички, городские фаэтоны – и тут же коровы, лошади, верблюды… Калмыки старались держаться кучно, красные и желтые одежды женщин были видны издалека.
Чагдар намного оторвался от своих, неистово рубивших беженцев в самом хвосте, выцеливая «буржуев и кадетов»; к последним добавились и «калмыцкие хари», подчистую угнавшие из своих станиц скот и обрекшие красноармейцев на постную похлебку. Чагдар рвался вперед и вперед, подстегивая гнедого, вглядываясь в почуявшую опасность толпу, надеясь увидеть хуторян, а с ними мать и Дордже.
Уже за полдень, отчаявшись найти родных, Чагдар повернул назад, пока его не хватились и не обвинили в дезертирстве. Обратно ехал медленно, и снова всматривался, и снова надеялся. Навстречу ему неслись выстрелы, крики, стоны, конское ржание… Народ начал в страхе оборачиваться, соскакивать с подвод и разбегаться с дороги в разные стороны; калмыки резали постромки упряжек, бросали свой скарб в телегах и, посадив детей и женщин на неоседланных лошадей, уходили в сторону ближайших балок.
Начинало смеркаться, когда Чагдар увидел своих товарищей по взводу. Забрызганные кровью с ног до головы, опьяненные безнаказанной рубкой, они уже плохо держались в седлах, пошатывались от усталости, а может, и от кавказской водки, три бурдюка которой с утра реквизировали у армянского торговца. Никого живого не осталось вокруг конников, а они в азарте охоты всё вертели головами в поисках движущейся цели и, не находя, секли шашками брошенные в телегах окоченевшие тела покойников.
«Эти казни будут оправданы историей, потому что их совершает новый прогрессивный класс, сметающий со своего пути пережитки капитализма и народного невежества», – всплыли в голове Чагдара слова комиссара Громова.
– Где тебя носило, калмычок? – окликнул Чагдара Коваль. – От работы отлыниваешь? Мы тут много ваших посекли, так, Шпонёк?
– Так точно, – откликнулся Шпонько. – Посрать и то было некогда.
Он сполз с лошади, отстегнул ремень с кобурой и ножнами, передал Ковалю:
– Подержи пока, я до ветру отлучусь.
Поковылял, перешагивая через мертвые тела вдоль обочины, к перевернувшейся на бок телеге. Вернулся чуть не бегом, на ходу застегивая штаны:
– Там за телегой хтой-то хоронится! Дай-ка сюды мой клинок! – Выхватил из ножен шашку и побежал обратно.
Чагдар, сжав зубы, отвернулся… и вдруг услышал полузнакомый, ломающийся подростковый голос:
– Пощадите! Пощадите!
Чагдар резко обернулся на крик. По вспаханному полю в разные стороны от перевернутой телеги бежали две фигурки в калмыцком платье – женская и мальчишеская. Женщина припадала на правую ногу. Кричал мальчишка, кричал и мчался, не оглядываясь, по пашне, вопил отчаянно, думая, что преследователь настигает его. Но Шпонько выбрал женщину и гнался за ней, тоже прихрамывая после целого дня в седле.
– Стой! – Чагдар сам не узнал свой голос, больше похожий на свист пули. – Стой!
Но никто из троих и не думал останавливаться. Чагдар дал шенкелей гнедому и бросился догонять Шпонько.
– Шпонёк! Не руби-и-и! – истошно завопил он.
Но на голос его обернулся не Шпонько – обернулась женщина. На губах появилась улыбка узнавания, она уже приоткрыла рот, чтобы что-то произнести… и тут мелькнула в руке Шпонька шашка, и Альма запрокинулась, на мгновение повиснув на клинке. Шпонько выдернул шашку, и тело рухнуло навзничь, беспомощно раскинув руки.
Шпонько уже наклонился над жертвой, примеряясь нанести последний удар в грудь, когда Чагдар прыгнул на него сзади, рванул на себя, и они упали в борозду. Не поняв, что произошло, Шпонько матюкнулся и тут же захрипел: Чагдар сдавил ему горло…
Товарищи помешали ему удушить Шпонько. Навалились, разжали руки, скрутили Чагдара.
– Мальчишку, мальчишку не убивайте! – орал Чагдар, не чувствуя боли и пытаясь вырваться. – Братишка мой младший!
Могилу для матери они с Дордже копали уже в темноте. Место выбрали на меже, чтобы не пахал землю плуг над ее костями. Земля была мягкая, как копченое сало, липкая только. Чагдар резал пласты шашкой, Дордже отгребал руками, непрерывно бормоча слова молитвы дребезжащим голосом – у парня от пережитого стучали зубы. Тело матери лежало рядом, завернутое в расшитую синими цветами скатерть, которую пожертвовал из своих трофеев Морозов.
Взводный Червоненко подходил, спрашивал, не помочь ли чем.
– Ты смотри, зла на Шпонько не держи, он все делал по указаниям, – предупредил Червоненко. – У кого перед советской властью вины нет, тот от нее не бежит, тот к ней тянется. Так нам товарищ комиссар разъяснял, помнишь?
Чагдар промолчал.
Положив на могилу согласно обычаю ветку прошлогодней полыни, братья вернулись к костру, разведенному из собранных на дороге оглобель и дуг. Бойцы подтянули к костру брошенные телеги, поставили крýгом.
– Вам с братишкой… это… отдельную телегу нонче выделили, – показал Коваль Чагдару на одну из повозок. – Как баре ночевать будете, просторно.
Остальные сидели у костра, не глядя на подошедших, потягивали из кружек кипяток.
– Товарищ командир, – обратился Чагдар к Червоненко. – Разрешите мне брата на хутор какой пристроить, а как мы беляков победим, я его до дома свезу.
– Разрешаю, – позволил Червоненко. – Утром отвезешь.
– Зачем утра ждать? – возразил Чагдар. – Разрешите сейчас отбыть. Завтра я взвод догоню.
Червоненко обвел глазами своих бойцов.
– Езжай, коль невтерпеж. Вот тут клячу живую нашли, бери для брата…
– Ладно.
Чагдар помог Дордже сесть охлюпкой на лошадь, подстелив ватник. Подошел Морозов, принес бурдюк.
– Пригодится, – кратко сказал он.
Чагдар кивнул. Говорить по русскому обычаю «спасибо» он так и не научился.
Чагдар догнал свой взвод только к вечеру следующего дня. Найти неразграбленный и не забитый разбежавшимися беженцами хутор оказалось непросто. Пришлось на много верст уехать в сторону от дороги. Хмурый и настороженный кубанец принимать Дордже не хотел. Отговаривался тем, что кормить лишний рот ему нечем, сами голодают. Но бурдюк водки внес поправку в его настроение, а обещание оставить в хозяйстве лошадь, на которой прибыл Дордже, изменило отношение к неожиданному нахлебнику. Уезжая, Чагдар еще на всякий случай пообещал спалить хутор, если, вернувшись, не найдет брата живым и здоровым.
Прощаясь, Дордже шепнул Чагдару, что будет теперь каждый день читать мантру раскаяния за себя и за него. Не совладал он с собою вчера и совершил большой грех – прочитал мантру черной богине Кали, обрек убийцу матери на смерть. Не положено было по возрасту знать ему эту мантру – подсмотрел ее в книге бакши, и вчера, когда копали могилу, мантра всплыла в его голове и вырвалась наружу. Горько усмехнулся Чагдар, слушая это признание.
Первый, кто встретил Чагдара по возвращении, был Червоненко. Долго и участливо выспрашивал, где пристроил братишку. Чагдар отвечал односложно и неопределенно.
– А Шпонько сегодня шальную пулю поймал, – пристально глядя в лицо Чагдара, сказал взводный. – Стрелка мы так и не нашли…
Чагдар спокойно выдержал взгляд.
– Это был не я. Одно хорошо: патроны сберег. Я бы не утерпел, всю обойму в него высадил.
Про то, что старший брат воюет за белых, Чагдар никому из взвода не рассказывал. В дивизии Городовикова про Очира знали многие, у каждого городовиковца, почитай, кто-то из родственников сражался на другой стороне, и Чагдар в дивизии был такой же, как и все. Но в своем взводе он слишком выделялся: лицом, происхождением, владением шашкой и конем, а еще грамотностью. Не желая того, Чагдар как бы возвышался над товарищами, а то, что при этом он был узкоглазым инородцем, было для них особенно обидно. Единственным человеком во взводе, чье доброе расположение чувствовал Чагдар, был мобилизованный Морозов из астраханских жидовствующих – бойцы за глаза называли его христопродавцем и комиссарским прихвостнем. Может быть, расположение это исходило оттого, что Чагдар не пил, не сквернословил и выказывал Морозову, как самому старшему по возрасту, свое почтение – словом, вел себя так, как принято в морозовской общине.
Теперь Чагдар думал об одном: только бы не встретиться в бою с Очиром. Нет страшнее преступления, чем убить старшего по роду. Наоборот – не возбраняется: старший имеет полное право покарать младшего или лишить жизни из сострадания. Когда их корпус вошел в Екатеринодар, Чагдар видел беженцев-калмыков, не успевших перейти через Кубань, которые собственноручно резали своих детей, боясь, что их будут мучить красные, а потом сами бросались в половодье с обломков моста и тонули в обнимку с мертвыми детскими телами…
Докатившиеся до предгорий деникинцы наконец опомнились, закрепились и стали отстреливаться, давая уцелевшим обозам и беженцам уйти в Новороссийск. Не должен был Чагдар переживать за врагов, а все-таки переживал. Может быть, потому, что на той стороне воевал старший брат. Может быть, потому, что не мог понять, как умная, обученная, хорошо вооруженная казачья армия во главе с настоящим генералом так постыдно драпает от бывших батраков, которыми руководят командиры-самоучки. Так не должно было быть, но жизнь убеждала в обратном. Значит, судьба привела Чагдара на правильную сторону, и эта мысль примиряла его с тем, что происходило вокруг.
В прошлом году, до тифа, когда Чагдар служил еще у Городовикова, зачитывали им на общем сборе статью главкома Красной армии товарища Вацетиса, призывавшую уничтожить старое казачество. Сначала все слушали спокойно. Но когда главком сравнил казака с собакой, слушатели заволновались. Они ведь тоже считали себя казаками, только красными. А когда было сказано, что у казачества нет заслуг перед русским народом и государством, бойцы повскакали с мест, засвистели… Едва до бунта не дошло.
Вацетиса летом арестовали, обвинив в контрреволюционном заговоре, но хохлы и матросы продолжали уничтожать казаков беспощадно, оттого многие донцы и ушли к белым. Потому и беженцев столько за деникинцами потянулось. И позор то был для казаков – бросить свои семьи врагу на растерзание. А вот бросили…
Между тем красноармейцы уже вползли на перевал Волчьи ворота. Чагдар впервые в жизни видел горы. Словно земля вдруг взбунтовалась и встала на попа, пытаясь достигнуть неба. Боязно было идти по узким тропам, где с одной стороны отвес, с другой – обрыв, а вокруг сумрачные кряжистые деревья. Во взводе все с лошадей слезли, вели в поводу. Сердце колотилось от непривычной нагрузки, дыхания не хватало, коленки болели. Не понравились Чагдару горы.
И море Чагдару не понравилось. Безбрежное, темное, неустойчивое, изменчивое, волнливое. Город у кромки залива казался потерянной на берегу подковой, а стоявшие на рейде суда – колыхавшимися на поверхности воды мертвыми муравьями.
Ходили слухи, что трудно будет взять окруженный горами Новороссийск, что белых с моря прикрывают английские и французские боевые корабли, что нарочно заманивают красноармейцев в ловушку, и как начнут они спускаться с гор, тут-то все и полягут. Но слухи не оправдались. Хотя с горы было видно, что город набит войсками, как мешок, под завязку, но войска бездействовали. Иногда только раздавались с причаливших к пристаням кораблей выворачивающие нутро звуки сирен да одиночные выстрелы сухо щелкали, отражаясь от гор хмыкающим эхом.
А когда одной ясной ночью повалил над городом густой черный дым и взметнулись багровые языки пламени, Червоненко довольно рассмеялся.
– Ну, усё, ребя! Тикáют белопузые, нефть запалили!
Утром вошел их взвод в город без единого выстрела, и продвинулись конники до самого моря, не встречая сопротивления, а навстречу им из города гнали черкесы и чеченцы расседланных коней. Ни до, ни после не видел Чагдар столько брошенного оружия, пулеметов и пушек, столько валявшихся на земле погонов и кокард, такой огромной беспомощной толпы, сплошь из нестарых мужчин, из которых, казалось, вынули всю смелость и самоуважение. Стаи белых птиц с черными оторочками на крыльях реяли над ними в ожидании поживы, предвещая гибель.
При виде безоружного противника в товарищей Чагдара как бес безнаказанности вселился. Давя народ лошадьми и стегая нагайками, они бросились выбирать себе жертв. Сжатые теснотой бетонных заборов, люди уворачивались от карателей, умоляли о пощаде.
– Свой я, братишки, свой!
– Помилосердствуйте, братцы! Батрак я безземельный!
Замешкались было конники, закрутили головами. Но тут Коваль нашелся:
– Секи калмычков, ребя! Они точно виноватые! И бог за них не накажет!
В толпе стали озираться, выискивая узкоглазые, скуластые лица, выталкивали вперед, к карателям. Чагдар увидел, как пытались спастись калмыки, присаживаясь, хоронясь между ног, заползая в самую гущу, а толпа выпихивала их, и красные конники секли несчастных молча, споро, спешно. Всего несколько минут продолжалась эта дикая охота, а уже сотня трупов валялась на набережной.
Отжатого разбегающейся толпой к самому парапету Чагдара обуревала одна мысль: как прекратить несправедливое истребление, может, где-то здесь остался и старший брат… Шарил глазами по лицам, поглядывал вокруг… Водоросли, мусор, щепки окаймляли бетонную набережную. Вдруг у выхода на пристань увидел брошенный рупор. Чагдар протиснулся к опустевшему причалу, свесился, не сходя с коня, и подобрал бесхозную игрушку. Дунул – рупор издал резкий металлический свист, люди встревоженно замерли.
– Калмыки! Земляки! – закричал Чагдар по-русски. – Все, кто готов перейти на сторону Красной армии, ко мне!
Толпа всколыхнулась. Чагдар и глазом моргнуть не успел, как пристань заполнилась перебежчиками. Здесь было не меньше трехсот человек, в основном молодых казаков. Знакомых лиц не находилось, и брата, по счастью, Чагдар тоже не увидел.
Он встал на коне у выхода на пристань и выхватил из кобуры револьвер, готовый охранять сбежавших от самосуда.
– Ай да Чалунок, доброе дело сделал, – разгоряченный Коваль подскочил к Чагдару. – Тут мы на них и силы тратить не будем, просто потопим! Они же плавать-то не умеют.
– Стоять! Не дам! Я за них отвечаю! – Чагдар выстрелил в воздух. – Позовите сюда комиссара Громова! – прокричал он в рупор.
Ва-ва-ва – пронеслось по набережной.
– Всем отойти! – рявкнул Чагдар, и преследователи отступили. – В шеренгу по пять становись! – скомандовал он сбившимся в кучу калмыкам.
Когда комиссар Громов на своем соловом мерине добрался до пристани, спасенные от расправы уже выстроились в полусотни, беспогонные, безоружные, но сохранившие воинскую выправку и военную дисциплину. В единой форме, они производили более выгодное впечатление по сравнению с кое-как обмундированными красноармейцами.
– Товарищ комиссар! – отрапортовал Чагдар, отдавая честь. – Эти калмыцкие конники готовы воевать за Красную армию!
Громов растерялся.
– Единолично я такой вопрос решить не могу. Нужно отвести их в штаб фронта.
– Так ведите! – И прежде чем Громов успел открыть рот, Чагдар скомандовал: – За товарищем комиссаром вперед шагом марш!
И первая шеренга шагнула вперед, за ней вторая, третья… С одного взгляда было видно, что перебежчики хорошо отмуштрованы, шли четко, с шага не сбивались, строй держали. Громов сразу оценил возраст, выправку и дисциплину бойцов, приободрился и крикнул замыкающему колонну Чагдару:
– А ты молодец, Чолункин! Зачем такой материал без толка закапывать? Мы их перекуем. Послужат твои земляки рабоче-крестьянскому государству!
Чагдар радостно кивнул. Спас, спас в память о матери столько молодых жизней!
Но на выходе с набережной путь им преградил конный разъезд. Огромный рыжий детина в кожанке с комиссарской повязкой на рукаве окликнул Громова:
– Эй, старшой! Не в ту сторону ведешь! Расстреливать приказано за цементным заводом!
– Это перебежчики! В штаб веду для дальнейших распоряжений, – возразил Громов.
– Чего их бестолково туда-сюда гонять! Направляй сразу в каменоломни, там их ждут.
– А ну-ка, дай дорогу! – потребовал Громов.
– А я тебе приказываю – поворачивай к цементному! – загудел детина и рванул из кобуры револьвер. Конопушки на одутловатом лице побелели.
– Убери оружие и освободи проход! – рявкнул Громов и тоже выхватил наган. – Под ревтрибунал за превышение полномочий захотел?
Детина сунул револьвер обратно в кобуру, пожал плечами:
– Да я что? От бесполезной работы хотел тебя освободить. Все равно не доведешь. Выше по горке казачки лютуют.
…В штаб они сумели доставить чуть более двухсот человек, и то по дороге раздетых до белья красноармейцами. По приказу начальника штаба перебежчиков заперли в подвал до особого распоряжения. Громов потом наводил для Чагдара справки. Всех отправили в Новочеркасск «на перековку», а оттуда на советско-польский фронт. А Чагдара Громов перевел к Городовикову.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?