Читать книгу "Охота на Церковь"
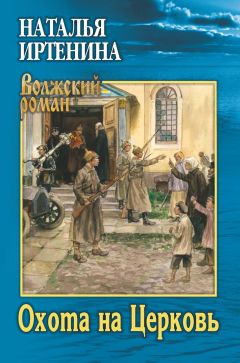
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Ты мне намётку давай, кого конкретно обнюхивать, холера, – осерчал Кольцов. – Не с пустыми же руками пришел, а?
– Не с пустыми. Вы меня еще тогда спрашивали, на кого думаю. Я сказал, что пока рано пальцем тыкать. Теперь в самый раз. Подсобрал фактики, понаблюдал.
– Не тяни кобылу за хвост!
– Прищепа.
Произнеся это, Старухин отвалился на спинку стула и с жестяной полуулыбкой следил за выражением лица начальника. Словно ожидал, что тот сей момент хлопнет себя по лбу и воскликнет: «Как же я сразу не догадался!» Но Кольцов лишь озадаченно пошевелил бровями.
– Прищепа не работает в отделе.
– Его уволили в январе. Тот беспризорник, болтавший о чекисте-предателе, весной мог об этом еще не знать.
– Допустим, холера. – Мыслительный процесс в мозгу младшего лейтенанта отражался движением складок на лбу. – Дальше?
– Прищепа человек странный. Нелюдимый. Товарищей по службе сторонится, брезгует компаниями…
– Еще скажи, что он не пьет. – Кольцов издал звук, схожий с хрюканьем. – Неболтливость в наше время незаменимое качество.
– Наверняка пьет. Но в одиночку, дома. Из опасений проболтаться спьяну.
– Ты мне факты, холера, факты давай! – волновался начальник.
– Факты такие, – жестко, следовательским тоном, промолвил Старухин. – Из НКВД Прищепа уволен по профнесоответствию, за сочувствие к антисоветскому элементу. Летом он пытался выгораживать членов вскрытой в Карабанове кулацко-повстанческой организации. От меня лично требовал отпустить их, дескать, муха-цокотуха, невиновные. Я пытался привлекать его к сотрудничеству по нашим следствиям, но Прищепа шел на это с неохотой, только под нажимом. Дело о кулацко-поповском бунте в Карабанове в декабре прошлого года он провалил, а там однозначно вырисовывался террор. Позднее следствие это подтвердило. Ну и кремовая розочка на торте.
Старухин выложил на стол помятый клок бумаги, обрывок листа из школьной тетради. На клочке в столбец были написаны иностранные слова.
– Это что? – с подозрением смотрел на бумажку Кольцов.
– Выпало у Прищепы из кармана на улице. Я подобрал. Слова французские. Мне, товарищ Кольцов, специалист растолковал. С виду – чушь. Как будто он учит французский и выписал слова, чтоб запоминать. Только вопросик: зачем сотруднику советской милиции учить французский? Дети у него еще мелкие, в школу не ходят. Значит, сам.
– Или жена.
– А жене советского милиционера зачем? – Оба одновременно подняли головы от бумажки и с полным пониманием заглянули друг другу в глаза. – Может, это вообще шифр?
– Может. – Кольцов забрал улику и спрятал в стол под ключ. – Но сейчас этой бумажкой даже не подтереться – мала. Если б ты изъял ее при обыске, тогда был бы другой разговор. Как докажешь, что она из кармана Прищепы? Может, ты ее сам накропал. Еще факты имеются?
– Найдутся, – безмятежно обещал Старухин.
– Ищи. О своих подозрениях – никому ни гу-гу. У Прищепы перед глазами не маячь, насторожишь. Если что вдруг – сразу ко мне, понял?
– Так точно, товарищ младший лейтенант.
– На мотоциклетке не навернись, лихач, – крикнул в спину выходящему Кольцов. – У меня теперь каждое рыло в отделе на вес золота. Поломаешься – запишу в саморубы и дезертиры, понял, а?
– Враги не дождутся.
Старший оперуполномоченный подпустил в свой ответ душевный надрыв и нотки жертвенности.
14
Второй день под гадкой, холодной октябрьской моросью Борька Заборовский и Миша Аристархов ходили по домам неграмотных. Школа поручила им шефство над десятью гражданами, которые при составлении списков избирателей сказались не умеющими читать и писать. Дело было ответственное. Борька хотя и ворчал поначалу, что возня с отсталыми старухами отнимет у него все свободное время, нужное для самообразования и самосовершенствования, в конце концов преисполнился гордости. Участие в ликбезе приравнивало его в собственных глазах к энтузиастам-комсомольцам, которые в первые годы советской власти помогали ее укреплять: разъясняли забитому при царизме народу, что коммунизм – светлое будущее человечества, повышали сознательность населения, обучая грамоте и привлекая к чтению советских газет.
Оказалось, однако, что ликвидация безграмотности много времени не занимает. Накануне они обследовали четыре дома и во всех четырех заносили в тетрадку отказ неграмотных обучаться. Старики отнекивались под предлогом старости и хворей, работающие объясняли свое нежелание нехваткой времени. А в одном доме, услыхав про комсомольское поручение и грядущие выборы, их и на порог не пустили.
– Чего они так букваря боятся? – не понимал Борька, размахивая портфелем, где лежала книжка для первоклассников.
– Мне кажется, они не хотят голосовать на выборах.
– Не хотят голосовать за легендарного летчика Чкалова? – возмущенно фыркнул Заборовский. – Ну это я даже не знаю, как назвать.
– Чкалов идет в Совет национальностей, – уточнил Миша. – А в Верховный Совет от Мурома выбирается председатель облисполкома Буров. В нем ничего легендарного нет.
– Да знаю я. Все равно это… саботаж, вот! – подыскал слово Борька и по ассоциации перескочил на другое: – Мать утром была понятой на описи имущества у соседей. Там муж и жена жили, он троцкист, еще летом арестовали, работал в театре заведующим реквизитом. А жену только сейчас, не знаю хорошенько за что, ну да понятно же.
– А какие они, троцкисты?
– С рогами и хвостом, – поддразнил Заборовский. – Думаешь, они чем-то отличаются от нас? И вообще, какой из этого Мещерякова троцкист? Он из бывших, комариного звона боялся, закуклился, к новой жизни был неспособен… Ты, Мишка, паспорт получил? – снова перевел он разговор.
– Передо мной бланки кончились. Несколько часов зря отстоял. Завтра опять пойду к шести утра записываться в очередь.
– Записывайся, – кивнул Борька. – Наш серпасто-молоткастый паспорт – это, брат, путевка в большую жизнь. Езжай куда хочешь, делай что хочешь…
– Так уж прям что хочешь? – покосился на него Аристархов.
– Постой, это ты на мою сестру намекаешь? – насупился приятель. – Муська дура, сама виновата. Одну правильную вещь сделала – в комсомол вступила, а потом глупить начала. Сама себе жизнь подрубила под корень.
– Да я не про Муську твою. Я про отца своего…
– Ну, брат Мишка, религия – такое вредное дело, что мириться с ней в Советской стране никак нельзя.
– Да чем она вредная? Многие ученые были христиане. Коперник, Ньютон, Ломоносов…
– Тем и вредная, – загорячился Борька, – что богомольцам прогресс не нужен! Жили при свечах и тараканах, так и дальше хотят жить при свечах и тараканах. Лбами об пол им и в темноте хорошо стучать. А советская власть им – нате вам лампочку электрическую, моторы, тракторы, самолеты, радиоволны на всю страну, трансполярные перелеты! Где там Боженька, от Него и мокрого места не остается. А упертые богомольцы в свою сторону тянут – в темноту, к тараканам запечным, им там теплее. Как вот эти, которые от грамоты отказываются. Нет, Мишка, что ни говори, а я в такое тепло не полезу. По мне, так лучше холодный, залитый светом, ослепительно сияющий мир без Боженьки!
– Да мне тоже, – вздыхая, согласился Аристархов. – Только радио еще до советской власти изобрели. И лампочку тоже. И самолеты…
– Вот наш адрес, – перебил его Заборовский и вошел в дворовую калитку.
Двор был общий для двух деревянных двухэтажных домов. Борька определил нужный и, взбежав на крыльцо, громко застучал по двери.
– Здравствуйте, бабушка! – выпалил он открывшей старушке в темном платке на голове. – Вы записаны неграмотной, и мы, ученики второй городской школы, пришли учить вас, чтобы вы могли участвовать в выборах.
– Ой! – удивилась бабуся. – Да неужто прям учить? Батюшки-светы! Проходите, соколики, обсушитесь от дождика, а то, гляжу, намокли вы.
Старушка была ласковая и уютная, как домашняя печка, в которой подрумяниваются пироги. Пока провожала их из передней в комнаты, ворковала про чай с вареньем и выкликала из недр поместительного дома кого-то еще:
– Натальюшка, а к нам гости, ребята-школьники. Пришли нас с тобой, неученых, учить.
Половину проходной комнаты, через которую вела подростков старуха, занимало деревянное сооружение. На квадратной раме с ногами-подпорками была растянута холстина.
– Вы, бабушка, художница, что ли? – опешил Борька.
– Да это, милок, мы одеяла стегаем. В стегальной артели работаем.
Во второй комнате – с круглым столом под скатертью, стульями и узким диваном – хозяйка предложила им посидеть, пока не поспеет чай, и поспешила на кухню. Вместо нее появилась другая, похожая, только ростом повыше, в глухом сером платье и таком же темном платке. Села на стул, сложила руки на коленях и светлыми глазами принялась изучать мальчишек.
– Вы сестры, бабушки? – улыбнулся Борька.
– Сестры, – кивнула она. – Чему же вы, отроки, учить нас будете?
Заборовский толкнул Мишку локтем. Старомодное слово «отроки» насмешило его. Вдруг он заметил в дальнем углу комнаты полку с книгами и подпрыгнул с дивана от удивления.
– Это ваши? – Он подошел к книгам и бесцеремонно взял одну, толстую, в сильно потертом кожаном переплете.
– Нет, что ты, милый, это нам на сохранение дали. Книги ценные, старинные, вот и бережем. А сами мы неразумные, премудрость эта книжная выше нашего ума.
– Так мы вас сейчас живо научим! – обрадовался Борька. – Невелика премудрость.
Он раскрыл наугад книгу и остолбенел. Буквы были вроде бы русские, но только отчасти, да и то невиданных очертаний. Между ними пересыпаны будто иноземные, однако не латинские, а вовсе неведомые. И над словами значки разные – точки, запятые, загогулины.
– Чего это?!
Подошедший Мишка заглянул ему через плечо и с ходу прочел:
– Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся… Это же Псалтырь! – прошептал он на ухо приятелю.
Борька со стуком захлопнул книгу и испуганно впихнул на место. Боком попятился к двери, обходя стол.
– Так мы пойдем, ладно? По этим книгам мы вас не научим, бабушки.
В комнату вернулась первая старушка, неся обширный поднос с пузатым чайником в голубой горошек, чашками, тарелкой сушеных крендельков и вазочкой варенья.
– Куда же вы, соколики? – заквохтала она. – А чай с сушками и вареньем? С кружовенным!
Так вкусно, аппетитно она выговорила это слово «кружовенным», что у Борьки потекли слюнки.
– Ну разве только на чай останемся, – соблазнился он. – Люблю с вареньем, страсть!
Старушки разгрузили поднос. Пока чай заваривался в чайнике, гости, усевшись за стол, разглядывали комнату.
– Вы религиозницы, бабушки? – взял быка за рога Заборовский.
– Верующие мы, а как же, – в унисон закивали те.
Икон на стенах не было, только цветная литография в рамке. На ней седой старик кормил из рук косолапого зверя.
– Чудной старикан, – усмехнулся Борька. – Его же медведь сейчас самого съест. Или это цирковой дрессировщик на пенсии? – Он принялся учить старух, но не грамоте, а основополагающей советской идее: – Бога, бабушки, не существует. Нету его и никогда не было. Наука это давно доказала. Если бы вы были грамотные, тоже знали бы про это. Религия – пережиток эпохи угнетения человека человеком. В Советском Союзе угнетение отменено, поэтому и Бог не нужен, потому что нет класса эксплуататоров.
Заборовский не утерпел, сам налил чаю себе и приятелю. Мальчишки захрумкали сушками, а Борька обильно черпал ложкой варенье. На его сентенции старухи взволнованно восклицали:
– И Богородицы нет?
– Нет!
– И святых апостолов нету?
– Нету. А кто это?
– Ученики Христа, – тихо проговорил Миша, пихнув Борьку в бок.
– Не было никакого Христа! – несло Заборовского. – Это вымышленный персонаж.
– И Пилата не было? – изумлялись старухи.
– А кто это?
– Который Христа судил, – конфузливо пробубнил Михаил, отложив недогрызенную сушку.
– И святых угодников нет, Николушки, Серафимушки? – тужили бабки.
– Да что вы, бабушки, такие непонятливые. Говорят же вам – никого нет! Это все люди понавыдумывали.
– А земелька-то есть? – спросила та из старух, что повыше.
– Есть, – моргнул непонимающе Борька.
– И дождики ее поливают?
– Поливают.
– И хлебушек родится? И всякий иной плод для прокормления?
– Ну.
– И люди детишек рожают?
– Это вы куда, бабушка, гнете? – нахмурился Борька.
– Рожают, – за него ответил Аристархов.
– Ну слава Тебе, Боже! – сказала старуха. – Пока еще не отменила советская власть милости Божьи. А как совсем отменит, тогда война по всей земле пойдет, мира не станет.
– Да что вы, бабушки, – возмутился Заборовский. – Я вам про Фому, а вы мне про Ерему!
– Фома, соколик, в Христа веровал, а про Ерему мы не знаем, кто таков.
– А кто Фома? – сбился с толку Борька.
– Апостол, – вполголоса подсказал смущенный всем разговором Мишка.
– Товарищ-то твой пообразованнее, – заулыбались старухи. – Молчун только.
– Да нет, мы в одном классе учимся, – недовольно сказал Заборовский. – У него отец попом был.
Миша тотчас наступил ему на ногу.
– Погиб батюшка-то? – стали жалеть сироту церковницы. – Или сам преставился?
Борька не дал приятелю ответить.
– Так что мы, бабушки, Бога вашего не боимся. Он нам ничего сделать не может. Нету его потому что. Так, Мишка?
– Так, – глядя в сторону, выдавил Аристархов. – Ну ладно, хватит болтать, идем, – потянул он из-за стола Заборовского.
Тут за спинами у них раздался другой голос:
– А что это за глупыши-агитаторы у нас в гостях?
Третья квартирантка в доме, неслышно вошедшая с улицы, одетая в пальто и все тот же темный платок, оказалась женщиной помоложе, с суровыми чертами лица.
– Мы не глупыши! – вскинулся Борька, подскочив со стула. – Мы от комсомольской ячейки школы! Грамоте обучаем, темноту просвещаем.
– Ясно, – усмехнулась женщина. Она прошла в комнату и сбросила на диван пальто. – А на какого это Комсу вы молитесь, комсомольцы?
Борька был в замешательстве.
– Не там темноту ищете. Наталья, ты им про свои университетские курсы рассказала? А ты, Катерина, поведала пылким юношам, как помогала мужу с опытами в лаборатории, пока он от голода в Гражданскую войну не погиб, а потом учила в школе таких же оболтусов?
– Ну что ты, Еленушка, ребята славные, – заступились за них старушки. – Им начальство велело, они не по своей воле.
– Глупые телята из племени Сталина, – продолжала та усмехаться. Она окинула взглядом Мишу. – А ты, кажется, сынок отца Алексея Аристархова?
– Нет. – Парень отвел глаза. – Вы ошиблись.
Вдруг проснулись настенные часы. Вслед за медным ударом с шорохом выдвинулась кукушка и повестила три часа дня. Гости пятились к выходу. Одна из старух бросилась провожать, насовала им в карманы сушек.
– Еще приходите, соколики, варенья в этом году много наварили, и от прошлого года осталось. А на Еленушку не сердитесь, она у нас строгая. Раньше, когда красные с белыми воевали, она в ЧК работала…
На улице они едва опомнились, когда скорым ходом проделали шагов двести или триста.
– Слышал? Чекистка! – Заборовский был огорошен.
– Это монахини, – возразил Аристархов.
– Какие еще монахини? – опешил Борька.
– Дивеевские, наверное. Тот старичок на картинке – Серафим Саровский, святой покровитель дивеевских.
– Ну все, крышка нам! – волновался Заборовский. – Эта чекистка нас заложит, что мы не грамоте старух учили, а чаи с монашками распивали.
– Так она тоже монашка.
– Ну и что! Чекисты бывшими не бывают. Ох и влипли мы, Мишка! – Борька решительно выбросил в глубокую лужу церковные сушки.
– Ничего не влипли. – Аристархов, напротив, успокоился и взялся грызть угощение. – Пиши в отчет: учиться грамоте отказались под предлогом слабоумия.
Пока Борька переживал, он задумался:
– Интересно, как она из чекисток монашкой сделалась?
– Да как! Заслали ее разлагать церковниц, а она сама от них разложилась. Подальше от этих старух и попов держаться надо, вот что! Ты, Мишка, правильно сделал, что ушел от своих…
Дождь все накрапывал и усиливался. Успевшие обсохнуть в доме у монахинь, ликбезовцы подошли к следующему адресу из списка совсем мокрые, как вылизанные кошкой котята.
15
Накануне праздника 7 ноября, двадцатилетия Октябрьской революции и советской власти, Морозов уехал на попутной подводе в село к братьям. Ночевал у них же и все утро провалялся с литературным журналом, несмотря на строгий наказ начальства явиться к десяти часам на демонстрацию. Читал седьмую часть «Тихого Дона». Подлавливал себя на мысли: как-то знаменитый писатель выведет в конце торжество советской справедливости и наступившей счастливой жизни? Будет едва ли честно, да по-другому теперь и нельзя, придется яркому таланту вертеться ужом на сковородке, подлаживаясь под передовицы «Правды».
Обедали втроем. К вареной картохе и квашеной капусте братья выставили полчетверть самогона. Гришка и Демка закладывали уже по-взрослому, всерьез: иными радостями жизнь не баловала. Старший Морозов назидать не пытался. Не было у него опыта таежной ссылки, где голод и труд изнуряли до смерти, а значит, и научить младших братьев он ничему не мог. Гришке по весне быть призванным в Красную армию – там отучат.
На сельском митинге в честь Октября братьям доверили держать портреты вождей. Теперь портреты стояли в избе, палками-рукоятями кверху. Вернуть их в сельсовет не смогли, все было закрыто: новый председатель сразу после митинга умчался в город, а секретарь Тараскин ушел пьянствовать. Гришка заметил оплошность и, вставши из-за стола, перевернул портреты.
– Нехорошо. Мало ли кто зайдет, увидит… Что-то товарищ Молотов запачкался. – Он обмахнул портрет рукавом.
– Тебе, Коль, не влетит, что не был на демонстрации в городе? – спросил Демка.
– Отбрешусь. Был здесь с вами на митинге, и точка. Надоело. Чего я там не видел. Опять будут пьяные по улицам лежать.
– По радио речь Сталина слушали, – поделился Гришка, наливая в жестяные кружки. – И ничего особенного. Говорит как татарин и скушно. Повторяет по три раза, будто дятел долбит… За нашу настоящую, за мужицкую власть! – поднял он тост. – А не за эту…
Столкнув кружки, выпили.
– Наладился тут опять чекист ходить, – рассказывал Демка. – С Тараскиным в сельсовете бумажки сочиняет, дает кому ни то подписать и идет арестовывать.
– А церкву-то на кладбище взорвали, – повестил Гришка. – Две недели как.
После обеда до ранних сумерек старший Морозов снова пытался читать, но на душу ничего не ложилось, слова скользили мимо. Ему было мерзко. Неведомый чекист, терроризирующий мужиков, не выходил из головы. Братья оставались для него получужими, оттеплиться душой с ними не выходило. Портреты вождей победительно усмехались. Не выдержав, Морозов отвернул их к стенке. Ему не хватало умного, рассудительного, честного собеседника, опытного в жизни человека, которому можно выложить все свои потайные мысли и сомнения. Таким был арестованный карабановский священник отец Алексей. Трубой пониже и дымом пожиже – Андрей Кузьмич Артамонов, мужик хоть и не в меру балагуристый, но с головой.
Вспомнив о Кузьмиче, Морозов накинул телогрейку, влез в сапоги и пошел со двора. Сыпал снежок, первый в этом году, кружил по улицам студеный, выхолаживающий ветер. Через два проулка навстречу попалась хорошо захмелевшая двоица, шагавшая в обнимку для взаимной поддержки. Один оказался Тараскиным, второй же был в шинели и фуражке. «Мы крас-ные ка-ва-ле-ристы!..» – нараспев пьяно орали гуляки. Морозов оглянулся на них через полсотни шагов. Кавалеристы, на ногах едва стоявшие, завалились на лавку под чьим-то забором и примолкли, прижавшись друг к дружке, как хохлатки на насесте.
* * *
– Сознаются у вас враги? – Тараскин столкнул сержанта Горшкова со своего плеча.
– Поют, как Зиновьев и Каменев на суде, – встряхнулся тот. – Вот им, наверное, тоже натянули показания… И весь мир увидел их подлую вражью натуру!.. Я тебе стихи покажу… хорошие стихи… В «Комсомольской правде» к празднику напечатали. Там про меня и про… – Сержант выудил из-под шинели газетный обрезок. – Черт, не видно ни зги. Ну я так помню, слушай:
Ползут по оврагам, несут изуверы
Наганы и бомбы, бациллы холеры.
Но ты их встречаешь, силен и суров,
Испытанный в пламени битвы Горшков…
– Там, правда, стоял Ежов, я маленько поправил. Это ничего, товарищ Ежов не обидится…
Сержант вдруг насторожился, уставясь на противоположную сторону улицы, где какой-то мужик открывал калитку во двор.
– Чего-то зачастили гости на ночь. – Невзирая на хмель и слабость в теле, Горшков не терял служебной бдительности и вел счет. Вошедший во двор напротив был уже третьим. – А ну-ка пойдем, Родя! – Он спрятал вырезку со стихами под шинель.
Они пересекли улицу и спрятались за углом забора. Торчали только головы: повыше в фуражке, пониже в ушанке.
– А долго ждать будем, товарищ сержант? Замерзнем же, – заныл скоро Тараскин.
– Сколько надо, столько и будем! Мы в засаде, Родя! Тут явно враги сползаются.
К калитке от другого конца двора приблизилась еще одна темная фигура. Человек сторожился и оглядывался, и это подтверждало худшие подозрения Горшкова.
– Чей это дом?
– Не знаю, не видно, – беспомощно промямлил Тараскин. – А для чего они сползаются, товарищ сержант?
– Вот и узнаем.
Выждав еще несколько минут, Горшков решился. За это время никто больше в дом не проник. Значит, прикинул он, в избе самое меньшее четверо «гостей» и хозяева. Они могут быть вооружены и окажут сопротивление. Но на их, Горшкова с Тараскиным, стороне – фактор внезапности, сознание правоты и долга. В нескольких словах он проинструктировал напарника.
Сержант достал из кобуры револьвер и, чтобы прибавить обоим храбрости, прочел по памяти вторую строфу газетного стихотворения:
Раскрыта змеиная вражья порода
Глазами Ежова – глазами народа.
Всех змей ядовитых Ежов подстерег
И выкурил гадов из нор и берлог!
– Вперед!
Они вошли на двор и разделились. Тараскин поднялся на крыльцо и забарабанил в дверь:
– Милиция! Открывай!
Одновременно Горшков, заглянув в окно, выбил наганом стекло и страшно заорал:
– Всем сидеть, руки на стол! Дверь открыть!
Семь человек за столом беспорядочно повскакивали, двое заметались по горнице. Горшкову показалось, что они ищут оружие. Он выстрелил на опережение вверх, просунув руку между кусками оконного стекла. Тараскину тотчас открыли дверь, он ввалился внутрь. За ним в избу ворвался чекист.
– Нечистого-то принесло на ночь глядя, – охнула баба с кочергой у печи.
– Положь кочергу! – закричал на нее Горшков, и баба со страху обронила железный прут. – Ну! – обратился он к мужикам, хмуро и бессловесно взиравшим на происходящее. – Где план?
На столе лежали картонки с цифрами, на которых расставлены были деревянные бочонки. Мужики играли в лото.
– Какой план, пьяная твоя харя? – ответно рявкнул на чекиста тот, что сидел во главе стола, хозяин дома. – Окно ты ставить будешь и за стекло платить? Антошка, Яшка, ну-ка завесьте раму стеганиной, покуда избу не выстудило, – велел он молодым парням, видно, сыновьям.
– Но-но! Я при исполнении. – Горшков, таращась, взмахнул револьвером. – Где план, спрашиваю?
– Нету плана, товарищ сержант, – доложил Тараскин, осмотревшись в избе. – Только лотошные карты.
– Ты, Тараскин, скажи, какой план-то ему нужен, – осторожно поинтересовались мужики. – Может, что и сыщется.
– План покушения на товарища Сталина и советскую власть! – Горшков покачнулся, но ноги удержали. – Нету?
– Нету! – Тараскин заглянул под стол.
– Вот те на… – запереглядывались с хозяином гости.
– Не верю! Чего они ночью собираются и сидят, даже не пьют? – сосредоточенно мыслил Горшков, обращаясь к напарнику. – А ну, кулачье недобитое, вынайте ремни из порток! Тараскин, вяжи их ремнями!
Секретарь сельсовета и рад был исполнить приказ, но первый, к кому он приступил, отказался выдать ремень и даже пихнул в грудь, отчего легкий, худосочный Тараскин улетел к печи. Тем временем силы оставили сержанта: все ушло в порыв и штурмовой натиск. Он присел на лавку, чтобы передохнуть, но вдруг уронил голову и задремал. Тараскина же, догадавшегося пустить в дело собственный ремень, приголубила древком ухвата по темени хозяйская жена. Закрутившись винтом, он рухнул без чувств.
– Н-да-а… Чего делать-то с ими?
Старший сын хозяина, успевший с братом наскоро закрыть окно одеялом, подошел к спящему чекисту и принюхался.
– Разит сурово. До утра, могёт, не проснется. А на мороз его, бать? На дворе подхолаживает, метеля будет в ночь. Скоченеет до утра. А не подохнет, так и все одно ничего не вспомнит.
– Да шинельку с него содрать, – предложил сосед, – рядом бросить. Наверняка чтоб не встал поутру.
Сказано – сделано.
На счастье Семена Горшкова, едва не погибшего от рук простых советских колхозников, путь трем любителям лото, тащившим его подальше, на окольные задворки, внезапно преградил Николай Морозов.
Он возвращался домой. Поговорить по душам с Кузьмичом не удалось, со своей половиной тот ушел на собрание в клуб. Морозов застал одну Варвару, по мужу Зимину, грустившую возле керосинки. Мужняя жена или вдова – она и сама не знала. На днях лишь вернулась в Карабаново, три месяца искала мужа, пропадала и голодала в огромном городе Горьком.
– По всякий день к тюрьме той главной ходила, стояла в очереди. А как до окошка достою, там мне ничего и не говорят, гонят. Нету такого, и весь сказ. Да как же нет, думаю, куда ему деться? Человек он ведь, а не призрак бестелесный. И опять в очередь иду. На Рождество Богородицы радость мне вышла. Нашелся мой Степан Петрович! Из окошка сказали: десять лет без права переписки. Хотела сразу повыспросить, куда его выслали на эти десять лет, можно ль мне туда ехать за ним, если уж письма писать нельзя. Да опять меня погнали. Не положено, говорят. Так и ходила. Может, думаю, сжалится кто, растолкует, как быть-то мне. Матерь Божью молила, чтоб помогла. А Она-то, Матушка, впрямь подсобила. Смиловался солдатик один, шепнул на ухо. Я название крепко запомнила, на какой-то земле Санникова теперь мой Степан Петрович живет. А где это, знать не знаю. Мне б поехать туда, повидаться с ним хоть одним глазком, так и ждать легче будет. Ты б, Коля, разузнал, где эта земля Санникова…
Он обещал разузнать. Все равно б не поверила, что земля Санникова – это нигде.
На обратной дороге, вникнув в ночную картину, подсвеченную белым снегом, что запорошил землю, Морозов узнал «кавалериста» в чекистской шинели.
– Вы чего, мужики?! – По торопливой ходке и скрытности передвижения он ясно прочел их замысел. – Лишку на праздник хлебнули?
– Мы-то тверезы, а этот черт пьяным пьянёх. На том свете проспится.
– Не звери же вы, мужики, – в неясности чувств увещевал их Морозов.
– Мы-то не звери. А они кто? Хуже зверья. Повадились волки по овцы, – злобились колхозники, бросив тело на снег. – Да делай с ним что хошь! Ты городской, ты нашей туги не поймешь.
– А второй-то где? Тараскин с ним был.
– В подпол его скинули, он и не видел, как этого выносили. С утра Михей наплетет Родьке чего ни то.
– Чего ему в подполе делать, выпускайте, – дал совет Морозов.
Он пинками стал приводить пьяного в память. Мужики, плюнув, ушли. Напоследок бросили в снег чекистскую фуражку.
Беспощадная борьба с врагами, в последние недели захватившая все существо сержанта Горшкова, едва не сгубила его молодую жизнь. Но поднимаясь, сквозь морок и наваждение, он торжествовал, возглашая стихи о Железном наркоме:
…Ты – пуля для всех скорпионов и змей,
Ты – око страны, что алмаза ясней!
16
К утру погода резко переменилась. Теплый воздух растопил наметенный снег, заварил жидкую кашу под ногами. Вдоль забора, пригибаясь, как лазутчик, кошачьей побежкой с остановками и озираниями передвигался Тараскин. Попадаться на глаза населению во всем неприглядстве после пьяной ночи ему претило практическое соображение. Секретарь сельсовета не должен ронять свое звание перед колхозниками. А не то перестанут видеть в нем власть и авторитет советского партийно-комсомольского актива. Этому Тараскина научил прежний председатель сельсовета покойный Рукосуев: «Делай что хошь, но чтоб никто не видел».
Он прошмыгнул в калитку. Добрался до окна избы и припал к стеклу, затарабанил. Из-за белой занавески глянула женщина.
– Теть Дунь, мне б рассолу, – хрипнул пересохшим горлом Тараскин. – Погибаем с товарищем, выручай, теть Дунь!
Занавеска вернулась на место. Тараскин, исполнясь надежды, перебежал на крыльцо. Но вместо банки с вожделенным рассолом в руках у хозяйки оказалась чугунная сковорода. Пока голова его, замутненная самогоном, пыталась понять, зачем тут сковорода, загривок вмиг почуял неладное. Однако ноги подвели, и с бегством Тараскин припоздал. Пару ударов чугуна по ушанке и по спине он все же получил.
– Рассолу тебе, паразит? – ярилась тетка Евдокия. – Болотной водицей с лягушками тебя похмелить, чтоб захлебнулся, варнак!
Тараскин с позором бежал, но за ним гналась и сковорода с криком во всю улицу:
– Ты пошто, скотина, детишек сиротишь, баб соломенными вдовами делаешь? Мало мужиков наарестовывали, не хватает вам, чертям?! Рыло бесстыжее!..
К тетке Евдокии присоединились еще две колхозницы, проходившие мимо с пустыми ведрами. Все три загонщицы с гневным гомоном пытались достать его своими орудиями, но Тараскин, хотя и не похмеленный, был проворнее и бежал зигзагами. Брошенное ему в голову ведро не достигло цели.
– Белены объелись, бабы? – орал он с перекошенной физиономией. – Товарищ сержант! На помощь! Убивают!
– Убить тебя мало! Будешь знать, поганец, как на мужиков наших наветы писать!..
До здания сельсовета оставалось немного, спасение было близко. Под сенью крыльца стоял сержант Горшков, вглядываясь из-под ладони в даль сияющего солнцем дня, из которой к нему несся Тараскин. Он слышал крики баб и видел страдание беглеца. Картина была несправедлива, безобразна, более того, противозаконна и попахивала антисоветски. Но впервые в своей чекистской жизни Горшков не стал реагировать так, как следовало. Наверное, потому, что никак не мог вспомнить события ночи. Всплывало обрывками то героическое, то нечто скверное. Отягощать свои и без того расстроенные чувства сержант не решился. Он повернулся и исчез за дверью сельсовета.
В здании был второй выход – на задворье. Меж заборами, огородами, узкими проулками, утопая в грязи, он бежал как трус и сознавал это. Но нынче днем он должен быть на службе, в райотделе НКВД, и это отчасти придавало сержанту уверенности. Он выбрался на поперечную сельскую улицу, сориентировался и зашагал к колхозному правлению.
На ловца бежал и зверь. Навстречу чекисту трусил председатель колхоза. Лежепеков был возбужден, размахивал руками, как мельничными крыльями, и кричал односложно. Понять его было затруднительно. Горшкову пришло на ум, что председателя тоже напугали бабы со сковородами и ведрами. А может, с вилами.









































