Читать книгу "Охота на Церковь"
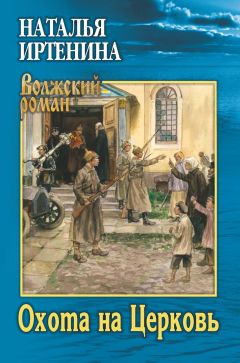
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Мы не на базаре, Кондратьев. Положите, где взяли.
– А вы что, товарищ сержант, в органы не за спецпайком пришли? – пробурчал Кондратьев, выполняя приказ. Цепочка упала в стеклянную вазочку. – Так я и поверил.
Горшков сел составлять протокол обыска.
* * *
Опытного оперативника Макара Старухина, которого Кольцов всем и всегда ставил в пример, сержант подловил в коридоре райотдела поздно вечером.
– Товарищ Старухин, мне нужно с вами посоветоваться. – Горшков немного конфузился, оказавшись в неприятной для себя ситуации.
– Ну пойдем, – усмехнулся старший оперуполномоченный.
Они вышли во двор. Остановившись под дубом, Старухин закурил свой «Казбек». Расслабленно привалился спиной к дереву.
– Что у тебя, сержант? Арестованные не сознаются?
– Нет. То есть да. – Горшков помотал головой. – Методику ведения допросов я знаю на отлично, нас учили. Я о другом. Мне не нравится мой помощник Кондратьев. Он…
– Стерпится – слюбится, – перебил Старухин, выпустив струю дыма. – Органы не бордель, Сеня. Тут как в семье. Кого дали в жены… в напарники, с тем и работай.
– Да, я понимаю, – еще больше смутился Горшков. – Но… Послушайте. Кондратьев приспособленец. И не скрывает этого. Он совершенно безыдейный тип, к тому же нечист на руку. Позволяет себе враждебные советскому интернационализму высказывания против еврейской нации…
– Да, это серьезно, муха-цокотуха, – сказал Старухин. Однако по его мимике сержант не смог определить – в самом ли деле он считает это серьезным проступком или же ерничает.
– Кондратьев лживый, равнодушный к социализму, негодный для чекистской работы человек. Я не понимаю, как его взяли в органы. Поэтому я решил написать на него заявление. – Последнюю фразу Горшков произнес так, будто с обрыва сиганул – набрав в грудь побольше воздуха.
От опытного оперативника сержант ожидал негативной реакции. Ждал возмущения и наставления в духе «своих не сдаем» и «доносчику первый кнут». Но Старухин удивил.
– Напиши, – равнодушно бросил он. – Ходу твоему заявлению Кольцов не даст, а про запас отложит.
– Про какой запас? – силился понять ситуацию Горшков.
– Ты, Сеня, пришел из своей школы НКВД такой юный и розовощекий, с мечтами в башке, с картинками – какими должны быть настоящие чекисты. И ты думаешь, что все тут чисты и невинны, как мамзели-гимназистки. Ну кроме Кондратьева, который не вписался в твои мечты. А нет, Сеня. Тут у каждого есть свой черный хвостик, за который его держат и подвешивают. Хвостик гарантирует преданность службе, муха-цокотуха. – Старухин затоптал окурок сапогом. – Еще советы нужны?
Горшков медленно проникался осознанием сказанного. Старухин успел дойти до входа в здание и открыть дверь, когда сержант до конца постиг смысл его слов.
– У меня нет никакого хвостика!
– А если подумать? – Старший оперуполномоченный, обернувшись, взглянул на него снисходительно и даже, как показалось сержанту, иронично. – Отец твой кто?
Ответа на брошенный наугад вопрос не требовалось, Старухин исчез за дверью. Семен Горшков стоял, опустив руки, оглушенный, будто оплеванный. Точно на голову ему надели ведро с помоями и застучали по ведру палками. Сержанту впервые в жизни стало больно и страшно. Он начинал догадываться, что его анкетное вранье, вполне вероятно, не было такой уж тайной для тех, кому положено знать все.
* * *
В темноте лязгнул дверной замок. Раздались шаги, что-то стукнуло, с грохотом повалилось.
– Мать, ты бы хоть прибрала, – прозвучал голос Звягина-старшего.
На фоне серого окна он увидел силуэт жены. Казалось, она так и сидит на стуле без движения несколько часов, с тех пор как он ушел с повесткой в кармане к следователю НКВД. На столе пусто – ни лампы-керосинки, ни ужина.
– А ты меня, чай, и не ждала уже.
Звягин осторожно пробрался к окну, чиркнул спичкой и зажег лампу. Опасливо глянул на жену – жива ли, не покойница ли сидит за столом. Протяжный звук, похожий на тонкий вой или скулеж больной собаки, подсказал, что жива.
– Отпустили. – Звягин виновато развел руками. – Я ж ничего не знал. А знал бы, по шеям надавал.
– Все из-за тебя, – тихо простонала жена. – Из-за тебя арестовали детей. Сколько раз твердила – молчи, не ругай эту власть, хоть при детях не ругай!
Звягин опустился на кровать и долго, с тяжелыми вздохами молчал.
– Жизнь такая пошла, что хоть Богу молись, больше некому.
– Ну и молись! – плакала жена. – Батюшка в церкви говорил: оттого так живем, что народ Бога забыл.
– Сами себя забыли, мать.
Звягин выругался и со злостью ударил кулаком по колену.
20
Учебный год завершался вечером старших классов. В шесть часов стартовала торжественная часть с подведением итогов, комсомольскими отчетами, планами и стахановскими обязательствами на будущий год. В большом зале набились парни и девушки из двух восьмых, девятого и выпускного десятого классов. Комсомольский актив занял два передних ряда и своими серьезными спинами, а также призывающими к порядку взорами несколько утихомиривал бурное веселье прочей массы.
Полтора часа речей и клятв под предводительством комсорга школы перетекли в художественную часть вечера с песнями о Сталине, стихами Пушкина и гимном советских летчиков. «Марш авиаторов» в нестройном хоровом исполнении стал импровизацией. С утра только и разговоров было о высадке советской экспедиции у Северного полюса. Днем по радио слушали сообщение академика Шмидта, как блестяще совершил посадку на льду летчик-герой Водопьянов, какая погода на полюсе и как провела свой первый день на льдине экспедиция. На открытии вечера комсорг Аркаша Шестопалов, счастливый, как и все, переполненный гордостью, провозгласил со сцены: «Северный полюс покорен Советским Союзом, ура!»
На последних аккордах летчицкого гимна самые нетерпеливые повалили из зала. В школьном дворе афишировались танцы до упаду. Уже стоял стол с патефоном и стопкой пластинок, крутился утесовский «Марш веселых ребят». Неурочно работал школьный буфет, но купить можно было лишь ситро и конфеты-тянучки. Кавалеры в отглаженных рубахах и брюках со стрелками расхватывали девчонок, накрутивших на головах взрослые прически. Пластинку поменяли: под медленный фокстрот даже не умеющие танцевать парни пустились топтаться и отдавливать ноги партнершам.
Обрывая музыку, на крыльцо с радостным воплем взбежал девятиклассник, которого все звали Пистик. «Над Северным полюсом развевается флаг Союза Советских Социалистических Республик!» – размахивал он газетой. Его тут же обступили, окружили плотной толпой, полезли на парапет крыльца. Свежая «Правда» сообщала на первой полосе подробности. Пистик возбужденно зачитывал:
– «Товарищу Сталину, товарищу Молотову – радиограмма, полученная через остров Диксон! В 11 часов 10 минут самолет “СССР Н‑170” под управлением Водопьянова, Бабушкина, Спирина, старшего механика Бассейна пролетел над Северным полюсом. Для страховки прошли еще несколько дальше. Затем Водопьянов снизился…»
Толик Черных почувствовал, как дергают его сзади. Это был Игорь, а с ним Фомичев. Юрка жил на Казанке и учился в поселковой школе, сюда его не должны были пропустить дежурные на входе – где-то пролез. Физиономии у обоих выглядели нерадостно и озабоченно.
– Общий сбор, – вполголоса сказал Бороздин.
За углом школьного здания уже ждал Брыкин, дымивший папиросой. У ног его стоял пузатый портфель с «угощеньем» из нескольких бутылок.
– Леньку вчера арестовали! – объявил Фомичев, когда все четверо собрались в кружок.
Выкладывая подробности, какие смог узнать, Юрка всматривался в лица приятелей и пытался понять – считают ли они Звягина способным на слабость и предательство.
– Ленька парень-кремень. Он не сдаст, – убеждал Фомичев. – Я за него ручаюсь!
– Думаешь, они напали на наш след? – спросил Черных Игоря.
– Да мы и наследить-то не успели. Если его взяли вместе с братом – тут что-то другое.
– А вдруг это они листовки в городе клеили?
– Ленька втайне от нас не мог. Скорее это младший.
– Он не сдаст, – повторял Фомичев. – Нам опасаться нечего.
– Конечно, нечего, – подтвердил Бороздин. – Но надо найти того парня с паровозоремонтного. Витьку Артамонова. У него наш журнал.
– Я не знаю, где он живет, – сказал Юрка.
– Значит, будем караулить его по очереди у заводской проходной, начиная с завтра. Все, расходимся.
По школьному двору рассыпалась ритмично-заводная мелодия «Рио-Рита». Игорь отыскал стоявшую в стороне Мусю Заборовскую. Пока он решал, сообщить ей новость или нет, девушка утянула его в танцующую толпу. Брыкин, со своим толстым портфелем под мышкой похожий на деловитого парторга, искал другое:
– Распатронить бы, но не здесь.
Черных посмотрел на распахнутое окно второго этажа. Поняв друг друга без слов, они втроем двинулись ко входу в здание, расталкивая танцующих. Взбежали по лестнице, ввалились в пустой класс и заперли дверь шваброй, вставив палку в ручки. Брыкин доставал бутылки – портвейн, четвертинки «Горного дубняка» и водки. Стаканов не было, пили из горла. Закусывали длинной булкой и конфетами. Поднимали тосты за «Союз спасения России от большевиков», за Леньку Звягина и за скорейшее установление самых тесных связей с девчонками, кому какая нравится. Брыкин предложил сделать ерша и сам намешал в бутылке портвейн с водкой. Потом Фомичеву приспичило по нужде, и ему со смехом выдали чайник с окна для поливки цветов. Брыкину пришла в пьяную голову идея. Он долил в чайник свое и, высунувшись из окна, стал поджидать. Нужный момент настал скоро, из чайника на головы танцующих полилась желтая струя. «Комсорга окропил!» – Генка, хохоча, захлопнул окно. Через полминуты в дверь кабинета ломились снаружи. «Вы что там, черти, перепились?!»
В классе на третьем этаже спрятались ото всех Бороздин и Заборовская. Свет не включали и в сумеречной полутьме стояли лицом к лицу. «Что я не умею?» Легким, смазанным движением он провел по ее груди. «Вот и не умеешь». – «Умею. Просто боюсь получить от тебя по голове». Они тихо рассмеялись. «Можно я тебя поцелую?» Смущенное в ответ: «Если хочешь». Губы почти касаются губ, но дверь класса вздрагивает от ударов, и снаружи доносится смех: «Бороздин, открывай!» В коридоре чудят – топочут парни, визжат девчонки. «Смотрите, как бы промеж двух комсомольцев не завелся вдруг октябренок!» – кричат в дверь. «Дураки!» – дает отпор Муся. «Давай сбежим от них?» – предлагает Игорь. «Куда?» – «На Оку». Когда в коридоре утихает бедлам, они выходят. Он отпускает ее руку и идет вперед.
Во дворе при свете двух фонарей продолжались танцы. Но парочек становилось меньше, любезничающие парни уходили с подружками, провожая их до дома. Восьмиклассницы сбивались в стайки, чтобы идти вместе. За ними наблюдали двое, устроившиеся на лавке. Затеяв эксперимент, они высматривали подходящую натуру. «Давай!» – комсомолец Борька Заборовский толкнул приятеля кулаком в спину.
– Люся, подожди! – Тот подскочил от удара и подлетел к компании из трех девчонок. – Можно тебя на минуту?
Глянув на подружек, девушка пожала плечами и сделала два шага в сторону.
– Чего тебе, Аристархов?
– Ну… – замялся Миша. – Давай завтра сходим в кино?.. Или… Ну в общем… Ты не заорешь, если я тебя поцелую?
– Ты что, дурак, Аристархов? – удивилась Люся. – Кто же на людях целуется? Я не заору, а просто стукну тебя.
– Ну ладно, – легко согласился Миша и отступил.
С лавки тотчас сорвался Заборовский. «Подожди, Суханкина!» Подбежав, он схватил девушку за руку, дернул к себе и прижался ртом к ее губам. Люся с писком принялась бить нахала по плечам и голове. Подруги не стали ждать, чем кончится, и с возмущенным криком налетели на парня. Втроем они свалили его наземь. Борька смеялся, торжествуя.
– Вот как надо! – бросил он приятелю, когда одноклассницы, ругаясь на них, ушли. Поднялся, отряхнулся и вернулся на лавку. – Не будь слабовольным разиней. Жизнь – это борьба и развитие. В ней побеждают люди дела, те, которые имеют несгибаемый характер и железную волю. Если ты не станешь таким, то будешь нытиком и хлюпиком, который все время страдает от своей никчемности. Ты пойми, – поучал Борька, – социалистическое общество требует от каждого включиться в решение гигантских задач. На это сейчас способен не каждый, а только тот, кто дорос до величия нашей эпохи. Все-таки мы живем в счастливое сталинское время! У нас еще много разных недостатков и сознательного вредительства, но скоро мы все это искореним. Не будет больше преступлений, казней, тюрем, церквей, всякого мещанства и невежества. Наступит счастье всего трудового человечества. Мы должны выковывать из самих себя новые личности! Изучать технику и науку, читать литературу, разбираться в музыке и живописи. Но главное не это. Человечеству нужны люди бодрые духом и здоровые телом. А если ты упадническая личность, то какой прок от тебя обществу? От тебя будет только гниль. Советское государство давно это поняло и избавляется от таких.
– От кого избавляется? – не понял Миша.
– От тех, которые не принимают целей и интересов нашего передового государства. От всех бывших. Дворян и торговцев уже извели, теперь очередь за кулаками и попами.
– Но мы-то с тобой тоже…
– В этом все и дело! – Борька даже подпрыгнул на лавке от волнения. – Мы с тобой должны солидаризироваться с Советским государством, иметь искреннее убеждение в его правоте и делать то, что оно требует от нас. Тогда оно забудет о нашей черной метке, простит нам порченое классовое происхождение. Ты понял? Тебе непременно надо вступить в комсомол. – Он с гордой улыбкой потрогал свой значок на рубашке. – Моя сестра дура, она говорит, что я просто мимикрирую, как какое-нибудь насекомое, и никакой искренности во мне нет. Она думает, я проклинаю свое дворянское происхождение, потому что боюсь. Нас же с ней в комсомол приняли только потому, что отец сотрудничает с органами. А вдруг он там чего-нибудь напортачит или еще хуже – станет изменником? Но Муська не понимает: я не боюсь. Я себе дорогу в социализм сам проложу. Потому что учусь быть приспособленным к жизни. Вот я тебе расскажу случай. Мать зимой получила письмо от родни из деревни. Жаловались, что помирают с голоду. Теткиного мужа посадили за кражу зерна. Украл-то всего ничего. – Борька фыркнул. – Мать к ним поехала, повезла продукты. Когда вернулась, чуть не в голос ревела. Муська злилась и ругала коммунистов. А я был до ужаса хладнокровен и ни капли им не сочувствовал. Раз они сами не могут побороться за жизнь, пускай помирают. Какая от них польза человечеству? Советская власть их перевоспитывает, и те, которые выживут, будут годными к социализму.
– Но они же люди, – недоумевал Миша. – У них же душа есть.
– Вот и видно, что ты поповский сын! – поймал его Борька. – Ты это брось, Мишка. Марксистская психология устранила понятие души как ненаучное. Загляни в советскую энциклопедию…
* * *
Опрокинутая над миром чаша небес казалась темным океаном, в котором мерцают серебром скопления планктона. Теплое движение воздуха доносило издали, может быть с другого берега Оки, переливистое соловьиное пение – радость близкого лета, неизменного круговорота жизни, восторг инстинктов и чувств. Река тихо плескала, вторгаясь невнятным шепотом в разговор двоих.
Они лежали на травяном островке посреди прибрежного песка, касаясь друг друга руками.
– У тебя кто-то был до меня?
– Нет, ты первая.
– И единственная?
– Да.
– У тебя так быстро все получилось… как будто ты опытный.
– Я люблю тебя, Маша.
Она приподнялась и прижалась лицом к его груди под глубоко расстегнутой рубашкой.
– Мне цыганка в детстве нагадала, что я свою любовь потеряю, а потом снова найду. Только любовь моя будет непростая.
– Это как?
– С му́кой пополам. – Муся снова перевернулась на спину, подставив лицо звездному свету. – Мэри верит в чудеса, Мэри едет в небеса… – тихонько пропела она. – Давай убежим! Далеко-далеко. Чтобы никто нас не нашел. На Амур или в Магадан.
– Что мы там будем делать?
– Жить. Любить друг друга. Работать.
– Чернорабочими? Нет, мы должны получить образование и делать то, что следует. Кто, если не мы? Поколение родителей безнадежно. Они всего боятся, их воля сломлена или куплена спецподачками.
– Но ты уедешь в Москву, а меня там не примут в институт.
– Это ненадолго, всего несколько лет. Потом мы будем вместе. У нас вся жизнь впереди.
– А вдруг ты попадешься? Тебя арестуют, отправят на каторгу.
– Революционер и подпольщик должен быть готов к этому. Вспомни, Октябрьскую революцию делали политкаторжане.
– Да, только где они теперь… Опять в ссылках. Или каются перед расстрелом в выдуманных преступлениях.
– У нас все будет по-другому. Ты чувствуешь?
– Что?
– Весь мир раскрывает нам свои объятия. Мы будем хозяевами в нем. Никто нам не помешает. Мы добьемся, чего хотим. Главное, не бойся.
– А я не боюсь. – Она опять перевернулась и нависла над ним. – Ты не сделаешь кое-что для меня? Только не смейся. Купи мне в Москве чулки из искусственного шелка. Их только там можно достать.
– Ладно, куплю. – Игорь обнял ее и прижал к себе. – Какая же ты еще… несмышленая, моя Мэри.
– А ты слишком серьезный. Слишком часто хмуришься. Ты должен улыбаться. У тебя очень хорошая улыбка. Бороться за свободу нужно улыбаясь, тем более – врагам.
– Будем улыбаться нашим врагам, – обещал он.
Где-то пропел петух, предваряя новый день. По реке тенью скользила рыбацкая лодка, возвращаясь с уловом.
21
Юрка Фомичев нервничал. Последний урок истории в учебном году, последний шанс для тех, кто хочет исправить итоговую оценку в журнале. У Юрки по этому предмету «посредственно» только потому, что историю революционного движения он отлично знал по рассказам отца, члена партии левых эсеров, а не по сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(б)». Несправедливо, но вытерпеть можно. В сравнении с великой несправедливостью, которая досталась поколению старых революционеров, противников большевизма-коммунизма, это чепуха. Тревожило Юрку совсем другое – шесть пустых мест за партами. Шесть человек в начале урока увели в кабинет директора. Вот уже полчаса их нет. Чутье подсказывало, что допрашивают их там про Леньку Звягина.
– Господствующий класс всегда использовал религию в своих интересах, – медленно жевал слова у доски очкарик Грушкин, исправлявший свой «хор» на «отл». – Болтовней про высшие силы эксплуататоры подавляли сознательность порабощенных масс, отвлекали их от классовой борьбы. Буржуазия, которая боролась с феодальной католической церковью, все равно знала, что религия ее верное орудие. Даже хлестко высмеивавший религию буржуазный идеолог Вольтер проговорился: если Бога нет, то нужно его создать. Совершенно ясно, зачем они выдумывали Бога и заставляли рабочих и крестьян поклоняться Ему…
До конца урока оставалось десять минут, когда в классе снова появилась завуч – маленькая женщина в подпоясанной гимнастерке и сапогах, со злыми, цеплявшими, будто крючья, глазами. Позади нее гуськом вошли и тихо разбрелись по местам четверо парней и две девчонки. Юрке показалось, что всех шестерых словно стукнули палкой по голове. Завуч по бумажке стала вызывать новую партию для отправки к директору. Прежде чем прозвучала Юркина фамилия, он успел подколоть ручкой в спину севшего впереди Фимку Кляйна. «Зачем гоняли?» – спросил шепотом. «Троцкистов ищут», – с полуоборота ответил тот. «У нас в классе?» – ошалел Юрка. – «В школе».
– Фомичев, ты тоже.
Юрка обреченно присоединился к остальным пяти. Завуч, словно эскадренный флагман, вышагивала впереди по коридору, затем по лестнице. Навстречу уже шла нянечка, бултыхая колокольчиком, – звонок на перемену. Перед кабинетом директора завуч отобрала двоих и велела заходить. «Таким бы голосом команду на расстрел отдавать», – прошептал Грушкин, не успевший получить свой «отл».
Кроме директора в кабинете находился человек в форме НКВД с сержантскими нашивками. Он сидел за длинным приставным столом, обложенный ученическими журналами и листами бумаги, и писал. Юрка разглядел на листах списки.
– Ну так, – начал директор, – живо вспоминайте, кто из учеников вел политические разговоры, говорил что-нибудь про товарища Сталина или членов правительства.
Юрка внезапно чихнул. Директор наставил на него маленькие сверлящие глазки.
– На уроках политинформации мы всегда говорим про товарища Сталина и членов правительства, – промямлил Грушкин.
– А что такое политические разговоры? – решил уточнить Фомичев. – Мы перед Первомаем говорили в классе, как СССР помогает испанским республиканцам воевать с фашистами. Это считается?
– Не считается. Я вас спрашиваю про разговоры с антисоветским душком, понятно? Контрреволюционные анекдоты или стихи кто-нибудь в классе распространял?
– Я не слышал, – сказал Грушкин. Юрка только пожал плечами.
– Говорил кто-нибудь, что зря расстреляли старых вождей революции, соратников Ленина? Кто-нибудь жалел их? Про убийство товарища Кирова были высказывания?
– В декабре был митинг памяти Кирова, – старательно вспоминал Фомичев. – Там говорили про троцкистов, что лучше их не расстреливать, а вешать. Кирова сильно жалели. А что тут антисоветского-то?
– Тебя вызвали отвечать на вопросы, а не задавать и делать выводы! – вдруг набросился на него с криком директор. – А ну встань ровно!
Юрка отлип от шкафа, на который опирался. Он испытывал острую неприязнь к этому широкому, низкорослому, с неказистым лицом человеку, главными свойствами которого были, конечно же, собачья преданность партии и навыки тюремщика.
– Товарищ Чемякин, я сам поговорю с ребятами, – вмешался чекист.
– Конечно, конечно, товарищ Горшков. – Директор энергично постучал себя сзади по толстой шее. – У меня эти ребята вот уже где! Пьют, дебоширят, матерятся, бьют комсомольцев…
– Я комсомольцев не бью, – быстро возразил Фомичев. – Я сам кандидат в комсомол.
– Еще посмотреть, кто тебя протащил в кандидаты, – пробрюзжал директор. – Дружка твоего Звягина осенью только по просьбе отца, заводского мастера, не выгнали из школы.
– За что? – тут же заинтересовался энкавэдэшник.
– Ругался матом на девочек. Это, товарищ сержант, на девяносто процентов не наша, не советская молодежь. Недисциплинированные, дерзкие, срывают уроки и школьные мероприятия. Если по ним не принимать меры, они еще себя покажут, государство от них еще наплачется.
– Ну это, однако, преувеличение… – заволновался очкарик Грушкин.
– Тебя никто не спрашивает!
– Товарищ Чемякин. – Чекист жестом попросил директора умолкнуть. – Успокойся, – он заглянул в свои бумаги, – Петя. Вас никто не обвиняет. Мы просто беседуем о вашей школьной жизни. Я сейчас задам вам вопрос, а вы оба не торопитесь отвечать, подумайте как следует, напрягите память.
– Задавайте ваш вопрос, – поторопил его Юрка, внезапно охрипнув. – Хватит уже тянуть за причинное место.
Чекист хмыкнул, уставившись на него с пронзительным интересом. Фомичев поежился.
– Задаю. Что вам известно о существовании в школе нелегальной группы, которая прицельно срывает учебный процесс, морально и идейно разлагает ваших товарищей, ведет подпольную политическую агитацию? Под разложением и агитацией надо понимать рукописные материалы, карикатуры, листовки, рисованные фашистские свастики на стенах, глумление над портретами советских вождей.
– Ну-у… – Юрка закатил глаза. – Рисовали рога Сталину в красном уголке. А кто, я не знаю. Наверное, мелюзга. С уроков сбегали всем классом, точно. Кто был заводилой, не помню.
– Никто не был, просто так получалось, – добавил Грушкин. – Но я не поддерживал.
– На переменах дрались. В туалете вино пили, – сознавался Фомичев. – А что тут такого-то?
Оба чесали в головах, силясь припомнить еще что-нибудь нелегальное.
– Это все? – сухо спросил сержант. – Больше ничего не хотите мне рассказать?
– Вроде все.
– Ладно, можете идти.
Сдерживая вздох облегчения, Юрка потопал вслед за Грушкиным к двери кабинета.
– Фомичев, задержись на минуту, – окликнул его чекист, и Юркино сердце снова ухнуло к пяткам. – Зайди завтра в райотдел НКВД. Адрес я тебе тут написал. – Сержант подвинул клочок бумаги через стол. – Заберешь письмо от отца.
– А… почему оно у вас?
– Ты разве не знаешь, что вся переписка ссыльных проходит через органы?
Юрка изумленно-настороженно взял бумажку и на полусогнутых вышел в коридор.
* * *
В квартире за дверью яростно и нетерпеливо заливался звонок. Юрка отпустил кнопку и примерился было стучать ботинком, но первый же удар пришелся в пустоту.
– И звонют, и звонют, – ворчала открывшая домработница. – Чего надо-то, сокол чумазый?
– Геннадия Петровича.
– Ишь ты, Геннадия Петровича. Это кто ж такой? Никак Генка? Ну проходи, важная птица. – Женщина впустила его в прихожую. – Да башмаки-то сыми, полы после вас не намоешь.
Юрка босиком влетел в комнату Брыкина-младшего и плотно закрыл за собой дверь. Генка бросил на кушетку роман Жюля Верна.
– Ты чего?
– Меня вызвали в НКВД! – выпалил Фомичев. – В школе был чекист, допрашивал всех. Змеиными глазами шарил, как базарный карманник руками.
– Про Звягина выпытывал?!
– Про Леньку он ни гу-гу. Кажется, они в точности ничего не знают, наугад раскидывают сети. Ленька молчит, зуб даю. Даже если его подвергнут пыткам…
– Пытки в энкавэдэшне никто не выдержит, – хмуро заметил Брыкин. – Не помнишь, что ли, как старые ленинцы Зиновьев, Каменев и Пятаков соловьями на суде разливались.
Юрка нервно закусил губу.
– Все равно у них ничего нет на нас. Меня будут вербовать в стукачи, это и суслику понятно.
– Если откажешься, считай, всё: ходу тебе в жизни не будет, – со знанием дела сказал Генка. – Они злопамятные.
– А если соглашусь для виду? Ты читал книжки про двойных агентов?
– Нет, Юрка, тебе хана, – уверенно топил его в безнадежности Брыкин. – Коготок увяз – всей птичке пропасть. Лучше подайся в бега. Завербуйся рабочим на Колыму, там народ нужен.
– А как же наше дело? Союз спасения России?
– Ты должен пожертвовать собой ради нашего дела. – Генка положил руку ему на плечо. – Порвать всякие связи с Союзом спасения, чтобы не утопить нас всех. В ином случае нам придется тебя убрать. Подпольная работа на революцию – жестокая реальность.
– Куда убрать?
– В могилу, – невозмутимо ответил Брыкин. – Наган я у отца возьму.
– Да ты чего, Генка? – заморгал Фомичев.
– А ты думал! Между прочим, – Брыкин снова завалился на кушетку и взялся за книжку, – у нас сегодня тоже было разбирательство. Ты хоть помнишь, как мы облили мочой из чайника нашего комсорга? Я – смутно. Однако пришлось повиниться. Наш директор сказал, что, если б не мой отец, меня выставили бы из школы без аттестата.
Юрка растерянно переминался с ноги на ногу.
– Так ты скажешь Игорю?
– Да, тебе самому лучше ни с кем больше не встречаться. За тобой, наверное, уже следят. Если там спросят, зачем был у меня, скажи, что занимал рубль, принес долг. Понял?
– Ага. Ну пока. Прощай, Генка. Не поминайте… если что.
Фомичев грустно поплелся прочь, раздумывая, где достать деньги на билет до Колымы.
22
Солнечные блики играли на речке, лениво волочащей свои невеликие прозрачные воды в большую реку Оку. Гудел шмель, обирая цветки, стрекотало майское разнотравье. Поодаль весело прыгали в речку с подмытого взгористого берега озорующие мальчишки. Отец Алексей, засмотревшись на них, заложил книгу плетеной лентой. Потом снова открыл и ногтем отчеркнул на странице место, над которым размышлял уже четверть часа.
– К вам можно, батюшка?
– Да-да, конечно, – встрепенулся священник, удивившись неожиданному вопросу и еще более – человеку, который задал его. – Места в партере у природы не куплены, так что располагайтесь. – Он улыбнулся.
Директор школы Дерябин, сняв пиджак и поддернув на коленях неряшливо-мятые брюки, устроился рядом на травяном ложе над рекой.
– Что читаете, могу глянуть?.. Хм. Достоевский. Реакционный писатель.
– Так и мы, русские попы, махровые реакционеры, – пошутил отец Алексей.
– Махровые, это точно, – раздумчиво согласился Сергей Петрович. – Вы сегодня были в ударе, батюшка. Такую проповедь закатили. Даже ваша паства, похоже, давно такого не слышала.
– Вы были в храме? – изумился священник. – Я вас не видел.
– Да вот, зашел. Сам не знаю зачем. Покойница-жена во сне приходила. Молчала и плакала. Я там, во сне, понял, что это она обо мне плачет. Спросил ее, а она и говорит: «Убьют тебя скоро, Сережа. Иди в храм…» Так и повторяла: «Иди в храм», пока я не проснулся.
– И вы пошли в храм. Но не знаете, что там делать, в храме.
– Постыдное малодушие… Директор советской школы идет в церковь, испугавшись обыкновенного сна. Абсурд. – Дерябин нашел в траве камень и бросил в реку. – Но ваша проповедь, батюшка… Хотел бы я на своем месте быть таким же смелым, как вы. Дома я даже записал ваши слова по памяти. Хотите, прочту? Проверьте, правильно ли запомнил.
Он поискал в карманах пиджака и извлек какой-то бланк на желтой бумаге. С обратной стороны бумага была исписана.
– «Времена настали тяжелые, слышится везде плач и стон. Но надо терпеливо переносить посланное Богом, – читал Дерябин. – Не мы первые, не мы последние. Такое уже бывало, Бог карал свой народ за безбожие. Брат идет против брата, сын против отца. Голод, болезни, ненависть людей друг к другу. Нужно держаться и никого не бояться, хотя нас и мало. Нужно учить детей веровать и молиться. С крестом и верой противостоять тем, кто идет против Бога и религии. Если будем отступать от Бога, то сами себя предадим на растерзание. Теперешние люди слепы, одобряют то, что следует презирать и отвергать. Нужно не бояться властей, а везде и всегда доказывать, что Бог есть…» Дальше я не запомнил.
– Да, все верно. У вас хорошая память, Сергей Петрович.
– Так скажите, батюшка, есть ли Бог? Вы говорите про какие-то доказательства… Но их не существует.
– А это зависит от того, как вы сами на себя смотрите, – с живостью подхватил тему отец Алексей. – Кого в вас больше – директора советской школы, члена партии, или обычного человека, который думает, чувствует, радуется, страдает.
– Если даже вы так ставите вопрос, что все дело в субъективном восприятии, – вдруг загорячился Дерябин, – значит, Бога нет и вы сами в Него не верите!
– Я верю. А жена ваша не только уверовала, но и увидела.
– Что увидела?
– Не знаю. Но что-то она увидела и узнала там, за чертой смерти. Отчего последние, свыше дарованные ей дни провела в молитве и покаянии.
– А если это был летаргический сон? Может, ей там приснилось что-то?
Отец Алексей взволнованно всплеснул руками.
– Что же вы делаете, Сергей Петрович! Вы же хотите поверить. Не мне, а жене своей хотите поверить, но боитесь директора советской школы, как будто он может наказать вас, отругать и поставить неуд на экзамене.









































