Читать книгу "Охота на Церковь"
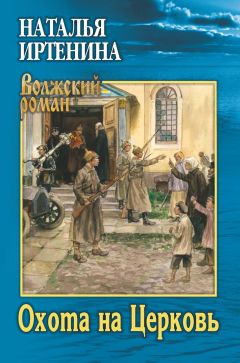
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Матушка, – вдруг позвала Женя, не открывая глаз. – Я знаю… живой меня не выпустят.
Монахиня обняла ее. Не понять было – проснулась она или во сне, как в бреду, разговаривает.
– А так и легче. Поначалу страшно, когда они грозятся и кричат. Когда кажется, что еще можно отсюда выйти… А потом уже не думаешь, чтобы выжить. Только бы со Христом быть… Уйти туда… Так даже радостно… и мир на душе, матушка. Уже не чувствуешь, как тебя мучают. Душа свободна, если на себе крест поставить. Они над ней власти не имеют… черные человечки из трубы…
Пятеро суток следователи менялись каждые восемь часов. Они сидели молча или разговаривали по телефону, читали газеты и писали свои бумажки, ели и пили, забывали о ней, снова вспоминали, и все начиналось заново: «Сознайся, что получила задание от попа-благочинного Гладилина заразить городской водопровод туберкулезной палочкой… Отвечай, сколько человек в больнице ты отравила, подсыпая им в питье медленный яд?..» Сначала она стояла посередине кабинета. Ей запрещали даже опускаться на корточки. Когда от усталости она стала шататься, передвинули ее в угол, чтобы упиралась в стены. Время от времени следователь подходил близко и гаркал в самое ухо, вырывая из навалившегося, как давильный пресс, сна. Другой придумал шутку: поставил табурет ножками кверху и предложил ей сесть.
Только трижды за все время конвейера дали стакан воды и кусок хлеба.
На четвертые сутки она увидела черных человечков, шныряющих по кабинету. Они были всюду – на столе, среди папок и бумаг, на лампе, шторах и стенах, ходили по потолку, как насекомые. Она слышала их злой смех и невнятное лопотанье. Ноги утратили чувствительность, поэтому она не ощущала, как они царапают ее и пытаются грызть. Потом в кабинете появилась большая белая птица, похожая на чайку, и принялась склевывать злобных человечков. Они верещали, исчезая в ее клюве и глотке.
Сознание меркло, тело безвольно падало. На голову ей лили холодную воду и вновь ставили на ноги. Но и в тумане забытья, и в проблесках яви, становившихся все короче, она повторяла одну и ту же молитву. За эти несколько слов держалась, как за поручень, привязала себя к ним, как веревкой к мачте во время шторма. Зацепилась за них, как за свет маяка вдали…
– А подписала бы и не мучилась, – бубнил все тот же голос в камере. – Чего ради-то себя изводить? Тебе жить да жить. Еще замуж выйдешь, детей нарожаешь. Я им все бумажки подмахнула, подумаешь, важность. Обещали скоро выпустить. Годок, говорят, посидишь, Евдокия Петровна, отработаешь свою вину перед государством. И Вовку моего отпустят, малой он еще. Чего ж себя зазря губить, мученицу строить?..
– Да заткнись ты, курица-наседка! – грубо оборвала Евдокию Петровну другая сиделица.
Мать Серафима тихонько перекрестила Женю, снова провалившуюся в глубокий сон. «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас, твоих сиротах…»
8
Заместитель начальника Муромского райотдела НКВД Баландин бросил на стол бумагу и энергично постучал по ней пальцем:
– Справка по арестам за неделю. Скоро эти цифры заставят нас удавиться!
Он показал на потолок, где на крюке висела лампа со стеклянным плафоном.
– Спокойней, Вася, спокойнее. Сядь, посиди, отдышись.
Кольцов жадно впился глазами в графы с двузначными числами. Просмотрев, он раскрыл свой «гроссбух» и принялся переписывать в него цифры со справки. В толстую тетрадь заносились показатели не только Муромского района, но и соседних. Кольцов лично еженедельно узнавал их по телефону у начальников соревнующихся райотделов.
– Ну что, кто впереди, кто в хвосте нашего социалистического соревнования? – с язвительностью осведомился Баландин.
– Идем почти вровень с Выксой, – удовлетворенно чмокнул Кольцов. – Кулебаки отстают. А до Вязников нам пока далеко. Но мы же стараемся, а, Вася? Мы же из кожи вон лезем, чтобы выполнить задание партии и правительства в срок и в надлежащих объемах, а? – Он со внушением во взоре смотрел на своего заместителя.
– Да еще бы! Я уже не помню, когда спал хотя б четыре часа. Я, Прохор Никитич, от лишения сна и отдыха дошел уже до такого состояния, что не могу здраво рассуждать. У меня психические припадки скоро начнутся! – с повышенной нервностью в голосе объяснял Баландин. – Я уже своей жене не верю, что она советский человек.
– По правде сказать, Вася, – вкрадчиво произнес Кольцов, – она у тебя и впрямь не слишком советский человек.
– Да хоть жену-то мою не трожьте! – тотчас взвился его зам.
– Не трогаем. Но и ты, Вася, истерики мне не закатывай, холера, – построжел начальник райотдела. – Паникерство не разводи!
– Невмоготу мне, Прохор Никитич, пойми! – Баландин прижал руку к груди. – Не могу больше лепить эти чертовы протоколы. Я сейчас совершенно больной психологически человек. Временами даже забываю русский язык!
– А какой вспоминаешь? Немецкий или английский? – Кольцов наставил на него карандаш. – Шутка, Вася, шутка, – рассмеялся он, видя, как задергалось у Баландина веко, точно зам подмигивал ему изо всех сил.
– Мне, Прохор Никитич, не до шуток. Хоть рапорт об увольнении пиши.
– А вот это ты брось! – Младший лейтенант стер с лица смех и повторил грознее: – Брось, тебе говорю! Дезертировать в такой ответственный момент тебе никто не позволит. Хватит с меня одного Кондратьева, холера!
– А я тебе о чем говорю! Это первая ласточка. Первый удавленник. Ты зачем мальчишек на мокрое дело отправил?!
– А кого надо было? Тебя? Если человек пошел в чекисты, надо сразу проверять его делом. Чтоб потом не было поздно. Исполнение приговоров сам товарищ Сталин со всем уважением назвал черновой работой! Да тьфу на тебя, Баландин, с твоими бабьими предсказаниями.
– А если мы ошибаемся?
– Чекисты не могут ошибаться, – ответил Кольцов и только после этого осмыслил прозвучавший вопрос. Нахмурился: – Что ты хочешь сказать?
– Только то, что преступления мы сами сеем и растим, а потом с ними боремся.
– Кто это – мы? – Кольцов привстал в изумлении. – Ты соображаешь, что говоришь, Баландин?
– Ты выслушай, Прохор Никитич, а потом уж возмущайся, если хочешь. Сколько у нас прошлой осенью было арестованных колхозников, помнишь? Все как один твердили: на заработанные трудодни колхоз ничего не выплатил, поэтому пошли на преступление, украли хлеб, чтобы кормить детей. А теперь мы в сельском хозяйстве целые контрреволюционные организации вскрываем, черт бы их взял! Понятно, с чего они там берутся. Нам, чекистам, лучше всех известно, что недовольства в стране растут, и почему они растут, и что одними арестами это не выправишь. Надо менять политику партии, которая сама себе плодит врагов…
Баландин осекся, испугавшись собственных слов. С минуту в кабинете тикало настенными часами тяжелое безмолвие, словно каплями ледяной воды шлепая по темечку обоих, и начальника, и заместителя.
– Ну вот что, Василий Никифорыч. Я твои слова услышал и записал. – Кольцов постучал по бумаге. – А теперь возьми себя в руки, холера, и иди работать! Дел невпроворот, у меня людей не хватает, а тут еще ты сопли распускаешь, мозги тебе вправляй. А будешь еще кому-то сморкаться в жилетку, как мне сейчас, я вот эти твои речи письмом отправлю в управление и сам же тебя арестую как троцкиста и врага народа! Будешь на допросах подписывать признания в контрреволюционном саботажничестве, вредительстве и диверсионной деятельности по заданию немецкой разведки. Ты меня понял, холера, Баландин?
– Так точно, товарищ младший лейтенант, – в смятении выдавил заместитель. – Разрешите идти?
Кольцов раздраженно, резким движением головы выгнал его из кабинета. Посидев-поразмышляв, он рванул с телефонного аппарата трубку.
– Соедини с карабановским колхозным правлением… Начальник райотдела НКВД Кольцов. Председателя колхоза мне дайте… Яков Терентьич, доброго денечка… Как там у вас борьба за урожай? Обязательства по картошке-моркошке выполняете?.. Жеребая кобыла сдохла? Ах не разродилась… Ну разберемся, кто вашей животине вредит… Просьбица у меня к тебе. Подгони-ка к нам в райотдел яблочек из колхозного сада, ящиков пять. Что-то мои жеребцы квелые стали, подкормиться бы им витаминами… Ты меня знаешь, Яков Терентьич. И я тебя, мошенника, знаю… Все государству, говоришь, сдали?.. И поздних сортов у тебя нет?.. Я к тебе сейчас двух своих орлов отправлю, они из тебя вытрясут все, что мимо государства идет. На самогон у себя сколько оставляешь?.. А мне накласть, что у тебя все подводы на уборочной! – рявкнул Кольцов, потеряв терпение. – Мои сотрудники из сил выбиваются, очищают район от врагов, с лица все бледные да зеленые. Давай вези им витаминов, холера, так твою и растак!
Брошенная на аппарат трубка возмущенно звякнула.
9
– Морозов!
Негромкий оклик со спины будто переключателем скоростей запустил учащенное сердцебиение. Показалось, что настал наконец его черед. Ареста он ждал давно, второй месяц, и чем дольше этого не происходило, тем острее воспринималась суета жизни, пронзительнее отдавались в душе мелочи повседневности. Чувствительнее играло на нервах все, что негаданно вторгалось в обыденность.
Сохраняя наружное спокойствие, он обернулся. Внизу крыльца стоял обычный с виду человек, с неприметной и неказистой внешностью. В толпе такие растворяются мгновенно, даже кепку на лоб натягивать не нужно. Серый плащ, серая щетина на лице, серые глаза, проседь на висках.
– Поговорить нужно. – Незнакомец сделал последнюю затяжку, затоптал окурок и кивнул в сторону больничного парка, наполовину уже облетевшего, опрозрачневшего.
– Кто вы?
– Кто я, вопрос для тебя не настолько важный. Важнее то, что я знаю, кто ты. Пойдем сядем.
Морозов собирался зайти в бухгалтерию, забрать получку. Времени до закрытия кассы оставалось немного, но серый человек выглядел и говорил слишком уверенно. Такие попусту не болтают. Николай спустился с крыльца.
Скамейка в начале парковой дорожки была покрыта газетными листами, вымокшими под дождем и присохшими под солнцем. Незнакомец очистил для себя место, тщательно отодрав все клочья. Морозов, не вынимая рук из карманов, уселся на размытую типографскую краску. Начало разговора ничего хорошего не обещало.
– Я видел тебя пару раз возле дома, где жила девушка по имени Женя Шмит. Ты приходил с цветами. И потом, после ее ареста.
– Вы из НКВД? – прямо спросил Морозов.
– Нет. – Незнакомец качнул головой. Но ответ прозвучал не слишком убедительно. – Уже нет. Не пугайся. Я хочу помочь.
– Но вы следили за домом Шмитов.
– Тоже нет. Живу на той же улице. Женю знаю, она хорошая девочка. Отец у нее занимательная личность, но несчастный человек. Жаль его. И девочку жалко. Болтнула лишнего или у вас в больничке кому-то глаза намозолила… А ты не испугался, когда ее арестовали, был у старика в доме. Из чего я заключаю, что у тебя с Женечкой близкие отношения. Это так?
Морозов молчал.
– Мне нужно знать, парень. Иначе разговор без толку. Если она для тебя чужая и посторонняя, я не буду тратить время…
– Как вы нам поможете?
– Ты сможешь увидеть ее.
Морозов повернулся к незнакомцу и долго смотрел в его серые глаза, затененные козырьком кепки. И все-таки не знал, верить этому человеку или не верить.
– Я хочу увидеть ее. Очень хочу ее увидеть, – с нажимом повторил он.
– Хорошо. Можешь не говорить, в каких вы отношениях, я и так понял.
– Где она? – не утерпел Морозов.
– В городе. В тюрьме НКВД. Но послезавтра ее переводят в Горький. Сначала повезут на поезде до Арзамаса, в общем вагоне. Конвойный милиционер будет один. Ты сядешь в тот же вагон. Но близко не садись. Поговорить вам не удастся. Только смотреть. Попрощаешься с ней и уходи, себя не обнаруживай. Ей уже не поможешь, себя побереги, парень. Поезд будет утренний, московский…
– Вы все-таки оттуда, – ошеломленно проговорил Николай, – из НКВД.
– Я же сказал – нет.
– Но почему ее арестовали, вы не знаете. – Морозов не слушал возражений. Мозг его в эту минуту работал на ускоренных оборотах. Забрезжил очередной план – на этот раз совсем не фантастический, совершенно точно выполнимый. – Вам жалко Женю, и вы знаете, что она ни в чем не виновна. Вы хотели нам помочь? Так помогите устроить для нее побег! Я люблю ее и готов умереть ради нее. Я готов рискнуть и погибнуть, если придется, только бы вырвать ее из лап…
– Даже не думай, парень, – перебил незнакомец. – Все, что мог, я для вас сделал. Дальше ты сам. Но лучше бы тебе не лезть на рожон. И ей не поможешь, и себя погубишь.
Он поднялся со скамьи, зябко поднял воротник пальто и зашагал прочь.
– Но вы же не для того мне все это рассказали, чтобы я молча отдал ее в руки палачей? – отчаянно обратился к его спине Морозов. – Лучше б тогда вообще не говорили мне этого. Как я жить буду после, когда мне все вокруг будут твердить, что она враг народа, а я ничего не сделал, чтобы спасти ее?!
– Ты не в себе, парень. – Незнакомец обернулся.
Морозов встал.
– Я все равно это сделаю, с вами или без вас.
Серый человек, закрывшись от ветра, чиркнул спичкой и закурил. Он вернулся на скамью. Затягивался дымом дешевых папирос и молчал – долго. Николай пытался прочесть непроницаемое выражение его лица, искал во всей фигуре и одежде хоть какой-то намек – кто он, откуда, в каких чинах, почему вообще решил поделиться с ним секретной информацией. Серая обыденность облика не давала никаких шансов ответить на эти вопросы даже приблизительно.
– Слушай внимательно и запоминай. Повторять не буду. К конвойному в поезде подойдут двое в милицейской форме и арестуют его. Чтобы граждане в вагоне не волновались, объяснят, что это ряженый бандит. Он будет сопротивляться, орать, но его успокоят и уведут. Тогда быстро хватай девчонку и сходите на ближайшей станции. А дальше ты уже сам думай, где и как ее спрятать. Лучше всего переждать пару месяцев, а потом уезжайте куда глаза глядят, только подальше, к лешему на рога. С документом для нее нужно будет что-то придумать…
– Кто будут эти двое? – с жадностью спросил Морозов.
– Лишний вопрос.
– Но это надежные люди?
– Они мне обязаны и сделают все, как надо.
Незнакомец отбросил окурок.
– Постойте! А все-таки почему?.. – В иные моменты жизни Морозов и сам не мог понять, что движет им – отстраненное журналистское любопытство или простые человеческие чувства. – Почему вы помогаете нам? Я и Женя, мы для вас совершенно чужие люди…
– Женя мне не чужая. Старик Шмит был моим подопечным…
– Кем? – Вырвавшийся вопрос опередил догадку. – Так вы все-таки…
– Забудь, – поморщился серый человек, недовольный обмолвкой. – Почему помогаю, спрашиваешь. – Он задумался. А когда вновь заговорил, Морозов неожиданно понял, что это – наболевшее, хранимое за семью замками в потайных закромах души, редко-редко извлекаемое оттуда, лишь когда представится случай: – Не дай тебе бог, парень, узнать и увидеть, что такое Гражданская война… Когда сам не знаешь, на какой ты стороне. Когда с ума сходишь, оттого что твой друг или брат оказывается врагом тебе. Не потому, что предал или женщину у тебя увел, а просто потому, что кто-то так решил. Кто-то за нас решил, что мы враги, не поделившие собственную страну… Я в своей жизни наделал немало гнусностей. И за колоски сажал, и детей сиротами делал, и смертные приговоры выписывал… Нет, не на бумажке, а по факту. Опротивело все. Паскудная работа. Хочу человеком остаться, если можно еще. Чтоб у детей моих нормальный отец был. Чтоб знали, что папанька настоящих бандитов ловит, а не выдуманных…
В спускающихся сумерках призрачно заклубился туман. Внезапная тишина над парком и больницей обострила чувство несправедливости, вольготно живущей в мире.
– Настоящие бандиты… – произнес Морозов. – Те высоко сидят, до них не добраться.
* * *
План операции сложился стремительно, гладко, удачно – так, словно иначе и быть не могло. Все звенья выстроились в ровную, крепкую цепочку, начавшись со всплывшего в памяти названия «Мухтолово». В Мухтолове обитали дивеевские монашки, у которых Женя провела летом отпуск. Дивеевских было много и в Муроме. Поговорив с сестрой – разыскал ее тем же вечером в церкви и выдернул со службы, – Морозов узнал, что в городе живет сама игуменья бывшего Дивеевского монастыря. Нина включила свои связи среди монахинь, и на следующий день Морозова впустили в деревянный домик в Красноармейском переулке, стоявший напротив стены одного из муромских монастырей-близнецов.
Нина на всякий случай сопровождала брата. Тихая, смиренная монашка в надвинутом на брови платке шла впереди, показывая путь: по лестнице на второй этаж, по коридору, делившему жилой ярус надвое. В темной комнатке без окон, но с двумя дверьми она попросила их обождать. Нина толкнула брата в бок и зашептала:
– Поклонись матушке, не забудь!
– Хоть руку ей поцелую, только бы не отказала!
– Оставь свои шутки, – рассердилась сестра. – Монахиням руки не целуют.
– Да какие шутки…
Дверь открылась, их пригласили войти. Комната оказалась просторна: два окна, между ними стол со стульями, старинный диван, в углу огромный сундук с расшитым покрывалом поверху. Одну из боковых стен занимали иконы – большие, средние, малые. Над сундуком висел портрет на холсте в простой раме: святой угодник Серафим в белом балахоне, с топором в руке на лесной опушке.
На деревянном кресле с высокой спинкой сидела игуменья Александра. Белые волосы из-под платка, на цепи нагрудный крест из серебра размером в ладонь. Внимательный взгляд строжит, но и по-матерински оглаживает. Не ласкает, а будто жалеет, вопрошает со вздохом: «Ну что же ты?..»
У окна стояла другая немолодая монахиня, но одетая не в черное, а в обыденную юбку и кофту темных цветов. Поглядывая то на улицу, то на гостей, она странно, словно бы иронично улыбалась краем губ.
Морозов неловко согнул шею. Нина опустилась перед креслом игуменьи на колени, склонила голову. Дивеевская начальница осенила ее воздушным крестом.
– Мне вкратце передали вашу просьбу, – обратилась начальница к Николаю. – Подробности мне ни к чему. Аннушка, моя келейница, побывала в советском лагере для заключенных. Слава Богу, ее выпустили. Мучения там ужасны и неописуемы. Но монахини к такому должны быть готовы. Юным же девушкам там вовсе не место. Она твоя невеста?
– Да.
– Что ж, благое дело. Сам-то ты в Бога веруешь?
Морозов замялся.
– Ясно, не отвечай, – вздохнула игуменья. – Но хотя бы не из этих, которые кресты с храмов скидывают и на Пасху вокруг церквей по-собачьи лают, как бесноватые?
– Не из этих, матушка, не из этих! – воскликнула Нина.
– И то ладно. Побег без смертоубийства будет?
В этом Морозов не был уверен, но твердо ответил:
– Да.
– Вера, – позвала игуменья монахиню у окна, – будь добра, достань из шкафчика письменный прибор и лист бумаги. А ты, девушка, помоги мне пересесть.
Нина подхватила дивеевскую начальницу под руку, обняла за спину и дошагала с ней до стола. Несколько минут, пока игуменья составляла записку для мухтоловских сестер, Морозов присматривался к той, которую она назвала Верой. Лицо женщины было ему знакомым. Но, конечно же, он видел ее в другой одежде и обстановке, и это сбивало с толку: он не был уверен. Монахиня меж тем продолжала усмехаться уголком рта.
Игуменья помахала листком в воздухе, просушивая чернила. Затем отдала записку Нине.
– Приютят твою беглянку на сколько потребуется. Да смотри, сам-то не попадись, не наведи на след. Пока не надумаешь из города уехать и забрать ее, в Мухтолове не появляйся. Связь как-нибудь через сестер наладите.
– Благодарим, матушка! – Нина поясно поклонилась.
Морозов же как стоял столбом, так бессловесным истуканом и попятился к двери. Только на пороге опомнился:
– Буду должником вашим.
– Спаси тя Бог! – Игуменья перекрестила обоих издали. – У Него ты должник, не у меня. Ну да невеста твоя объяснит тебе, коли доведется…
Провожая сестру до ее нового жилья, Морозов поделился опасением:
– Та монашка у окна – я ее знаю. Она врач санэпидстанции. Всегда казалась мне странной. Ты видела, как она криво ухмылялась? Не думаешь, что она сексотка?
– Ох, – сказала Нина. – Все-то у тебя наоборот, Коленька. Мать Веру в лицедействе подозревать у нас никто не станет, потому что все знают ее историю. Она добрейшая, искренняя душа, целиком Христу преданная.
– Ну-ка расскажи, – потребовал брат.
– Она из известного дворянского рода, который разделился между красными и белыми. Один ее родственник был секретарем у Ленина, другой воевал за белых. Сама Вера Васильевна комиссаром в Красной армии служила. Два ее племянника были кронштадтские моряки, участвовали в восстании против большевиков. Представь себе, она штурмовала Кронштадт, а обоих племянников там расстреляли. Вот тогда-то ей и открылось нечто. Она уверовала в Бога, уехала в Дивеево и приняла постриг. А врачом работает, потому что перед германской войной окончила женский медицинский институт, на фронте спасала раненых.
– И ты еще утверждаешь, что она не странная? – подивился Морозов.
– Что ж в ней странного? – не понимала сестра.
– Племянников казнили, а она в Бога уверовала. По-твоему, это нормально?
– Конечно. Бог всякому по-разному открывается. А многим – когда заглядывают за черту смерти.
– Не хотел бы я таким способом поверить в Божье существование, – заключил Морозов.
Прощаясь, Нина обняла его:
– Помогай тебе Господь! Будем молиться о вас.
10
Покачивавшаяся возле стены фигура в темном латаном рубище напоминала сержанту Малютину пугало посреди поля с посевами. Только на обритую голову нахлобучить пук сена да руки развести горизонтально в стороны, и будет точь-в-точь. Измаянный ночной работой, раздраженный упрямством «пугала», Малютин раздумывал, не принести ли швабру, чтобы вставить палку в рукава и тем придать фигуре полное соответствие огородному чучелу.
Ему казалось, что собственный голос раздается будто со стороны, из-за стены или из радио с приглушенным звуком. А вернее, из шарманочного ящика с заевшим механизмом:
– Сколько раз в месяц проводились нелегальные собрания в доме благочинного Гладилина и кто на них присутствовал?
«Пугало» шевельнулось, словно повернулось на ветру, но ответа снова не прозвучало. Нет, не нужно швабру, решил Малютин. Будет слишком похоже на распятие. Может быть, попу это даже понравится, усмехнулся он про себя.
– Говорил ли при вас Гладилин, что во время поездок в Москву к митрополиту Страгородскому он получал от него директивы на диверсионную деятельность, вербовочную работу и создание повстанческих ячеек? – Малютин взял с тарелки красно-зеленое яблоко, хрустко надкусил.
Поп стоял на конвейере седьмые сутки. Сейчас у него должны перед глазами скакать зайцы, ползать змеи или, учитывая профессию подследственного, порхать херувимы и кувыркаться черти. Так сказал тюремный фельдшер: галлюцинации на почве бессонницы и истощения организма. В таком состоянии человек не владеет собой и поддается внушениям. Его мозг не способен сопротивляться и должен подчиниться тому, кто ведет допрос. Но поп сопротивлялся.
– Подтвердите, что Гладилин давал вам установку распространять провокационные слухи о скорой гибели Советского Союза… А также установку вести антисоветскую пропаганду среди населения за выход из колхозов, за веру в Бога и хождение в церковь, против посещения культурно-просветительских учреждений.
Молчание. Хруст яблока.
– Все-таки не понимаю вас, Аристархов. Ради чего вы тут мученика изображаете. Никто никогда не узнает о вашем поповском геройстве. Подтвердите все, что нам нужно, и я велю принести обед для вас, дам вам отдых, вы сможете поспать. Если боитесь, что вас назовут предателем, то заверяю: о вашем содействии следствию тоже никто никогда не узнает.
Впервые за последние три дня подследственный разлепил ссохшиеся губы:
– Совесть моя знает… Перед Богом будем отвечать.
– Для начала вы ответите перед советской властью. У нас есть все доказательства, что по заданию Гладилина в Муроме за последний год были совершены поджоги поликлиники, здания городского совета, районной библиотеки и сарая центральной больницы. И есть неопровержимые улики, доказывающие, что попы Гладилин, Доброславский и Аристархов разработали план покушения на маршалов Советского Союза во время военного парада пятнадцатого сентября сего года. Сознайтесь, и я отпущу вас в камеру, вам принесут хорошую еду…
В пять минут восьмого утра наконец явился сменщик.
– Какого дьявола ты все время опаздываешь, Николаев? – сварливо бросил Малютин, отправив в ведро яблочный огрызок и освобождая место за столом.
– С женой поругался, товарищ сержант, – уныло доложил оперативник. – Дочка кашляет, боюсь, чахотка к ней прицепилась. А Валька ни в какую не хочет ее к врачам вести. Завела пластинку, что они ее в больничку положат и уморят.
– В Москву отвези дочку, там доктора хорошие, – дал совет Малютин, облачаясь в шинель.
– Так со службы не отпустят. Пока с этими контриками не закончим… – Николаев с досадой кивнул на священника.
Малютин, не ответив, надел фуражку и вышел в коридор. Его сменщик продолжил долбить, как дятел дерево:
– С какого времени вы являетесь членом церковно-фашистской организации, кем и при каких обстоятельствах вовлечены?..
Сержант направился к лестнице, но, вдруг вспомнив о чем-то, повернул назад. Дошагал до двери с косо прибитой табличкой «Зам. нач. РО». Створка была прикрыта неплотно. Ни голосов, ни других звуков изнутри не доносилось, и Малютин бесцеремонно открыл дверь.
– Василий Никифорыч, есть у тебя пара минут?..
Лишние минуты у сержанта Баландина имелись. Более того, его поза и предмет в руке говорили о том, что потратить эти минуты Баландин собирается совершенно неразумно, если не сказать – попросту намеревается выкинуть их в мусор.
– Ты же не сделаешь этого, Василий Никифорыч?.. – аккуратно спросил Малютин, прикрыв дверь.
Баландин держал у виска ствол пистолета. По застывшему лицу с отсутствующим выражением, по нулевой реакции на появление другого человека можно было понять, что внутри Баландина идет жесткая борьба и в ней медленно побеждает страх смерти.
Мягко ступая, без резких движений, Малютин приблизился к столу, за которым сидел заместитель начальника райотдела. Баландин шумно вздохнул и, будто очнувшись, уронил руку с пистолетом перед собой.
– Прости, я без стука, – сказал Малютин в ответ на его словно бы удивленный взгляд. – Что это с тобой, Василий Никифорыч?
– Да вот, представил, как это пускают себе пулю в голову, – конфузливо пробормотал Баландин, точно оправдываясь.
– Ну и как оно, страшно? – Малютин обогнул стол. – Дай-ка мне эту штуку, Василий Никифорыч.
Он взял пистолет из безвольно лежащей руки.
– Не приведи Бог, – забывшись, по-старорежимному ответил Баландин. Его мелко трясло, и по виску, на котором остался круглый отпечаток, стекала капля пота. – Только что отпустил в камеру арестанта. По первой категории. Все они жить хотят… Почему ж мне-то так тошно жить стало?..
Малютин задумчиво смотрел на его лысеющий затылок.
– Ты только не говори никому, – попросил Баландин. – Неправильно поймут. Слухи поползут.
– А знаешь, Василий Никифорыч, ты прав… Бог там или не Бог, а я тебе помогу.
Быстрым, едва уловимым взмахом руки Малютин приставил дуло к голове Баландина и нажал на спуск. Выстрел на секунду оглушил его. В следующий миг носовым платком из кармана сержант протер пистолет и вложил в ладонь мертвеца. Плотнее прижал труп к спинке стула, чтобы не падал. Затем снял с телефона трубку. Вдруг внимание его привлекла газета на столе, исчерканная карандашом. Несколько фраз под заголовком «Разгул фашистского террора в Германии» были обведены, между абзацами стояли пометки. Малютин пробежал недлинный текст глазами. «Чехословацкая рабочая печать сообщает… В Бреславле… процесс 19 антифашистских рабочих по обвинению в государственной измене… приговорены к тюремному заключению от 6 месяцев до 3 лет… В Кобленце рабочий осужден к 1 году тюремного заключения за то, что в разговоре по поводу тяжелого продовольственного положения в Германии упомянул о “жирном брюхе” министра Геринга…»
Карандашные добавления восклицательно сообщали: «В СССР за это ВМН!!!» и «У нас 10 лет ИТЛ!».
– Снова ты прав, Вася, – согласился сержант с мертвецом и набрал на диске телефона две цифры. – Это Малютин, Прохор Никитич. В отделе ЧП. – Он придал голосу взволнованные вибрации. – Сержант Баландин покончил с собой… Только что, в своем кабинете. Я не успел помешать, он на моих глазах вышиб себе мозги… Так точно, окончил смену… Нет, еще никого не позвал, сразу вам… Сейчас буду, Прохор Никитич.
Дверь в кабинет Баландина он захлопнул. Коридор был пуст. Выстрел никто не слышал, либо не обратили внимания: на допросах применялись разные средства убеждения. Иногда не выдерживала и с треском ломалась мебель, а иногда оперативник со взвинченными нервами мог продемонстрировать исполнение приговора или, к примеру, отстрелить подследственному палец.
Спустя пару минут Малютин докладывал ситуацию. Кольцов ушел к окну и слушал, стоя спиной к сержанту, сложив руки на пояснице.
– Он правильно сделал, – с холодной интонацией подвел черту младший лейтенант. – В органах не должны работать слюнтяи, люди со слабой волей.
– Я догадывался, что у Баландина сдают нервы, – подтвердил Малютин. – Он жаловался мне как-то раз. Но я не мог предположить…
– К черту нервы, – оборвал его Кольцов, повернувшись. – Все не так, как ты думаешь. Сейчас иди домой, выспись хорошенько. Вечером еще вызову тебя. И дежурному сообщи, пускай к покойнику кого-нибудь отправит… Нет, стой, я сам. Надо провести у него обыск… Эх, Вася, дурень, что ж ты мне так нагадил…
На столе начальника райотдела остались нетронутыми остывающий чай с лимоном и пара яблок. Утро было непоправимо испорчено.
* * *
Назавтра все оперативники были информированы об общем сборе в кабинете Кольцова. С начала массовой операции по репрессированию антисоветского элемента, которую попросту называли «кулацкой операцией», такие собрания стали редки: работали без продыха. Но чрезвычайное происшествие на то и чрезвычайное, чтобы без предупреждения вламываться в устоявшееся течение дел.
– Наша Коммунистическая партия решительно осуждает подобное, – вдалбливал младший лейтенант госбезопасности в головы подчиненных. – На Пленуме партии в марте этот вопрос был особо оговорен. Всем опытом нашей борьбы с врагами Советского государства, практикой разгрома троцкистских банд и прочих вредителей, затесавшихся на ответственных постах, доказано, что самоубийство – это, холера, последнее оружие врага! Они прибегают к этому, когда все другие способы вредительства у них отняты. Чтобы уйти от ответственности и разоблачения, не попасть живыми в руки органов безопасности и разведки, не выдать сообщников и главарей, они себя травят и стреляют.









































