Читать книгу "Охота на Церковь"
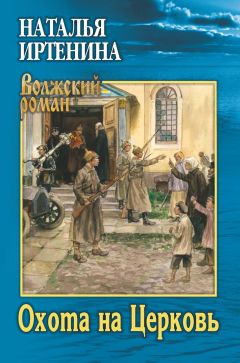
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Женя чуть не выронила бумагу.
– Ты же моя невеста, так? – Он смотрел на нее в упор, не мигая. – Мы обречены… суждены друг для друга. Но если я попаду к этим… к чекистам… ты не должна… никто не должен знать, что мы с тобой связаны… Я берегу тебя… И ты побереги себя… любимая.
– Но почему тебя должны арестовать?.. – ошеломленная таким предисловием к письму, пробормотала Женя.
– Читай.
«Мой отец, простой русский крестьянин, умер вдали от своего дома, заброшенный в глухие дебри тайги карающей рукой советской власти. Такая же ужасная судьба постигла миллионы людей, подобных моему отцу тружеников, сгинувших в пасти страшного голода, лишений и непосильного труда. За что их обрекли на медленную, мучительную смерть? Сколько их слабеющими с каждым днем руками вырыто каналов, вырублено непроходимых лесов, проложено в вечной мерзлоте железных дорог! Их костями замощены русла каналов и укреплены насыпи дорог, по которым вы хотите добраться к намеченной вами цели, к недостижимому, воображаемому коммунизму. И все это вы прячете за высокой стеной лжи, самого грубого вранья. Вы кричите о своих успехах в газетах, но это все неправда. Знаете, как говорят о вашей главной в СССР газете? Врет, как “Правда“, вот так говорят. Вы, коммунисты, заняли свои руководящие посты и хвастаетесь достижениями советской власти, но все это куплено потом и кровью миллионов русских людей. Я сам рабочий человек и знаю, что дала советская власть рабочим за двадцать лет: они носят рваную одежду, а дети их ходят в школу полуголодными и в лохмотьях. Волна возмущения в народе растет и крепнет, и вы это знаете. Вы затягиваете и так давно завинченные гайки, безжалостно душите правду о нашей жизни, а тех, кто осмеливается идти поперек вашей воли, арестовываете и мучаете. Разве мало уже погибло в ссылках, тюрьмах и лагерях? А вы бросаете туда еще и еще людей, как в прожорливую глотку какого-нибудь древнего кровавого бога, которому приносили жертвы. Сколько же можно мучить и убивать ни в чем не повинных людей? Но всему есть предел, и болты могут лопнуть, если слишком закрутить гайки. Придет время, найдется великий человек, который осмелится произнести слово настоящей правды. То, что откроется всем, будет ужасно, и вы сами, те, по чьей вине происходят эти ужасы в России, будете тогда устрашены своими преступлениями. Я хочу, чтобы вы прочли это и напечатали в своей газете, если у вас хватит смелости. Но знаю, что вы этого никогда не сделаете. Не потому, что у вас, товарищ редактор, недостанет смелости. А потому что даже если решитесь, то не успеете, вас тут же раздавят, как мошку». Подпись: «Николай Морозов, шофер туберкулезного диспансера, г. Муром».
– Ты хочешь отослать это в Москву?
В ее глазах он увидел то, ради чего стоило даже погибнуть, не то что жить: тревогу за него.
– Да, в «Правду». В центральную советскую газету.
– Но это же наивно, Коля.
– Наивно драться с этой властью, когда она уже нарастила себе броню. Но пойми, я начал задыхаться. А сегодня ночью, когда писал это, я мог дышать свободно, полной грудью. Это даже не камень из детской рогатки по танку. Это… ну… – Он защелкал пальцами, подыскивая сравнение. – Ну вот ты крест на шее носишь. Обозначаешь себя этой меткой. И я тоже обозначил себя.
– Но тебя погубят!
– И тебя могут – за твой крест. Церковников тоже арестовывают, ты знаешь. Так что мы теперь с тобой будем в равных условиях. Верней… я возьму на себя немного больше. Потому что я мужчина. Я должен быть впереди тебя, а не наоборот.
– Безрассудно самому на себя надевать венец мученика! – Женя еще пыталась переубедить его.
– Но молчание может стать предательством.
– Нет, не молчать, – качнула она головой. – Говорить. Только не с этой властью, которая глуха к воплям и стонам.
– А с кем?
Он проследил ее взгляд, обратившийся в сторону. Женя смотрела на старинную икону с облупившейся краской, которая висела на стене как картина.
– Позавчера арестовали мать Серафиму, – сказала она. – Анну Ивановну Кудрицкую, нашего врача. И еще несколько монахинь из бывшего Воскресенского монастыря вместе с игуменьей Евфросиньей. И трех священников. Отца Феодорита и отца Петра Доброславского, а третьего я не знаю. Еще арестовали женщину, которая прислуживала свечницей в Благовещенском соборе. Ее-то за что взяли?..
– А за что их всех?! – воскликнул Николай.
– Они не перестанут это делать, – продолжала Женя говорить о своем. – Пока Господь не вразумит их или не положит им предел.
Морозов схватился за голову, вцепился в торчащий надо лбом чуб.
– Как они это делают?! Вот как они целые толпы народа записывают во враги? Какое дикое воображение нужно иметь для этого?
– Это не воображение. Тут ничего сложного. Папа немного рассказывал про их кухню. Они просят арестованного на допросе назвать имена знакомых. И те машинально становятся сообщниками. Поэтому никого называть нельзя. Разве что тех, кого и так уже арестовали. Я уверена, что мать Серафима никого им не назовет. Ни меня, ни отца Димитрия, ни других…
Женя убрала со стола чайные принадлежности и стала собираться на дежурство.
– А я с сентября буду учиться на медсестру в медицинской школе, которую у нас в городе открыли.
– Здорово, – вяло обрадовался Морозов.
Он топтался у выхода из квартирки и, когда Женя прошла близко, остановил ее за руку.
– Я так люблю тебя! – горячечно зашептал он, притягивая ее к себе. – Как безумный. Но я еще больше сойду с ума, если с тобой что-нибудь случится. Если мы разлучимся… Или если ты отвергнешь меня. Скажи, что мне сделать для тебя? Не отсылать это письмо? Поехать в Москву, в Кремль, добиться встречи с Калининым, потребовать, чтобы отпустили твою Серафиму и всех остальных? Я найду, как убедить его, я вообще-то хитрый и изворотливый…
Во внезапном порыве Женя обняла его за плечи и нежно прикоснулась губами к щеке.
– Делай что должен, и будь что будет, мой благородный рыцарь, – негромко произнесла она, отстраняясь.
– Кто? – Морозов был сбит с толку. – Это такой… весь в железе и с ведром на голове? – Счастливый, вспыхнувший жаром от ее легчайшего поцелуя, он не мог понять, почему она вдруг насмехается над ним.
Девушка тихо рассмеялась.
– Это такой на коне, сражающийся на рыцарском турнире в честь своей дамы. Прекрасной дамы.
– А! – обалдело вымолвил парень и тут же просиял: – Да! Я буду за тебя сражаться. Пускай хоть с ведром на голове!..
В тот вечер, разойдясь по своим делам, они оба, отдельно друг от друга, летали в чистых и бездонных светлых небесах. Но по временам их обрушивали на твердую землю тревога и печаль. Тогда она нащупывала пальцами крестик на груди под одеждой и шептала молитву. А он касался кармана рубашки, где лежало письмо, и говорил себе: «Будь что будет». Это успокаивало, прогоняя все сомнения.
18
Сержант Горшков, упершись локтями в стол, утомленно прикрыл глаза ладонями. Не смотрел, как конвойный уводит подследственную. Не хотел больше видеть эту монашку, притворявшуюся врачом. Она вызывала в нем желание прибить ее чем-нибудь тяжелым. Горшков сознавал непристойность этого желания. Ударить женщину, которая годилась ему в матери, у него не поднялась бы рука. Но положение казалось отчаянным. Он бился с арестованной Кудрицкой несколько часов кряду безо всякого толку, а на очереди сегодня еще то ли четверо, то ли пятеро, которых тоже надо допросить.
Мысленно он дал ей прозвище «Тетка Нет». Она упрямо не соглашалась признать очевидное, доказанное материалами следствия, подтвержденное свидетелями. Отнекивалась так упорно, что Горшков заподозрил ее в невменяемости. «“Следствием установлено, что в июне этого года среди персонала тубдиспансера вы вели контрреволюционную агитацию против существующего строя, говорили о плохой жизни при советской власти, что даже постельного белья и грелок для больных при коммунистах не достать. Признаете себя виновной?“ – “Нет, я такого не говорила и агитацию не вела”. – “Свидетелями вы обличаетесь в том, что, прикрываясь нехваткой лекарств, лечили больных так называемой святой водой. Признаете?” – “Нет, я лечила больных медикаментами. – Ваша сожительница Арсеньева, церковная кличка игуменья Евфросинья, показала, что в 1934 году вы создали с ней подпольный женский монастырь с целью воссоздания ликвидированных советской властью монастырей, объединили вокруг него старых монашек и вовлекали новых через тайный постриг. Всего в подпольный антисоветский монастырь вами было вовлечено до 45 человек. Вместе с Арсеньевой вы разработали устав монастыря как филиала муромской диверсионно-террористической церковной организации. Вы будете давать правдивые показания?” – “Нет, никакого тайного монастыря и филиала мы не создавали…”»
Лишь раз она все же сказала «да». Но это единственное «да» привело сержанта в уныние и даже некоторый испуг, когда он перечитал протокол допроса. Горшков стал думать, насколько он плох как следователь. Пережил небольшой приступ паники, вспомнив о плановых показателях, которые должен выдавать еженедельно. Отругал себя за малодушие и расхлябанность. Наконец, решил, что нужно идти к начальству – предъявить скромный результат работы и просить совет.
В кабинете начальства сержант положил перед младшим лейтенантом Кольцовым листы протокола и с ходу принялся жаловаться. На упрямство и несговорчивость церковников, на нехватку практического опыта, на головную боль и бессонницу, на завышенные плановые показатели…
– Это что, холера, протокол, да? – Кольцов грубо перебил его стенания. – Это не протокол, сержант, а стишки в девичий альбом! Грелки, клистиры, святая вода… Тьфу ты! Вот тут… зачем ты спрашиваешь, считает ли она советскую власть наказаньем Божьим, а? Тратишь время на хреновину. Серьезнее надо подходить к делу, Семен, на чепуху у нас уже нет времени. Значит, бери ручку и пиши, что я скажу. Вот тут, где пустое место осталось.
Он ткнул пальцем в слова Кудрицкой «да, безбожная власть послана народу для испытания, надо терпеть и переносить все тяжести, будет война, но Бог смилуется, придет время, станет жить легче».
– Пиши после «станет жить легче» – «когда придет Гитлер».
– Но она такого не говорила.
– Зато думала. Они все так думают. Подпись арестованной под показаниями стоит – уже не отопрется.
Горшков, чуть помедлив и едва не посадив кляксу, исполнил указание.
– А теперь смотри, как выглядит настоящий протокол! – Кольцов выхватил из груды бумаг лист и протянул ему. – Мотай на ус, какие показания надо брать с обвиняемых. А не то, что у тебя.
Сержант с неподдельным интересом углубился в изучение чужого следственного опыта. Это был фрагмент допроса белогвардейца Векшина.
«Вопрос. Кто вовлек вас в церковно-фашистскую диверсионно-террористическую организацию?
Ответ. Меня вовлек благочинный Гладилин. В марте 1936 г. он предложил мне участие в церковном хоре. После службы он приходил ко мне на клирос и высказывал антисоветские настроения. Он поручил мне подбирать кадры для совершения террористических актов против руководящих работников г. Мурома, диверсий на объектах промышленности, для пропаганды повстанческих настроений на случай войны».
– Малютин работает, – кивнул Кольцов. – Учись! К завтрашнему утру сдашь пять протоколов первичных допросов.
– Мне кажется, я еще недостаточно научился, Прохор Никитич, – замялся Горшков. – Разрешите непосредственное наблюдение за работой сержанта Малютина.
– Сходи, сходи к нему, – одобрило идею начальство. – Он как раз твоего попа колет.
В кабинет Малютина, метившего в передовики следственного производства, Горшков просочился исполненный легкого чувства ревности. С попом Аристарховым его связывали два месяца бесплодных разговоров. Увидев священника вновь, Горшков испытал чувство, какое возникает при встрече со стародавним знакомым, исчезавшим и вновь появившимся на горизонте жизни. Он даже поймал себя на противоестественном для чекиста сочувствии к попу и желании, чтобы у сержанта Малютина ничего с этим упертым, как матерый диверсант, церковником не вышло.
– Восстановление монархического строя предполагалось при помощи фашистских держав, которые в скором времени должны начать войну с Советским Союзом, и при опоре на антисоветский элемент внутри СССР. – Говоря это, будто читая написанное, Малютин ходил по кабинету с заложенными за спину руками. – Это показания вашего приятеля и соучастника попа Доброславского, которые он дал чистосердечно и добровольно. В том числе назвал вас как активного члена церковно-монархической контрреволюционной организации. Отрицать не имеет смысла, признания Доброславского уличают вас категорически. Кто поставил вас на приход карабановской церкви и кому вы отчитывались в своей работе?
– Простите, я бы хотел уточнить. Если следствие располагает достаточными основаниями обвинять меня в подобном преступлении, то не могли бы вы назвать, кто еще кроме меня и отца Петра входил в эту подпольную организацию?
Горшков отметил, что последний месяц худо сказался на попе. Говорил он медленно, как будто запинаясь или заикаясь, вымученно цедил слова, и даже волос на голове заметно убавилось: на макушке просверкивала плешь. Но ловкость и увертливость остались прежние.
– Фамилии я вам назову, если сами не хотите. Вы должны лишь подтвердить их.
– Кроме того, я бы попросил вас показать мне протокол допроса отца Петра, где он говорит про подпольную организацию. Либо же устроить нам очную ставку.
– Протокол я вам не дам, это запрещено. Очная ставка следствием также не предусматривается.
– Понятно. Значит, ни в чем отец Петр не сознавался. Ни ему, ни мне попросту не в чем сознаваться…
От удара ногой по табурету священник рухнул на пол. Для Горшкова такой поворот дела тоже оказался внезапным. Он вздрогнул, из груди уже готов был выпрыгнуть глас возмущения. Силой воли сержант удержался от вмешательства. Малютин меж тем, схватив табурет, ребром сиденья обрушил на спину Аристархова еще пару ударов. Тот упал лицом вниз, выпростав левую руку. На тыльную сторону его кисти Малютин водрузил ножку табурета и уселся, всей массой своего крупного тела вдавил ножку в руку лежащего. Дождавшись, когда крик священника от боли перейдет в глухой стон, он произнес:
– А теперь вам есть в чем сознаваться?
На этом Горшков счел свое практическое обучение законченным. Он быстро вышел из кабинета и через несколько секунд вновь был у Кольцова.
– Я понял, – громко дышал он. Его немного мутило. – То есть научился. Заявляю, что я так работать не буду.
– Та-ак, холера, – протянул Кольцов, направив вдумчивый взгляд на подчиненного. – Не будешь выполнять правительственную задачу? Отказываешься быть преданным партии и комсомолу? Ну, значит, так. Придется кое-что объяснить тебе, молодой человек.
Из недр стола была извлечена тонкая папка.
– Материалы учетных данных на Горшкова С.И., – прочел Кольцов на обложке. – Догадываешься, что тут? Ты отца-то своего, кулака села Шабалина Александровского уезда Владимирской губернии, когда в последний раз видел?
– В двад… двадцать девятом году, – внезапно осипшим голосом сознался Горшков.
– Верно. В октябре двадцать девятого года твой отец участвовал в антисоветском вооруженном выступлении против колхозов. В том же году был расстрелян как активный член контрреволюционного восстания. Тебе было четырнадцать лет, и ты из родного села подался в город, устроился в типографию. Свою биографию ты подправил, написал в анкете, что отец крестьянин-бедняк…
– Я порвал с прошлым! – пришибленно и нервно оправдывался сержант. – Отца-бандита я возненавидел, товарищ младший лейтенант. Мать и сестер с тех пор родней не считал. Начал новую жизнь. Но теперь… как чекисту и комсомольцу мне остается только застрелиться!
Его ладонь поползла к застежке кобуры нагана.
– Отставить! – приказал Кольцов. – Пулю схватить всегда успеешь, сержант, – то ли отсоветовал, то ли пригрозил он. – Ты ж, Семен, уразумей. Ты себя ставишь вровень с арестованными. Пытаешься их убеждать, как будто они такие же люди, как мы. Этого делать нельзя. Ты должен сознавать свое превосходство. Ты чекист! Ты выше их, всех этих врагов народа, антисоветских подонков, фашистских выродков и свиней. Мы, Сёма, простые герои, делающие непростую, грязную, черновую работу. Мы очищаем нашу страну от вражеской агентуры, а для этого любые средства годны. Мы должны быть беспощадны!
Он спрятал папку с учетными данными Горшкова в стол.
– Ну?! – сердито рыкнул младший лейтенант. – Будешь работать по-чекистски?
– Буду, товарищ Кольцов, – понуро ответил сержант.
Спустившись на первый этаж, по пути к туалету он наткнулся на курившего в коридоре Старухина. Было похоже, что тот бездельно слоняется по зданию райотдела.
– Не могу с этими бабами. – Старухин прочел немой вопрос на лице сержанта. – Губы куриной гузкой подожмет и смотрит на тебя как на пустое место. Не могу баб бить. С детства такой.
– Монашки? – машинально спросил Горшков.
– Они самые. А ты чего такой квелый? Тоже размяк?
Сержант испустил шумный, грустный вздох.
– Ничего, скоро окрестим тебя. Потвердеешь.
– Это как? – насторожился Горшков. – Зачем? Я комсомолец!
– Узнаешь. – Старухин отодвинул его в сторону и прошел мимо.
* * *
Рассвет в тот день был чудно хорош. Небо на востоке в радужных переливах: пурпур с розовым ореолом, золоченая медь увенчана нежной весенней зеленью. Глубокая голубизна купола как воды прозрачного горного озера. Но если кто и любовался в то утро зарею, это точно был не сержант Горшков. Допросить в срок еще четверых арестованных он так и не смог. Отработал троих и устал смертельно. Во двор райотдела вышел, пошатываясь. В глаза хоть спички вставляй – слипались, рот раздирала зевота. От долгого сидения в напряженной позе ныла спина.
Он присел передохнуть на лавочку, недавно врытую во дворе под дубом. Очень скоро у него появился сосед, вышедший глотнуть воздуха. Всеволод Владимирович Малютин представлялся Горшкову загадкой. Имея мягкие манеры и обхождение с сотрудниками по службе самое сдержанное, без намека на панибратство или обычную шутливую грубость, он казался недавнему курсанту школы НКВД идеалом чекиста. Холодная голова, горячее сердце, чистые руки. Прямой жесткий взор, острый ум, представительная наружность.
Но вчерашним днем идеал покачнулся. Идеал чекиста и жестокие пытки в голове сержанта Горшкова вместе не помещались. Ему запомнилось лицо Малютина, когда тот сидел на табурете, а под ним корчился от боли человек. На этом лице обосновалось выражение благодушия. И еще вот это вот – нарочитое плевание семечками себе под ноги. Слишком простонародную привычку повсюду грызть подсолнушное семя сам Горшков трудно изживал еще во времена службы в милиции. С холеной внешностью Малютина лузганье шло в поперечный разрез.
– Думаешь, я садист? – Малютин щелкнул семечкой в зубах. – Мне нравится бить и пытать? Нет, малой. Это простая необходимость. Ты выключаешь чувства и подчиняешь разум высшей воле.
– Какой это воле? – покосился на него Горшков.
– Да уж не Божьей. Наша высшая воля – начальник райотдела товарищ Кольцов. А над ним своя высшая воля… И так далее до самого…
– Товарища Сталина? – догадался Горшков.
– Его. Так что не хнычь, паря.
Малютин поднялся, запихнул остатки семечек в карман галифе.
– Просто вы все сами боитесь оказаться на месте арестованных! – изрек Горшков, вспомнив доходчивую науку младшего лейтенанта Кольцова. – Вот и вся высшая воля.
Если бы усталость не помешала ему, он увидел бы в глазах Малютина ярость. Она сверкнула и тут же погасла.
– А ты еще не успел испугаться, Ланцелот с серпом и молотом?
Непонятное прозвище Горшкову не понравилось.
– Не из таковских, чтоб пугаться, – огрызнулся он.
Конечно, соврал.
19
В доме Морозовых был гость. Парень лет шестнадцати рассматривал книги в шкафчике, оставшиеся от покойной тетки. Под мышкой он держал портфель, словно забежал в гости на минуту или не знал, куда его пристроить.
– Коля, у нас Славик Коростылев, – сообщила сестра, расставляя на столе тарелки. – Он наш алтарник. Его мать арестовали, он остался совсем один. Я пригласила его пообедать с нами.
– Я вообще-то не голодный, но если уж пригласили, тогда ладно, – подростковым баском проговорил парень.
Нина оглянулась на молчащего брата и охнула:
– Что с тобой?
Она никогда не видела его таким. Лицо было перепачкано машинным маслом, взгляд плыл, точно перед обмороком. Он силился что-то сказать: губы тряслись.
Девушка быстро подошла к нему, взяла за руку и заставила сесть на стул.
– Женю арестовали… – сдавленно вымолвил он. – Ночью, прямо на дежурстве.
– О Господи. – Нина опустилась на другой стул, с отчаянной жалостью глядя на брата.
– Это какая-то большая облава, – потрясенно говорил Николай. – Хватают без разбора. В редакции тоже арестовали двоих. Я даже не знаю, почему взяли Женю. Кто ее сдал. Может, кто-то из монашек назвал. Или кто-нибудь в диспансере донес, что она водила к чахоточным попа. А может быть, Заборовская или кто-то из тех недоделанных революционеров все-таки приплел ее…
– Мою мать арестовали как активную церковницу, – оповестил Славик. – Она тоже монахиня. Ей шьют участие в подпольном антисоветском монастыре.
– Откуда знаешь? – дернулся Морозов.
– Ходил в НКВД, вызывали. Следователь наговорил там всякого. Сказал мне, что я не виноват, что мать и монашки учили меня на попа и поэтому не отдали в советскую школу. Обещал, что они дадут мне рекомендацию в комсомол и в школу рабочей молодежи, чтоб я не пропал… Ой, только он велел никому не говорить, что я был там, – испугался парень. – Вы же никому не расскажете?
– Мы никому не расскажем, – обещала Нина. – А про что тебя спрашивали?
– Да, чего от тебя добивались? – с болезненным жаром воскликнул Морозов.
– Просили рассказать, что я знаю про дядю Петю Векшина. Я раза два был у него дома с матерью. Мне он нравился, такой высокий, красивый старик. Еще про отца благочинного спрашивали. Про него я знаю больше, почти год прислуживал ему на обеднях и всенощных в Набережной церкви. Мать звала его к нам домой, когда я болел, он меня исповедовал и причащал. А однажды к себе в гости пригласил на праздник. Отец Иоанн очень добрый, ласковый… Про мать расспрашивали, почему она бросила работу учительницы и подалась в монашки. И про тетю Симу. То есть мать Серафиму. Про тетю Симу следователь смешно спрашивал: правда ли, что она занимается предсказаниями и доказывает всем скорый конец советской власти.
Славик уселся за стол, пристроив портфель у ног, и жадно поглядывал на кастрюлю с супом, исходящую паром.
– Можно я налью себе?
Нина, опомнившись, принялась разливать суп по тарелкам.
– Коленька, поешь! – упрашивала она брата. – Тебе еще работать сегодня.
– А я больше алтарничать не буду, – продолжал Славик, быстро работая ложкой.
– Что же ты, испугался? – удивленно спросила Нина.
– Нет, просто… меня наука интересует. Астрономия, физика. Хочу в институте учиться. Стану писателем или переводчиком. Я английский по радиоурокам знаю, и французскому меня монахини здорово научили. А немецкому хуже.
– Этот следователь не упоминал имя Евгении Шмит? – Николай не слушал болтовню парня. Он раскрошил на скатерти ломоть черного хлеба – кусок в горло не лез.
– Нет. Он все время записывал что-то. Вопрос задаст и пишет. Я и не знаю, чего он там понаписал. Велел мне поставить подпись в конце. Я подписал, но не читал.
– Ты что, такой глупый? – жестко спросил Морозов. – Он там черт знает что мог написать. И про мать твою тоже.
– Да я… я растерялся. – Славик посмотрел виновато. – Плохо соображал, чего он от меня хочет. Страшно там. Как-то все… не по-человечески.
Морозов отодвинул нетронутую тарелку с супом и встал. Его осенило, как проверить, почему взяли Женю. Ничего не объясняя, он бросился вон из квартиры.
– Коля, ты куда? Ты же не ел совсем!
– Надо же что-то делать, а не сидеть и жрать, – крикнул он из общего коридора дома. – Она там у них… у этих…
Он завел полуторку, на которой ездил домой обедать, и на полной мощности помчал машину в сторону железнодорожного рабочего поселка, распугивая лошадей, тянувших телеги. Казанка в последние годы разрослась, отъедая пространство у пустыря между поселком и городом, где выпасали скот. Паровозоремонтный завод требовал рабочую силу, а рабочая сила требовала жилья и культурного досуга. Появились бараки-общежития, где в комнатах ютились по трое-четверо бессемейных парней и зрелых мужиков, пришедших из деревни за куском хлеба. В одной из этих деревянных двухэтажных времянок, похожих на большие амбары прежних времен, обитал Витька Артамонов.
Однако со временем Морозов промахнулся. В обеденный перерыв заводские рабочие жевали свои тощие бутерброды прямо в цехах. Общежитие выглядело пустым, все окна были закрыты, чтобы не соблазнять воров-форточников. Хотя что там было брать, кроме запасной рубахи, выходных штиблет и припрятанной бутылки деревенского самогона? Около часа Николай сидел в кабине, дожидаясь хоть кого-нибудь, наплевав на собственное рабочее время. Идти на заводскую проходную выспрашивать про Артамонова он не рискнул. Что если парня уже взяли? Но Морозов все же надеялся, что Витьку нелегкая обошла стороной. Тогда оставалась надежда и на то, Женю арестовали не как соучастницу бунтарей-комсомольцев, затевавших антисоветский заговор. Если же ее взяли как церковницу, то много не дадут. Года три лагерного срока. Омерзительно, жутко несправедливо, безумно больно, тревожно за ее жизнь и здоровье, но все-таки пережить можно. Много церковников возвращалось из лагерей, отсидев по нескольку лет. В Муроме таких было немало, Морозов знал это от сестры и от самой Жени.
Дверь барака заскрипела, выпустив молодого парня в наброшенной на плечи телогрейке. С широким зевком он вынул из кармана скрученную цигарку и долго чиркал спичками о коробок, ломая одну за другой и ругаясь вполголоса. Морозов выбрался из машины. Предложил парню огонь из самодельной зажигалки. Тот кивнул и задымил крепкой вонючей махрой.
– Ждешь кого, что ли? Я тут один. Прихворнул малость, больничный у докторши выпросил.
– Витьку Артамонова знаешь?
– Как не знать. – Парень отчего-то напрягся. С недобрым прищуром оглядел Морозова. – Я тебя раньше тут не видал. Витька тебе кто?
– В одном селе жили. Считай, свояк он мне. Во сколько его смена кончается?
– Ты его, свояк, не жди, – после долгой паузы, заполненной затяжками и кашлем, сказал рабочий. – Нету здесь больше твоего Витьки. На заводе он навряд ли объявится.
– А где он? – осторожно поинтересовался Морозов.
– А кто его знает. – Парень поманил Николая ладонью ближе и тихо, с оглядкой, сообщил: – Ночью засада была. Легавые с вечера шарили по комнатам, личности по справкам проверяли. Паспортов тут, почитай, ни у кого нет. До утра двое у дверей торчали.
– Витьку искали? – Морозов больше не скрывал нервного возбуждения.
– Все наши на местах были, – подтвердил заводской. – Дрыхли в своих койках. А у Витьки девка завелась. У нее ночевал, от нее и на работу пошел. Перед проходной его торкнули, присоветовали намазать лыжи салом. Мы своих легавым не выдаем. Теперича в бегах твой свояк, ищи ветра в поле. – Парень сплюнул горькую темную слюну и пошел в дом. Через плечо предупредил: – А я тебе ничего не говорил и знать тебя не знаю.
На одеревеневших ногах Морозов забрался в кабину полуторки. Сомнений, как и надежд, не осталось: НКВД добирал тех, кто имел хоть какое прикосновение к полудетскому комсомольскому бунту против сталинского социализма. Кто-то из арестованных в мае юнцов старательно вспомнил и про Женю, и про Витьку.
В сердце что-то кололось, перед глазами стояла мутная пелена. Надо было что-то делать, но он не мог сосредоточиться. Нужно было осмыслить свое новое положение в изменившемся мире – сузившемся до размеров тесного гробового ящика. Этот ящик давил на него со всех сторон своими колючими, занозистыми стенками, мешал думать. Можно было только чувствовать. Морозов чувствовал, что весь целиком превратился в обнаженный, трепыхающийся, больно сжимающийся кусок мяса, который называется сердцем. В нем билась единственная, до жути внятная мысль: «Они убьют ее». Будет ли это «высшая мера социальной защиты», как именовалась в СССР казнь, или ее погубят нечеловеческими условиями в тюрьме, неимоверно долгим сроком в лагере – все равно.
Но… оставался немалый риск, что такой же судьбы не избежать и ему. Конверт с письмом на адрес газеты «Правда» уже должен лежать среди груды бумажной корреспонденции в почтовом поезде, едущем в Москву.
Тогда они даже могут встретиться там, по ту сторону жизни. За гробовой доской, как верила она, или за колючей проволокой какой-нибудь стройки коммунизма, как думалось Морозову.
20
Старика Шмита было не узнать. Совсем не тот человек два с чем-то месяца назад отмечал свой день рождения в компании дочери и сватавшего ее жениха, спорил, ершился, млел от семейного счастья. Теперь он состарился лет на десять, зарос пегой старческой щетиной, кожа на лице обвисла, руки дрожали. Неухоженности виду добавляла мятая рубаха в пятнах на животе.
Он жестом впустил Морозова в квартиру, без слов повернулся к нему спиной. Дошаркал до стола, на котором стояла тарелка с подсохшими остатками еды, без сил опустился на стул.
– Вам что-нибудь известно? В чем ее обвиняют? – без предисловий подступил к старику Морозов. – И где ее держат?
– В чем можно обвинить девчонку девятнадцати лет? – пробормотал Шмит, качая головой из стороны в сторону. – Ее взяли заодно. Я видел такие аресты. В тридцатом году. Московские тюрьмы были полны теми, кто верует в Бога. Теперь снова. Как будто нашей госбезопасности, будь она проклята, спускают разнарядки. Отловить и посадить столько-то церковников, столько-то академиков и профессоров, столько-то инженеров… Женю арестовали как церковницу, даже не сомневайтесь, молодой человек. В этом есть и моя вина. Мне следовало выбрать другой город для жизни. Здесь слишком много монахинь и ссыльных священников. Но Муром… Меня манили муромские древности, преданья здешней старины. Я историк, вы понимаете, Николай. А моя дочь… ни я, ни покойная мать не учили ее религии. Можно сказать, наоборот. Я приобщал ее к научным взглядам на мироустройство, прививал ей интерес к идеям гуманизма и космизма. Вы знаете, гуманизм вовсе не родствен христианству, как некоторые полагают. Гуманизм к человеку снисходительнее, не требует от него невозможного. А христианство учит любви. Это религия невозможного. – Бормотание старика становилось все более лихорадочным, болезненным. Морозову начало казаться, что Шмит бредит. – Знаете, юноша, Христос представляется мне блаженным, этаким юродивым. Не от мира сего, словом. Как можно проповедовать любовь глупцам, негодяям, предателям, нравственным ничтожествам, пошлякам, коими и является в массе своей человечество?









































