Читать книгу "Охота на Церковь"
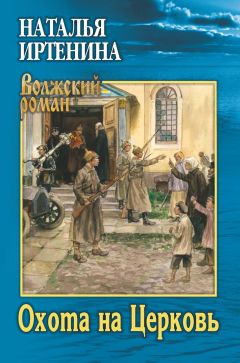
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мать читала младшим детям книгу о первых веках христианства. Все трое сидели за столом, посреди которого в бутылке из-под молока поникли листьями три березовые веточки. Такие же зеленые ветки украшали киот в красном углу. Был вечер праздника Троицы.
«В одной и той же темнице находились исповедники и отступники, потому что и самое отречение их не спасало. Но какое различие в состоянии их духа! Первые ликовали со светлым лицом, ожидая новых страданий, последние в отчаянии просили пощады…»
Мать оторвалась от книги и оглянулась на старшего сына. Михаил притулился к косяку двери, ведущей в сенцы: только что пришел домой и застыл, слушая.
– Где ты был целый день, сын?
– В городе, мам. Борька помог достать радиодетали.
– Ты мог бы утром сходить с нами в храм, – с едва заметным укором сказала мать. – Праздник все-таки, троицкая служба.
– Наш новый священник – отец Валентин, – сообщил брату Арсений. – Но он служит хуже, чем папа.
– Будь благодарен, что все же служит, – одернула его мать. – Могли и церковь совсем закрыть после ареста отца, и остались бы мы вовсе без богослужения.
– Ага-а, – вздохнула Вера.
Мать снова взялась за книгу:
– «Между тем пришел указ кесаря, чтобы предавать смерти верных христиан, и начались казни. В третий раз предстала на муки Бландина с младенцем, одушевленным ее примером, и готовилась к смерти как на брак. После бичевания и раскаленного стула ее опутали в сети и бросили разъяренному быку, наконец поразили мечом. Твердость ее превзошла чаяние язычников…»
– А наш папа тоже мученик? – вдруг спросила Вера.
Арсений потянулся к сестре и легонько щелкнул ее пальцем по лбу.
– Папу скоро отпустят! Он ничего плохого не делал против них!
– Против кого?
– Коммунистов.
– А Бландина тоже ничего плохого им не делала! А ее коммунисты убили…
– Ты что, глупая? – фыркнул Арсений. – Какие еще коммунисты в Древнем Риме?
– Такие! – стояла на своем Вера. – Которые против Бога. Мама, скажи ему, что коммунисты – язычники! И чтоб не обзывался и не дрался.
Мать, однако, в их спор не вникала. Отстраненно глядя на березовые ветки, она произнесла:
– Папа ваш сейчас на кресте.
Дети примолкли: Арсений – испуганно сжавшись, как замерзший воробей, Вера – со странным выражением торжественной жалости на лице.
– Как Христос? – спросила она после минутной тишины в избе.
– Как Христос, – грустно ответила мать. – А вы теперь – как ученики Иисуса. Ему очень горько было, что ученики оставили Его, разбежались. Только один остался верен. Помните об этом. Не оставляйте папу своими молитвами…
– Мам, там учительшу раскулачили, – объявил старший сын. – Подозерову.
Опустив голову, он будто боялся встретиться с матерью взглядом.
– Как это раскулачили? – не поняла она.
– Так же, как нас тогда, – с внезапным злорадством сказал Михаил. – Из дома выселили. Из школы, наверное, тоже выгнали. Поделом ей, гадине!
– Не смей! – Мать поднялась из-за стола. – Чтоб я больше не слышала от тебя дрянных слов, ты понял?
Она убрала на полку книгу и принялась накрывать на стол скудный ужин семьи без кормильца: черный хлеб, каждому по куску, четыре вареные картофелины в кожуре, перья зеленого лука с огорода.
– Садитесь есть.
Молитвы на вкушение пищи прежде читал за столом глава семьи. Теперь эту обязанность переняла мать. Но молитва не получилась.
– А учительша? – хмуро спросил Михаил.
– Это не наше дело. – Мать поджала губы.
– Так она там на улице, возле нашего забора, сидит ревет. Со всеми пожитками. До директорского дома не дошла или забор перепутала.
Младшие тотчас полезли к окну смотреть. С той стороны забора, однако, ничего не было видно. Мать, подхватившись, накинула на плечи платок.
– Ты же сказала – не наше дело! – вспыхнул старший сын, поняв ее намерения.
– Я только поговорю с ней, сынок, – словно извиняющимся тоном сказала она.
– О чем с ней говорить? Ты уже забыла, сколько она мучила в школе Верку и Арсения?!
– Да, сынок. Если ей теперь хуже, чем нам, уже забыла, – ответила она из сеней и вышла на крыльцо.
– А я нет! – вслед матери крикнул Михаил.
Дарья прошла по дорожке до калитки и выскользнула на улицу. На рассохшейся узкой лавке под ветвями вишни, перевесившимися через забор, она и впрямь обнаружила учительницу. Та сидела, поджав ноги, вцепившись ладонями в край лавки, и тихо подвывала. Рот распялен, подбородок кверху, глаза закрыты – будто собака воет в тоске и одиночестве на луну. По красноте и опухлости Дарья заключила, что слезы она льет уже долго, часа два. Возле ног учительницы лежал обширный, туго увязанный узел из покрывала с вещами.
Дарья присела рядом. Молчала, не зная, что и как сказать. Алевтина Савельевна была комсомолка бедовая, страха ни перед чем не ведавшая. С отцом Алексеем она воевала за умы и души колхозников лихо, отчаянно, как кавалерист-девица с наполеоновским французом. Но вдруг разудалой воительницы не стало: Алевтина Савельевна горько выла, в точности как простая девка, у которой увели жениха или украли на базаре деньги.
– Ну, будет, будет, – поневоле вырвалось у Дарьи. – Расскажи-ка, Алевтина Савельевна, что случилось.
Подозерова откликнулась на предложение тотчас, не вытерев слез, только глянув искоса, но словно бы не узнав попадью.
– Он… он меня вы-ыселил, – продолжала она всхлипывать и скулить. – Прислал с Тараскиным… постановление сельсове-ета… с печа-атью… Исполкомовские дом заколоти-и-или…
– Да за что ж тебя, такую идейную? – терялась в догадках Дарья. – С партийными повздорила?
– Руко… – Алевтина Савельевна икнула, – …суев меня-а… Хотел, чтоб я с ним… чтобы я его… чтоб отдала-ась ему… А я не…
Учительница зарыдала, залившись новым обильным потоком слез.
– Понятно, можешь не продолжать. – Дарья ощутила укол омерзения. Одновременно она испытала удивление – не ожидала от красной кавалерист-девицы такой разборчивости и скромности. – А чего ты хотела, когда записывалась в комсомолки? В двадцатых годах у вас и в уставе было прописано, что по первому требованию… Ах, ладно, не о том теперь речь. Из школы-то не уволили? У Рукосуева прав таких нет, разве на директора школы надавит. Да Дерябин-то не таков.
Алевтина Савельевна не могла ей ничего ответить – судорожно глотала рвущиеся изнутри рыдания.
– Пойдем-ка в дом, нечего тут сидеть, ночь поджидать.
Жена священника обняла Подозерову за плечи и повела ее, послушную, в избу.
Еще из сеней они услышали в доме чужой голос, будто кто-то зачитывал по бумаге. Дарья было всполошилась. Вдруг мелькнула мысль, что их тоже выселяют. Только как чужаки попали в дом, если никто мимо нее не проходил? Но увидела на столе посреди сдвинутых тарелок грузную коробку радиоприемника – и отлегло от сердца. Только вздохнула:
– Доделал все ж таки…
– Я же сказал, мам, Борька достал нужные детали, – отозвался Миша, не поворачивая головы.
Младшие тоже завороженно слушали напряженный и торжественный голос диктора:
– Закончен величайший в истории человечества перелет, равного которому не было и нет. Сбылась мечта человечества о воздушной дороге между материками через Северный полюс. Как радостно чувствовать себя соотечественниками Чкалова, Байдукова, Белякова! Радостно знать, что живешь в великую сталинскую эпоху, в стране героев и сталинских побед! Вместе с товарищем Сталиным, руководителями партии и правительства страна горячо поздравляет отважных советских пилотов-богатырей…
Первым зареванную учительницу за спиной у матери заметил старший сын. Резко щелкнув выключателем, он подхватил приемник и с недовольным видом скрылся в соседней комнатке за стеганой занавесью.
Алевтина Савельевна, будто очнувшись, тоже теплых чувств не выказывала. Любопытные взоры Арсения и Веры ее кололи, как шилом в бок. Убогая обстановка поповского жилья никак не соединялась в ее голове с известной всем в СССР эксплуататорской сущностью служителей культа. Уткнувшись диковатым блуждающим взором в иконы, учительница шарахнулась, как от сбесившейся лошади.
– Не бойтесь, – сухо сказала Дарья. – Агитировать вас в свою веру не будем. – Она усадила учительницу за стол и велела младшему сыну: – Арсений, сбегай к Дерябиным, пускай Сергей Петрович придет.
* * *
Ужинали поздно, в июньских светлых сумерках. Михаил все еще дулся. Считал, что ноги вредной учительницы не должно было быть в их доме даже те три четверти часа, пока ее не забрал к себе директор школы Дерябин. Как выяснилось, об афере председателя сельсовета он ничего не знал и приказа об увольнении Подозеровой из школы не подписывал. Обещал крепко поговорить с Рукосуевым и что-нибудь придумать с жильем для жертвы произвола.
Уложив младших спать и взявшись за шитье, мать попросила сына:
– Миша, сходи завтра в город. Кто-то днем принес на крыльцо две буханки хлеба. Отнесешь одну семье отца Сергия Сидорова. У них голодных ртов побольше, чем у нас.
– Две буханки? – Парень застыл с наполовину снятой рубашкой. – Ты чего, мам? Я не понесу! У нас самих ничего нет. Пускай малые хоть раз наедятся хлеба досыта!
– Ну что ж, – смирилась мать, – придется самой пойти. А на огороде дел невпроворот…
Час спустя, взлохмаченный от бессонного ворочанья на постели, он вышел из спальни.
– Ладно, схожу.
– Да нет, сын, – ответила Дарья, – вдруг еще передумаешь, с полдороги вернешься. Сама уж отнесу. А ты подумай хорошенько. Бог кому-то посылает вдвойне, чтобы с другими делиться, кто голоднее и немощнее тебя…
Упав снова на постель, парень зарылся в одеяло с головой.
9
Вот были в прежнее время свадьбы! Жениха с невестой венчали в церкви всем селом, колокола трезвонили. Повенчанных обсыпали щедро, из полных горстей зерном, чтобы детишек побольше рожали. Дружки жениха насмешничали и баловались, веселили честной народ. Свадебный поезд катил по селу на звонких тройках. Гостей созывали сотнею, а то и поболее, столы ставили в хоромах и во дворе у жениха длинными рядами. А уж ломились те столы изобильными яствами так, что и в сказке не сказать. Пиво лилось рекой, первач-самогон выбивал нежную слезу из самых каменных мужиков. Жареные поросята табунком проносились по столу, исчезая в прожорливых глотках. Гармони наяривали, балалайщики рвали струны, плясуны отбивали пятки и стирали подошвы сапог. Все село гуляло и гудело по три дня. Но, конечно, не в жаркую летнюю страду, а после Покрова, в зиму, или на Красную горку.
Воспоминанье о тех свадьбах-гуляньях тоже наворачивало слезу. Не сравнить с теперешней тощетой, ежели не сказать, прости Господи, голодранством. Село за две ударные колхозные пятилетки пожухло, вполовину обезлюдело, стосковалось по веселью, для которого не было ни душевных сил, ни поводов. Колокольный звон подменили радиотарелки, бубнящие целыми днями то о великих достижениях, то о врагах-изменниках или гремящие песнями-маршами, которым подпевали только подтянутые ремнями животы колхозников. На тройках теперь не разъездишься: хорошо, если колхоз выделит на день хоть одну лошадь, а то и одной не даст. Да и в церкви на кладбище кто в трезвом уме захочет венчаться? О пиру на миру и говорить нечего. Гостей считают по пальцам, каждый лишний рот за столом – обуза и разоренье. Самогон и тот дорог: государство борется со спекуляцией.
Словом, на свадьбе бывшего кулака Степана Зимина, прошедшего за свое кулачество через лютые мытарства, гостям казалось, будто сидят они на поминках.
Венчаться молодые ездили по-тихому в город. Материал на подвенечное платье невесты раздобыть было негде, перекроили Варваре старый материн выходной наряд. Четыре больших стола составили во дворе у Артамоновых. Гостей выбирали тщательно, с разбором, родню да добрых приятелей, но с расчетом, что все равно набьются лишние. Так оно и вышло – незваной явилась сельская власть: председатель колхоза Лежепеков и председатель сельсовета Рукосуев, и то ладно, что без всегдашнего своего прилипалы комсомольца Тараскина. Какой же представитель власти пройдет мимо даровой выпивки в своих владениях?
Песни на этой свадьбе не приживались. Затянет один край стола – до того горькую, про судьбу-кручину, что прочие только руками машут. Запоет другой край – еще того горше, тягучее и тоскливее, так что самим тошно станет, на полуслове умолкнут. Веселье никак не прорастало, несмотря на старания Артамонова-отца, балагурившего аж за троих. Гости заводили разговоры промеж себя, разбившись на кучки. Старший из братьев Морозовых, родственник Степана, городской житель, толковал о чем-то с братом невесты Витькой, отозвав его в сторону, в огородные грядки. Витька, уже напробовавшийся ядреного самогону из буряка, видно, не соглашался на уговоры. Тряс головой и вдруг выдал во всеуслышанье:
– Я по политике не пойду. Лучше ограблю магазин и по уголовке сяду.
Отец его, Андрей Кузьмич, сбился с шутки, которую рассказывал, поглядел на сына, затем на столпов сельской власти, сидевших в разных концах стола, и загомонил:
– Был вчера в городе, ходил по толкучке. Живет народ! Жрут, пьют, покупают с рук и с-под полы. Все в порядке, на Шипке все спокойно. Партия и правительство бдят, народ счастлив. Летчики наши прильдинились на полюсе и перемахнули через него аж в самую Америку. Поплавают, полетают, радостная публика забросает их цветами. Но у меня сомнение! Какую пользу можно извлечь из полета в Америку через льды? По-моему, никакой. А хвастовства, а рапортов в газетах, вождей на портретах! А меж тем пользуемся завоеваниями революции и стоим в очередях дольше, чем на всенощных…
– Портреты вождей теперь на палках делают, как раньше иконы, – встрял кто-то из гостей. – На плечо – и пошел, как в крестный ход.
– И ничего не выйдет, все растащат, – невпопад прожевала старуха из дальней родни. – Была в Америке советская власть, и ту скинули.
Рукосуев, сосредоточенно наливавшийся самогоном, молча погрозил старой пальцем.
– Хлеб в Испанию везут, а нам шиш оставляют, – вернулся к столу хорошо захмелевший Витька. – Если бы испанские пролетарии знали, как мы живем, не боролись бы за свободу. С меня сдирают на помощь Испании по рублю с зарплаты. Кому он там идет?
Об стол брякнул опорожненный стакан. С лавки грузно поднялся несколько осоловевший от пития Лежепеков:
– Ну хватит контрреволюцию городить. При мне чтоб цыц, ясно?! Это вон Мирон Сельсоветыч вам поблажки дает. За мзду бумажки выписывает и колхозное имущество разбазаривает.
– Ну и ты потише все же, Яков Терентьич, – попросил Артамонов-отец.
Рукосуев, однако, пропустил выпад мимо ушей, любезничая с бутылью-трехлитровкой.
– Речь скажу! – продолжал Лежепеков, поднимая вновь наполненный для него стакан. Он повернулся к молодым. – Хоть ты, Степан, и враг советской власти… был открытый враг, кулак, а ныне скрытый, замаскированный как единоличник…
– Какой он тебе враг, – заругались на него бабы, – ты что мелешь, Яков Терентьич?
– Если и была за ним вина, честно ее отработал, семью схоронил…
– Цыцте вы там, юбки! Я знаю, что говорю… Опять же – обида у тебя, Степан, на советскую власть осталась. Затаил ты на нас обиду, и как оно там аукнется… А с другой стороны, понимать должен: новый мир строим. Вот и домом тебя советская власть наделила…
Никто более не решался прерывать речь председателя, но за столом зашептались: «Справную избу отобрали, а халупу взамен дали». Все знали, что развалюшку, с одного боку погорелую, с другого покосившуюся, оставленную сбежавшим из колхоза в город веселым трактористом, выделил под жилье Зимину за немалую взятку Рукосуев.
– Как говорится, совет вам да любовь, да приплода поболе, чтоб было кому и дальше строить колхозную жизнь, – закруглился Лежепеков. Ни с кем не чокаясь, выпил и тяжело, как куль с картошкой, осел на лавку.
Никто не заметил, когда и как исчез со свадьбы председатель сельсовета Рукосуев. Назавтра об этом исчезновении, превратившемся в загадочное и необъяснимое, взволнованно толковало на разные лады все село. В вечер же свадьбы отсутствие одной из двух голов сельской власти лишь придало застолью подобие веселья. Вторая голова, принадлежавшая Лежепекову, помешать уже не могла: в глазах у нее плескалось пьяное море.
С лавок повскакивали девки и пустились, одна за другой, сверкая голенями, в частушечный пляс:
Ох, советская власть,
Хоть из дома не вылазь,
Как из дома на порог —
Облигация, налог!
За решетку посадили
Всех чекисты кулаков.
Землю их освободили
Для крапивы, лопухов!
Шла корова из колхоза,
Слезы капали на нос.
Отрубите хвост и роги —
Не пойду боле в колхоз!
Эхма!
Лежепеков порывался встать и пойти отшлепать хулиганок, но усилие ему не давалось. И ночевать бы Якову Терентьичу на дворе под открытым небом, головой в смородиновых кустах, если б не приехали за ним на колхозной телеге его жена и теща.
Меж тем Мирону Трофимовичу Рукосуеву в ту ночь середины июля было вовсе не так хорошо.
10
Утром ранехонько, после третьих петухов, когда еще роса не сошла и колхозники со своих дворов носа не кажут, по сельской улице катила телега. Едва проспавшийся после свадебного распития Витька кемарил, клоня тяжелую, налитую свинцом голову к коленям. Артамонов-отец, правивший лошадью, свежий, как только что снятый с куста огурец, по своей привычке никогда не умолкать мешал ему заснуть, то и дело толкая локтем в бок. Оба направлялись в город на работу.
– Эка причуда: Москва – город у моря! Порт пяти морей! Волга-матушка нынче плещется аж у стен Кремля. Вчера по радио слыхал, Витька, как сказали? Могучей большевистской рукой наша партия во главе со Сталиным исправила ошибку природы! Соединила Москву с великими водными путями. Теперь все желающие могут прокатиться с ветерком от столицы до Каспийского моря. А вот другая ошибка природы: ломают зуевский амбар. Ты Никишку Зуева помнишь? Ну ты еще малой был, когда его из теплого гнезда вытряхнули и в тюрьме стрельнули. Богатство его колхоз давно проел, а теперь от нечего делать ищут в его амбарах под полом зерно десятилетней давности. Может, что и наскребут по зернышку от стахановского усердия…
– Погоди, бать, – продрал глаза Витька. – Это не из наших вчерашних?
Под забором одного из дворов лежал человек, казавшийся ночным гулякой, который не добрался до своего дому и расположился отдохнуть прямо на улице.
– Сбегай-ка поглянь. – Андрей Кузьмич придержал лошадь. – Ежели наш, надо бы доставить. Вроде из баб никто мужьев ночью не искал.
Витька спрыгнул с телеги и потрусил к лежащему. Склонился над ним, тронул за плечо и отпрянул. Тело безвольно опрокинулось с бока на спину. Витька бегом вернулся к телеге.
– Поехали отсюда скорее, батя! – испуганно проговорил он. – Мирон Трофимыч это.
– Эвона… – протянул Артамонов-старший и дернул вожжи.
Минуту или две ехали, будто языки проглотив. Андрей Кузьмич, ссутулясь, подстегивал кобылу и напряженно обдумывал нечто. Витька задрал колени к подбородку и, судорожно обнявши их, переживал внутри себя леденящее душу прикосновение к зарезанному, уже остывшему мертвецу.
– И чем же это его?..
– Кровищи под ним лужа и дыра в груди, – мелко трясся Витька. – Навроде как топором. От нас-то он когда ушел, а, бать?
– Топором… Знать, поджидали его. Или ж выследили. Слава те Господи, не у нашего двора… Пятый это.
– Чего пятый?
– Пятого, говорю, у нас в селе таким вот способом угомонили. Ты уже в возраст входил, должен помнить.
– Ты что, бать, счет им ведешь?
– Как же не вести, сынок. Счет будет длинный. Не он первый, не он и последний. В двадцать девятом году райкомовского партийца укокошили, когда зерно ходили отымали. Потом в тридцатом двоих. Первого колхозного председателя – вилами да комсомольца прыткого – из винтаря. Тот все доносы в районную газету писал на тех, кто против колхоза. По его доносам и раскулачивали. А в тридцать втором, когда голод у всех животы подтянул да побегли в город, порешили секретаря колхозного правления. Сильно он был против, чтоб мужики за лучшей долей в город уходили. Револьвертиком все грозился. А этот, выходит, пятый.
– А за что его, бать?
Андрей Кузьмич не ответил, думая об ином.
– Эх, девку жалко.
– Какую девку?
– Какую! Сестру твою, Варвару. В беде ее, конечно, не оставим, заберем…
– Ты что, бать, на Зимина думаешь? – осенило Витьку. – Ты ж сам их до Степанова дому в полночь отвез.
– А ночью он что делал?
– А то ты, бать, не знаешь, что делают с молодой женой в своем доме ночью, – возмутился Витька из солидарности с новым родичем и тут же схлопотал оплеуху по затылку.
– Молоко на губах оботри, допрежь над отцом ехидничать. Вдруг он из супружеской постели-то средь ночи выпрыгнул, топорик подхватил и пошел советскую власть свергать?
– Да ты что несешь, бать? – волновался парень.
– Это не я несу, сынок, – огрустнел Артамонов-отец. – В тридцатом, когда у нас двоих так порешили, ГПУ семерых баб овдовило через свой суд неправый да дюжину мужиков по ссылкам раскидало. Эх… Давай-ка слазь! До городу тебе нынче пешком топать.
– А ты куда, бать? – недоумевал Витька, когда телега, развернувшись, покатила без него к поперечной улице.
– Дела! – махнул отец.
* * *
В середине дня здание сельсовета походило на растревоженный улей. Перед входом отирались члены сельского исполкома и колхозного правления, отлынивающие от работы в сельхозбригадах мужики, противоборствующие группы молодняка – комсомольцы-активисты и социально безответственные выпивохи-дебоширы. Сновали туда-сюда, с улицы в здание и обратно, сотрудники НКВД и муромской милиции. Подъезжали и уносились транспортные средства об одной лошадиной силе. Ребятня с восторгом облепила черную эмку, на которой для расследования громкого преступления приехал сам начальник муромских чекистов, и, к неудовольствию водителя, оставляла на ней следы грязных рук.
Опрос свидетелей возглавил младший лейтенант госбезопасности Кольцов. Убийство представителя советской власти на селе было происшествием нередким, но чрезвычайным, каждый раз гремевшим по всему району, а то и области. И меры по поимке бандитов, осмелившихся на контрреволюционный террористический акт, тоже принимались чрезвычайные.
Председателя колхоза Лежепекова доставили для снятия показаний прямо с сеновала, куда супруга спихнула его, пьяного, ночевать. Перед тем как Якова Терентьича погрузили на телегу, в руки ему теща сунула жбан рассолу. В голове у председателя после этого прояснело, но провалы в памяти остались и не давали ему чувствовать себя на допросе уверенно.
– Так что там было, на этой свадьбе? – допытывался Кольцов. – Драка? Кто-то угрожал Рукосуеву? Что он там вообще делал, этот ваш председатель сельсовета, на свадьбе у бывшего кулака и лагерника?!
– То… то же, что и я, – бормотал Лежепеков, стараясь не дышать на младшего лейтенанта госбезопасности и его окружение самогонным перегаром. – Пил… И эти… частушки пресекал…
– Какие еще частушки? – рявкнул Кольцов.
– Антисоветские, – упавшим голосом пояснил Лежепеков.
– Та-ак, – зловеще произнес Кольцов, постукивая пальцами о стол.
– И это… – Председатель колхоза заметно трусил и очень старался выложить все, что знал. – Обмывали… дом для молодых. Рукосуев продал Зимину бесхозный дом.
– То есть как продал? Как он мог продать государственное имущество, да еще классово чуждому элементу?!
– Это клевета на честного коммуниста! Не продал, а выписал бумагу с печатью! – возмущенно высказался комсомолец Родион Тараскин.
К опросу свидетелей его привлекли на тот случай, если понадобится уличить кого-нибудь в сокрытии или искажении фактов. Все прочее время он сидел в углу как в воду опущенный. Но встрепенулся, когда репутация покойного начальства зашаталась под злостно клеветническими выпадами.
– А кулак Зимин, значит, вот так со своим благодетелем, – заключил Кольцов.
– Дык у него ж свадьба… – начал было Лежепеков, еще не разобравшись, к чему клонится дело.
– Да что у вас тут творится?! – Начальник муромской госбезопасности в гневе перешел на крик. – У председателя сельсовета дела с кулаками на мази, секретарю об этом известно, но покрывает факты вредительства и двурушничества…
– А чего я?.. – заблеял Тараскин.
– Молчать! – Кольцов даже не повернулся к нему. – Председатель колхоза допускает антисоветские вылазки под прикрытием свадьбы. Кто пел частушки?!
– Ну… бабы пели, девки.
– Пофамильно!
– Да не помню я! – выдавил Лежепеков, с немой мольбой таращась на чекиста.
В помещении объявился еще один наркомвнуделец. Это был Старухин, примчавшийся из города.
– Вот, товарищ младший лейтенант. – Он положил перед начальством папку, на картонной обложке которой было размашисто написано: «Кулацкая гидра». – Оперативная разработка антисоветского элемента в селах района с тридцать третьего года, после того как был раскулачен основной массив. Карабановские в самом начале.
Кольцов углубился в материал. Листал неторопливо, хмыкал себе под нос. Носовым платком утирал влагу под воротником гимнастерки и на лбу. Наркомвнудельцы в количестве трех человек терпеливо ждали. Лежепеков опять мучился жаждой и тяжело сглатывал, не смея напомнить о себе.
– Кто из единоличников села был на свадьбе? – наконец заговорил Кольцов, отлистав пару десятков страниц. Вопрос адресовался председателю колхоза.
– Гришка Коробов, – приложив усилие, вспомнил тот. – Демьян Присыпкин. Других, кажись, не было.
– Ну что, дело ясное, товарищи, – умиротворенно произнес младший лейтенант. – В Карабанове у нас осталось пятеро единоличников, враждебно настроенных к социалистическим методам хозяйства. Злодейское убийство председателя сельсовета, несомненно, их рук дело. Классовая борьба, товарищи, дело долгое и упорное, но мы в ней победим. Обязаны победить, иначе грош нам как чекистам цена. Этих пятерых немедленно арестовать. Малютин и Вощинин – работайте. А ты, Макар, бери милицию, и не упустите там этого матерого волка Зимина…
– Как же так, Прохор Никитич, – замялся один из оперативников. – Без улик сразу пятерых брать?..
– Ты у меня отпуск просил, Вощинин? – немедленно и раздраженно вскипел начальник райотдела. – Я тебе его дал? Не дал и никому не дам! Знаешь почему? Потому что скоро, чует моя печенка, вы все стахановцами станете, планы будете в разы перевыполнять! А я вам по доброте своей загодя работу облегчаю. Ты меня понял, Вощинин?
– Так точно, товарищ младший лейтенант! – с недоумением в глазах подтвердил оперативник.
Трое чекистов отправились исполнять.
– А о вашей вредительской халатности и преступном легкомыслии, товарищ Лежепеков, я доложу в райком. – Кольцов буравил председателя свирепой неприязнью. – Пускай там решают, что с вами делать.
– Я ж вам все сам рассказал, – стал жалко оправдываться Лежепеков. – Я ж чистосердечно… со всей советской сознательностью…
– Вы что думаете, мы бы сами не дознались? У НКВД много способов добывать правду! Но то, что вы сознались, это хорошо. Как учит партия и товарищ Сталин, признание обвиняемого – лучшая улика… – Стук упавшего тела оборвал речь Кольцова. – Эй!.. Что это с ним?
– Товарищ Крыленко, – раздался из угла отрешенный голос Тараскина.
– А?! – Младший лейтенант госбезопасности навис над столом, разглядывая распластанного на полу Лежепекова.
– Народный комиссар юстиции товарищ Крыленко учит… про лучшую улику.
Кольцов задумчиво взял в руки графин с водой.
– Товарища Крыленко научил этому сам товарищ Сталин, – назидательно поправил он комсомольца.
Затем набрал в рот воды и прыснул ею на голову сомлевшего председателя колхоза.
11
Однажды в школе НКВД, где обучался Семен Горшков, курсантам показали документальную киноленту «Заключенные». Фильм рассказывал об одной из великих строек коммунизма – сооружении Беломорско-Балтийского канала силами заключенных исправительно-трудовых лагерей. С тех пор идея перевоспитания классово чуждых и несознательных элементов – белогвардейцев, церковников, кулаков, уголовников и прочих – завладела воображением Горшкова. Зачитываясь книгой «От преступления к труду», он грезил, как будет очищать советское общество от врагов и преступников и отправлять их на перековку сознания. Чтобы из лагерей они выходили совсем другими людьми: верящими в человеческое братство и равенство, в истину и справедливость коммунизма, готовыми включиться в построение светлого будущего. Труд – волшебное средство для такой перековки. Особенно в громадных коллективах на величайших стройках ГУЛАГа, поражающих своей грандиозностью.
– Давайте с вами, гражданин Аристархов, поговорим не под протокол.
Сержант закрыл следственное дело и по-ученически сложил руки на столе, не сводя взора со священника. Арестованный выглядел нехорошо: бледный, с темной синевой вокруг глаз и впалыми щеками. Кожа на лице обтянулась и словно опрозрачнела, как промокательная бумага. Подрясник обветшал еще больше, чем было два месяца назад. Борода разрослась неопрятными клочьями, прежде пышные усы обвисли, как флажки в безветрие. «Почему его не обреют?» – мелькнула мысль у Горшкова.
– Охотно, гражданин следователь.
– Скажите, вы служили в церкви по убеждениям или из материальных выгод?
– Несомненно, из убеждений. Я верую в Господа нашего Иисуса Христа…
– Оставьте это. – Сержант нетерпеливым жестом отверг продолжение. – Вам известно, что религия, как опиум для народа, идет вразрез с наукой?
– Мне это неизвестно. И, например, великий русский ученый Ломоносов тоже так не считал. Он говорил: наука и религия в распрю прийти не могут, разве кто-то из ложного мудрования на них вражду восклеплет… Вы знаете, кто такой Ломоносов? – спохватился священник.
– Догадываюсь, – хмыкнул Горшков.
– Он говорил, что вера и наука – родные сестры.
– А к марксистско-ленинским наукам ваш Ломоносов как относился? – парировал сержант. – И вы сами отчего игнорируете научное учение товарища Маркса и товарища Ленина? Вы враг науки, даже если пытаетесь это опровергать.
– Неправда. Я люблю науку и уважаю ученых. – Отец Алексей говорил небыстро и негромко. На страстную дискуссию у него не было сил. – Всю жизнь учусь и другим советую, потому что ученье – свет. Наука облагораживает человека и облегчает ему жизнь.
– Вы когда-нибудь в жизни занимались общественно полезным трудом?
– Если вы подразумеваете иной род деятельности, нежели церковнослужение, то я был учителем гимназии.
– Ага! Значит, образование у вас имеется. И как же вы, грамотный, образованный, надели поповскую рясу, верите в какого-то Бога? Ну понятно, неграмотных легко одурачивать разной чепухой про адские сковородки, чем вы, попы, и пользуетесь. А культурного человека обмануть нельзя. Выходит, вы тоже безбожник, только притворяющийся.
– Тут все просто. Одни чувствуют Бога сердцем и совестью, а другие – нет. Образование ни при чем. Я принял сан в то время, когда религия оказалась не в чести у власти и газеты шельмовали духовенство. Хотел восполнить число священников, которых отправляли в лагеря и убивали. Я старался внушать людям нравственные правила, евангельские заповеди, чтобы они морально не одичали в безбожии…









































