Читать книгу "Охота на Церковь"
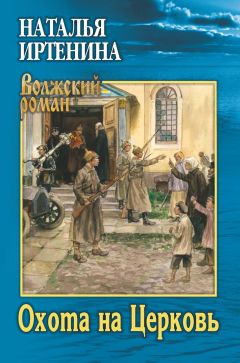
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Хотите кому-то показать?
– Нет, сожгу. Сами вы не решитесь уничтожить сей «дар данайцев». Но с вашим братом я бы на вашем месте, батюшка, разорвал всякие отношения. Ведь он либо глуп и слеп, чего я не могу предположить, зная от вас о его карьере, либо подсунул вам это с недоброй целью.
– Вы так думаете? – озадачился отец Алексей. – Это же официальное советское издание, правда, давнишнее… Да-да, думаю, вы правы. Что ж, Иван предупреждал меня о чем-то подобном. Позвольте-ка, отец дьякон.
Он взял открытки и скрылся за углом дома. Через минуту вернулся повеселевший.
– Теперь вам не придется, отец Петр, нести эту вражью улику к себе домой. Я утопил ее в отхожем месте.
– Отец Алексей, – позвала мужа матушка и, подойдя, стала убирать со стола лишнюю посуду. – Тут к тебе, кажется, депутация из колхоза пожаловала.
Она кивнула на трех мужиков, шествующих гуськом по дорожке от калитки. Священник поднялся им навстречу. Не снимая картузов, они поздоровались. Было видно, что дело, с которым явились колхозные пролетарии, для них конфузливое. Вперед вытолкали одного, самого речистого.
– Прощения, значит, просим, отец. Тут такой политический момент. Острый, можно сказать, как шильце. Разъясните нам, батюшка, насчет разговоров по селу. Слышали мы, что на первое мая начнется война с немцем и будет, значит, отмашка для кровавого воскресения. Всюду примутся бить и резать большевиков, разгонять ихние советы и колхозы. Вот и кумекаем мы, верить тому или, может, брешут?
– А вы сами к чему склоняетесь? – немного растерялся отец Алексей.
– Да нам-то, как бы это сказать… – Все трое переглянулись. – Нам бы отмашку…
Священник вздохнул.
– Не будет никакой войны на первое мая. И не нужно никого бить. Будет Великая суббота. Приходите в храм на обедню, приносите пасхальную снедь для освящения. А к ночи – на светлую заутреню. И жен своих, детишек приводите. Ничего не бойтесь! Будем Пасху Господню праздновать, воскресшего Христа встречать.
– Ну добро… – понурили головы колхозники.
Наскоро распрощавшись, они отправились восвояси.
– Эх, отец Алексей, разочаровали вы мужичков, – с совершенной серьезностью сказал старый священник, очутившись рядом. – Думается мне, если будет война, о которой все время твердят наши газеты и вожди, ни один из них не пойдет защищать советскую власть.
– А так ей и надо, вавилонской блуднице, – с развязностью заключил дьякон.
10
Младшего брата Морозов забрал к себе в город из Карабанова минувшей осенью. Весь прошлогодний урожай, вернее, недоуродившийся хлеб ушел в закрома государства, и колхозники на свои заработанные трудодни получили кукиш. Двое средних братьев, погодки семнадцати и шестнадцати лет, вернулись из уральской ссылки заматеревшими мужиками с мозолистыми руками и воловьей упертостью. За них Морозов не волновался – не пропадут, выгрызут себе долю в жизни. Но Севку было жалко. Мальчишка настрадался, выглядел для своих лет хилым, и первое время, пока заново не привык к старшему брату, смотрел волчонком-подкидышем.
Семь лет назад их отец, наглядевшись на раскулачивания справных, но отнюдь не избыточествующих мужиков – с парой коров и лошадей, – загодя подготовился. Подрезал скотину, продал мясо, а главное, отправил к тетке в город двух старших детей – Кольку и Нинку. Когда пришла его «кулацкая» очередь, в ссылку Морозовы поехали с тремя, а не с пятью детьми. Сыновья выжили, но мать с отцом так и остались там, в неприютной уральской тайге, в разных могилах. Тетка Паша тоже недавно померла: была еще не старая, но от жизни в социализме уставшая.
– Чуть живой от них отбился, – рассказывал за ужином Николай о своем визите в школу. – Как насели на меня впятером – директор, завуч, комсорг, пионервожатая и учитель. Еле уговорил не сообщать на работу. Но крест ты больше носить не будешь! Сними и спрячь.
– Буду! – заупрямился Севка.
– Мало мне Нинки, которая с монашками связалась, так еще ты бузишь! – Старший брат раздраженно треснул младшего ладонью по затылку. – Сними, я сказал. Только проблем из-за этого мне не хватало. Если меня с работы выставят, что мы есть будем? На нас и так черная метка – кулацкие последыши. Надо приспосабливаться, Севка, – мягче сказал он, отложив вилку. – Думать, прежде чем говорить, и не говорить, что думаешь. Крест отдай Нинке, пусть зашьет тебе в воротник.
– А чем же тебе монашки не угодили? – спросила сестра. – Они, по крайней мере, не едят людей.
– Слишком много их в городе, – нахмурился Николай. – Хоть пруд пруди.
– Они не виноваты, что все монастыри разогнали. Надо же им где-то голову приклонить. Я тоже уйду к ним жить…
– Ты?! Ополоумела, Нинка? – ушам не поверил брат.
– Освобожу вам жилплощадь, просторнее станет. Ты пойми, Коленька, не могу я с вами тесниться на пятнадцати метрах. У меня молитвы, иконы…
– Ты же раньше, когда в школе училась, играла в театре. Тебе же нравилось, – не понимал Морозов. – Ну и шла бы в артистки!
– Разонравилось, когда надо было играть глупых комсомолок и революционерок. Не могу я богохульничать, а в театре только такие пьесы ставят.
– Да ну тебя, – махнул на сестру Николай. – Ну а ты, бузотер. Что это ты сказал в классе, будто Николай-угодник тебя от смерти спас? Придумал, что ли?
– Не-а. – Севка дул на горячий чай в кружке. – Я там правда помирал. Голодно было. Мамка сама худущая и черная стала, а за меня без продыху молилась. У нее икона была с Николой. Однажды утром батя смотрит – у входа в нашу землянку бутылка молока и белая булка. Мамка чуть не сомлела от радости. Стала меня этими булками с молоком на ноги поднимать. Они каждую ночь появлялись. У нас потом весь угол в землянке пустыми бутылками был заставлен. Штук восемь.
Нина подошла к Севке и прижала его голову к груди. На мальчишечью макушку упали слезы.
– Может, кто из соседей приносил? – сомневался в Николе его тезка.
– Да там коров на сто верст нету. – Севка боднул сестру, выбираясь из объятий. – И хлеб почти из одной коры пекли. А булок таких я больше не видал нигде.
– Странная история, – сказал старший брат и тут же отбросил все странности в сторону. – А рога Сталину в красном уголке ты нарисовал? Пионервожатая уверена, что ты.
– Пионеры изучают жизнь и деятельность товарища Сталина, – захихикал Севка. – Что я, дурак, в революционеров играть? Уже наигрались, по всей стране кости нашего брата-мужика лежат.
– От кого это ты такое слышал? – оторопел Николай.
– От бати. Дураки мы, говорит, были. Революции радовались, коммунистам поверили, помещиков жгли и грабили. Коль, а как ты думаешь, если б Троцкий теперь был вместо Сталина, правда нам бы лучше жилось?
– Ты где этого набрался? – Брат начал сердиться. – Сейчас же выбрось из головы всю эту дурь.
– Ничего не дурь. Все так говорят.
– Кто это – все?
– Ну все. Митьки Звягина старший брат говорит, Марлен. Я в туалете слышал. А он с комсой из города водится. У них там какой-то союз борьбы вроде банды. И мужики в селе про это толкуют. Троцкистов зря, что ли, сажают и стреляют? Они против Сталина.
– Ничего не понимаю. С какой комсой? Какой союз борьбы?!
– Ха. Ты думаешь, если комса, то они Сталина любят? – Севку понесло. – Кто его вообще любит? Только Ворошилов, Молотов и Калинин. Еще Буденный. А! Рассказать анекдот? Пришел к Калинину осел и просит себе продуктовые карточки. А дедушка ему говорит: ты нам, брат, совсем не нужен, мы ослов не едим, а грузы на поездах возим. Осел ему отвечает: тогда мы за вас голосовать не будем, а кроме ослов, за вас теперь некому голосовать. Ну и выдал Калинин ослу карточки.
Старший Морозов спрятал невольную улыбку.
– А ты слышал пословицу? Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Не лезь в эти дела, – сурово наказал он младшему.
– Паны в Польше. Пускай дерутся. А если на нас попрут, мы их вздуем. – Севка вылез из-за стола и с маршевой песней отправился в свой угол за фанерной перегородкой: – Мы танки ведем в лесу и в поле чистом, дорогой скалистой, сквозь реки и снега. Пусть знает весь мир – советские танкисты умеют повсюду жестоко бить врага!.. – Из-за перегородки снова показалась его насмешливая рожица: – Коль, я в следующий класс не пойду. Лучше устроюсь в ФЗУ или учеником на завод. Неохота строем славить усатого.
Нина, убиравшая со стола, прыснула в ладонь.
– Ну ты и… фрукт, – покачал головой старший брат.
11
Ночь отец Алексей провел в райотделе НКВД. По повестке явился вечером засветло, просидел в коридоре до полуночи, ожидая вызова к следователю. Про обыкновение чекистов вести допросы в темное время суток он знал по прежнему опыту. Теперешний разговор с госбезопасником тот назвал не допросом, а лишь беседой, но после нескольких часов вопросов и ответов отец Алексей был выжат в точности как после генеральной исповеди.
Была в его жизни такая тяжелая исповедь – когда он окончательно решил стать священником. Все прошлое маловерие, сомнение, почитание греха за несущественную величину, удовольствие от купания в житейской грязи – все это, словно державшее его годами за горло, отсекалось от души с кровью и болью. Осталась тогда душа обнаженная, дрожащая и кровоточащая, исходящая криком, чтобы помогли ей, пожалели ее. Господь не замедлил, укрыл его душу теплом, залечил.
Нынешнее противостояние со следователем будто проделало обратную работу. Из него вынули душу, кинули в грязную жижу, вытоптали, измочалили. Самое страшное и одновременно нелепое чекист припас напоследок, когда заря уже высветлила окно. Отец Алексей даже подумал сперва, что ослышался от усталости. Но следователь повторил требование.
– Я бы выписал постановление о вашем выселении и высылке с семьей за пределы района. Но я предлагаю вам размен.
– Что ж, выписывайте ваше постановление.
– Не могу. – Чекист дохнул в него струей папиросного дыма. – Новая Конституция не позволяет выселять вас, кулаков и попов. Поэтому теперь все будет по-другому…
На раздумья он дал три недели.
Отец Алексей шагал по пустынным улицам еще сонного города. Он думал о том, что милостью Божьей получил отсрочку. Встретить Пасху, провести ее в кругу родных, довершить недоделанное, попрощаться с прихожанами, подготовиться к неизбежному. На все это он получил с избытком времени. Что это, как не чудо, в стране, где люди исчезают в один миг и многие никогда уже не возвращаются?
На одной из улиц взгляд еще издали запнулся о две человеческие фигуры. Улочка была немощеной, поросшей мелкой гусиной травой и замусоренной. В грязи лежал мужчина изможденного вида. Страшно худой, в рванине и лаптях, он крупно содрогался всем телом. Рядом сидел на земле, поджав колени, мальчик в слишком большом для него пиджаке. На мужчину он смотрел с безразличием, ничем не пытаясь помочь. С сизых губ лежащего срывались слова бреда:
– Уйди, с…! Колхозная гнида… Два мешка на все трудодни… Управителей как вшей на гашнике… Сытые рыла… А детей моих в землю… Паскуды…
Отец Алексей догадался, что это крестьянин, приехавший в город за едой. Вероятно, издалека.
– Что с ним? – Он опустился на корточки.
– Кончается, – безучастно обронил мальчик. – Я ему говорил: не жри объедки. Он в помойке ковырялся. Теперь сдохнет от заворота кишок.
– Родственник твой? Откуда вы? – Священник попытался привести умирающего в сознание, легонько похлопав по запавшим щекам.
– Я его от облавы сховал. Он на поезде приехал.
– А сам ты кто? Чей? Родители есть?
– Федька я, ничей. А ты поп? – Мальчик с любопытством разглядывал подрясник и крест на груди под незастегнутой телогрейкой.
– Да. Так ты безнадзорный?
– Лучше быть безнадзорным, чем поднадзорным, – ухмыльнулся Федька. – Я тебя видел, ты вечером в энкавэдэшню заходил. Чего ж тебя выпустили?
– Не знаю, – честно ответил священник.
– Скоро арестуют, – пообещал мальчишка. – Одного тут тоже сначала вызывали, а потом засадили. Его уже на московском поезде увезли, я видел.
Отец Алексей подумал, что беспризорник говорит про отца Сергия Сидорова, арестованного две недели назад. Никто из знакомых клириков не мог понять, за что его взяли.
– А может, ты легаш? – Федька поднялся, чтобы в случае чего задать стрекача.
– Кто?
– Ну, легавый. С ними заодно.
– Нет, я с ними не заодно.
В этот миг умирающий открыл глаза. По телу прошла судорога. Внезапно он выбросил в сторону руку и схватил подол подрясника отца Алексея.
– Коммунистов… резать, – вытолкал его непослушный язык.
– Голубчик, оставь коммунистов, – ласково заговорил с ним священник. – Ты ведь сейчас совсем плох и можешь умереть. Исповедуйся мне. Не забыл, как это делается?
– Поди… поди прочь, – застонал мужик. – Зачем ты мне нужен. Все отняли… окаянные…
– Скажи хоть имя твое, я о тебе помолюсь, чтобы тебе легче было.
– Засунь свои молитвы… не хочу… Все у меня отняли, проклятые… Пусть горят… Если есть преисподня, пускай там горят… со своим Сталиным. Скажи, – он сильнее потянул подрясник, исполнившись безумной надежды, – есть там преисподня?
– Да разве коммунисты тебе жизнь дали и все, что в ней было? – вразумлял несчастного священник. – Господь тебе все дал, и Он же взял. Что же, ты Его за это ругаешь? Покайся, не бери с собой туда свою ненависть и злобу. Смирись, прошу тебя…
– Будьте вы все про…
Мужик страшно захрипел, туловище выгнулось. Ввалившиеся глаза словно полезли обратно, выпучились, остекленев. В один миг все кончилось. Тело обмякло, распрямилось, веки сомкнулись.
С минуту отец Алексей оставался недвижен – сидел, склонив голову.
– Дворник придет, милицию вызовет. Приберут. – Федька словно угадал мысли священника, который не представлял, что делать с мертвецом, у которого нет ни имени, ни родни в городе. – Для чего нужны попы? – неожиданно спросил мальчишка.
– Священники служат Богу. – Отец Алексей поднялся на ноги. – И людей к Богу ведут, если люди сами того хотят. Этот раб Божий не захотел… в злобе свою жизнь скончал. Будь милостив к его ожесточившейся душе, Господи! – Он перекрестился.
– У мамки были иконы, – поделился Федька. – Три штуки. Она их за печкой держала. А толку-то. Лучше б на растопку зимой пустила.
– Померла мать? – догадался священник.
– В сарае повесилась. – Мальчишка шмыгнул носом. – Мы три дня не ели. Я, два брата и сестренка. Она из-за нас себя удавила, чтобы нас в детприемник забрали и там кормили. Мы в деревне жили.
– Грех-то какой… – пожалел отец Алексей неизвестную ему крестьянку. – Ты, наверное, голодный, Федор. Я в Карабанове живу, пойдешь со мной?
– В селе осенью хорошо, когда овощ с огорода есть, – раздумывал мальчишка. – А весной брюхо к спине прилипает. Ну ладно, пошли. Если ненадолго.
Отец Алексей взял его за руку.
– Батя у нас из-за налогов помер. – Федька по дороге оживился, словно наконец решил, что священник заслуживает доверия. – Мы единоличники были. Осенью батька еле расплатился, а назавтра снова бумажку из сельсовета принесли. Еще столько же велели выплатить. Батька ушел, и долго его не было, а потом вернулся, сел на лавку и помер.
– Ты из детприемника сбежал?
– Ага. Я всю зиму там отъесться не мог, совсем дохлый был. Потом силы чуток появились, и сбежал. А братьев и сестру увезли в Арзамас. Хочешь, я тебе про легавых расскажу? Я их всех по рожам знаю. У меня лёжка возле энкавэдэшни и мусарни. Слежу за ними, чтобы от облав хорониться. Там один такой есть – бандит здоровенный, откормленный, как конь у богатых хозяев. Теперь таких коней нет. А легаши есть.
– Старухин? – невольно вырвалось у отца Алексея. Тут же вспомнилась прошедшая ночь.
– И еще там один… гад. Я его запомнил. Батя велел запомнить. Он предатель. За белых воевал, потом к красным перебежал. Весь отряд в засаду привел.
– Это тебе отец рассказал?
– Ага. Батя в том отряде был. Он тоже стал воевать за красных. А мне говорил, что лучше бы его расстреляли, как других, которые отказались. У нас в деревне этот чекист прошлой весной появился. Арестовал дядю Пашу, за то что у него подшипники на тракторе в поле поплавились и еще он власть ругал. Дядя Паша тоже был с ними в отряде.
– А зачем отец велел тебе запомнить чекиста?
– Не знаю. Может, думал, этот гад и его арестует. А батя ему жизнь на войне спас. Он мне сказал: никогда не будь предателем… Чекисты – враги, – закончил рассказ Федька и сразу, без передышки, перешел на другое: – У тебя в доме жратвы много?
– По правде сказать, на пятерых едва хватает, – признался отец Алексей. – Но тебя…
– Тогда зачем ты меня к себе ведешь? – удивился мальчишка и выдернул руку из ладони священника. – Твои харчи не стоят моего времени. Мне на станцию надо. Скоро московский поезд.
Из города они выйти не успели. Федька быстро исчез в закоулках муромской окраины с деревянными домишками.
* * *
Домой отец Алексей вернулся к половине восьмого утра и тотчас, не передохнув, ушел в храм. Страстная седмица – самое напряженное в году время, службы каждый день, ни на усталость, ни на хвори сослаться нельзя. После литургии – отпевание. Жена директора школы Дерябина, которой Господь дал еще две недели земного срока, преставилась в Вербное воскресенье. На этот раз гроб привезли в церковь. Сам Дерябин взял в колхозе лошадь и шел до храма, держась за край телеги. «Делайте, что там у вас полагается», – сказал он священнику. За порог церкви не переступил: партийный.
Только после полудня отец Алексей смог ненадолго остаться в доме вдвоем с женой. Дети были на учебе, старший сын вернется из городской школы лишь к вечеру.
– …Было страшновато. Этот следователь не кричал, не ругался, как у них принято. Но я все время чувствовал его ненависть.
– Чего они хотят от тебя? – держа мужа за руки, взволнованно спросила Дарья. – Почему не оставят нас в покое?
– Им нужно мое предательство, – спокойно произнес отец Алексей. – Он предложил… нет, потребовал, чтобы я снял сан. Чтобы в газете напечатали мое заявление с отречением и признанием, будто я дурманил народ религией. Если не сделаю этого, он меня арестует. Опять обвинят в антисоветской деятельности.
– А ты? – На глазах у Дарьи выступили слезы. – Что ты ответил?
– Что я мог ответить, родная? Конечно, отказался. Он дал мне три недели. Это щедрый подарок, даже не знаю, чем я его заслужил…
Они сидели рядом на кровати. В этот миг Дарья скользнула на пол и, оказавшись на коленях, заглянула снизу ему в лицо. Ее губы дрожали, взор, застилаемый влагой, умолял.
– Я боюсь, Алеша! Ведь мы погибнем без тебя. Второй раз я не переживу этот ужас.
– Ты и представить себе не можешь, Даша, как я боюсь. – Голос священника дрогнул. – Я был в лагере и знаю, что это такое. Но бояться не стыдно. Постыдно малодушничать.
– Подумай о детях, Алеша. Они опять станут изгоями, их погубят, сломают им жизни… если дадут выжить. Прошу тебя, – Дарья горячечно дышала в мужнино лицо, – ради меня и детей откажись от сана! Поступись своими убеждениями, напиши это проклятое заявление. Я больше не могу так жить, Алеша! Все время мертветь от страха, существовать в нищете, терпеть измывательства от людей и властей. У меня сердце кровью обливается за детей, когда их травят. Я не хочу больше быть попадьей, можешь ты это понять?! – Она схватила его за плечи и трясла, словно обезумев. – Бог милосерд, Он простит, ведь ради детей, Алеша! На кого ты их бросишь?
– Опомнись, Дарья! – Отец Алексей в ужасе смотрел на жену, бившуюся в припадке невменяемости. Он отцепил от себя ее руки, оттолкнул, встал. – Ты же мне Иудой предлагаешь стать. Мне после такого, если послушаю тебя, только удавиться. Как я о детях смогу думать, если сам в ничтожество впаду? – Он взволнованно зашагал по комнате, обхватив ладонями голову. – Моя жена толкает меня на бесчестье! Отречься от Христа, в котором весь смысл моей жизни, от которого я принял столько добра, благодеяний мне, грешному…
Ему представился поп-расстрига, служивший в кладбищенской церкви до него. Бывший отец Викентий, теперь просто гражданин Ливанский, был жалок и несчастен. Перед сельским начальством лебезил, при случайных встречах на улице с отцом Алексеем делался желчен и ехиден. «Что, батюшка, не придавили вас еще культурным и подоходным налогом? Как клопа раздавят, не сомневайтесь…»
– Тебя оправдывает только то, что твои слова продиктованы горем и лишением, – говорил отец Алексей, надевая на шею епитрахиль. Подойдя к жене, все еще стоявшей на коленях, он долго смотрел в ее искаженное страданием, покрасневшее от слез лицо. – Каешься ли, раба Божья Дарья, в том, что хотела иерею, мужу своему, отречения от Христа?
– Прости! Прости! – разрыдалась она. Опять схватила его руки, стала покрывать поцелуями. – Не ведаю, что творю, Алеша, прости, прости… – Дарья обняла его колени. – Каюсь, отец Алексей!..
Он покрыл епитрахилью ее голову.
– Господь и Бог наш Иисус Христос… да простит ти, чадо… властию мне данною прощаю и разрешаю тя от греха…
Будто наваждение схлынуло. В комнате стало словно бы светлее, точно луч солнца упал на двоих, стоявших в объятии.
– На кого же ты нас оставишь?
– На Нее. – Священник показал глазами на икону Божьей Матери.
12
Прозрачные сумерки после праздничного дня еще полнились веселыми голосами, смехом, радостным возбуждением большого скопления людей. Первомай прошел на ура – с утренней демонстрацией, духовым оркестром, ракетным фейерверком. Завтрашний день тоже выходной, и расходиться с улиц никто не спешил. Перед клубом железнодорожников имени Ленина толпились рабочие, школьники, девушки в светлых платьях и туфельках, парни в пиджаках, с папиросами в зубах. У многих в руках были бутылки вина, их передавали друг другу, отхлебывая из горла. Афиша у дверей клуба приглашала на вечерний киносеанс – привезли фильм про полярников «Семеро смелых». Сообщалось, что перед кинопоказом состоится антирелигиозная лекция с разоблачением христианской Пасхи. Радиорепродуктор звенел пионерской песней:
Товарищ Сталин, мудрый и бесстрашный,
Товарищ Сталин, рулевой страны,
Вручаем вам, как песню, детство наше,
Мы партии и Родине верны.
Толпа понемногу редела. Люди заходили в клуб, занимали места в зале. Игорь Бороздин и Марлен Звягин ждали снаружи. Ленька рассказывал о планеристах в летных комбинезонах, показывавших после демонстрации воздушные маневры своих самодельных аппаратов.
– А вон там построили человек двести молодых бойцов, и они давали торжественное обещание. Я ходил слушать. Здорово было, когда начали палить из пушек! После выстрела в небе летела светящаяся точка, красная или синяя, и за ней дымовой хвост. А некоторые ракеты рассыпались на искры…
Радиотарелка заговорила голосом диктора. Внезапным трагическим тоном он вещал о бомбежке фашистами испанской Герники и о захвате города франкистами. Звягин с неприязнью покосился на репродуктор.
– У отца на заводе опять будет митинг солидарности. В прошлый раз собирали по проценту с зарплаты в помощь республиканцам. Отец домой принес анекдот, рассказать? – Игорь кивнул, и Ленька тихо рассмеялся. – Если бы в ЦК партии отчисляли от своих зарплат на помощь испанцам, то республиканцы давно бы победили. Но так как из СССР им присылают по проценту с рабочих зарплат, то они сидят на голодном пайке и воюют так себе.
– Смешно, – согласился Игорь.
– А после фейерверка мы с девчонками из класса двинули в музей, – продолжил Ленька. – Но Юрка испортил все дело…
В этот момент появился Фомичев.
– А, это ты расписываешь, как я схватил за энное место Таньку Петрову, – взбудораженно заорал он. – Знатный товар! Но она обиделась, и девчонки с нами не пошли. А мы тоже расхотели тащиться в музей… Глядите, что я прихватил на сеанс.
Юрка расстегнул куртку и показал бутылку вина под брючным ремнем.
На галерке в зале клуба еще оставалось несколько свободных кресел, и компания немедленно их заняла. Слушать лекцию антирелигиозника охоты не было, но если прийти к началу кинопоказа, то мест в битком набитом зале уже не будет. Оказалось, однако, что лектор стоит вторым номером, а первым идет выступление ветерана революционной борьбы с самодержавием. Старого рабочего паровозоремонтного завода, мастера механического цеха, вытащили на сцену поделиться воспоминаниями, как праздновали Первомай при царском режиме.
Ветеран со значком ударника на лацкане пиджака первое время робел. Мял в руках картуз, озирался на большой белый экран и длинный стол президиума, за которым сидело партийное начальство. Рассказ он начал с того, как рабочие организовали маёвку в лесу. Политические речи, революционные брошюры, листовки… Но нагрянула полиция с казаками, всех схватили и погнали в тюрьму.
– …По пути-то они, как водится, секли нас без всякой жалости нагайками. Из Петрухи, приятеля моего, вовсе дух вышибли. Засекли до смерти друга моего сердешного и мертвым прямо у дороги бросили, душегубы окаянные. – Рассказывая о гибели товарища, старик воодушевился, стал рассекать воздух рукой с картузом. – Ну, потом нас, вестимо, полгода мытарили в тюрьме. Голодом и жаждой терзали, а жандармы кажин день измывались, били кулаками и сапогами. Напоследях приговор – расстрелять смутьянов к чертям собачьим!
– Как же ты, Василий Панкратыч, жив остался? – раздался сочувственный голос из зала.
– Так это… ну… – Старик оглянулся на президиум. – А! Война ж началась. Имперьялистическая. Послали нас из тюрьмы прямым ходом на фронт. В самое пекло, едрить-колотить. Ну и вот. Идем мы раз в атаку. Немец из пушек палит, солдатики наши падают и Богу душу отдают…
– Василий Панкратович, просим без опиума, – сделали ветерану замечание из президиума.
– Ну да… Так это… Кровища, грохот, чужие кишки под ногами чавкают. А у нас одна винтовка на пятерых и патронов к ней дюжина. Вот так цари-кровопийцы гнали народ на убой. Как скотину, едрить-колотить. Ну, думаю, отвоевался ты, Вася. Тут поляжешь, и вороны склюют тебя. И тут дружок мой Петруха, он рядом в цепи шел, кричит мне…
– Это какой Петруха? – прилетело рассказчику из зала. – Который от казачьих нагаек помер?
– Ну… да нет. – Старик почесал плешь на голове. – Он же, Петруха, живучий был, оклемался. Ему казачки дали из фляжки хлебнуть, чего у них там было. Первач ядреный. Им-то положено было, чтобы к народному страданию нечувствительными быть…
Зал хохотал.
– Вот арапа заправляет, старикан! – заливался Юрка.
– Получше артиста не нашли, – усмехнулся Игорь.
– Тише, товарищи! – кричал председатель президиума, глава заводского парткома. – Уймитесь! Взываю к вашему революционному сознанию!.. Иванов! – позвал он кого-то из-за кулис.
К старику торопливо подошел человек и, твердо взяв под локоть, уволок со сцены. Вместо ветерана объявил свое выступление лектор в строгом сером костюме, с папкой для бумаг под мышкой. Из еще не утихшего зала полетели свист и крики: «Кино давай! Хватит болтовни! Туши свет, механик!»
– Товарищи, я думаю, тут все сознательные люди! А несознательные сейчас, в эту самую минуту, идут в церкви, несут свои кровные копейки и рубли попам и будут смотреть им в рот. А те в очередной раз обманут, так и не показав своего воскресшего Христа. – Довольный шуткой, лектор пообещал: – Так что я, товарищи, буду краток. Я вам приведу самое главное доказательство, что никакого Бога не существует. Самое, так сказать, крепкое, непробиваемое, как броня советского танка, доказательство.
Последний шум, шорохи и возня в зале стихли. Заявление лектора вызвало общий интерес, даже у членов парткома за столом на сцене.
– Если бы, товарищи, Бог существовал и был бы всемогущ, как уверяют церковники, то разве могла бы совершиться Великая Октябрьская социалистическая революция, которая с этим самым Богом как с контрреволюционным явлением покончила раз и навсегда?! – Лектор обвел зал и президиум торжествующим взором. – Нет, конечно! Но наша славная революция под руководством великого Ленина совершилась, и двадцатилетие ее мы с вами, товарищи, будем праздновать в этом году! А значит, никакого Бога нет, и всякие там Пасхи, Рождества и прочая чушь – это поповское мошенничество. Вот такое простое и нерушимое доказательство, товарищи.
Председатель парткома, потрясенный этой речью, захлопал в ладоши. Аплодисменты подхватили в президиуме и в первых рядах зала.
– А теперь, товарищи, – продолжал лектор, – чтобы нам всем было веселее и интереснее, прошу писать в записках ваши вопросы и передавать их мне…
– Пойдем после кино к церкви? – Фомичев толкнул локтем Звягина. Ленька глотнул из бутылки и отдал приятелю. – Устроим собачий концерт, когда попы будут петь.
– Лучше кошачий, – отказался Бороздин. – Или лягушачий.
Фомичев, дурачась, заквакал.
– Клоун, – беззлобно бросил ему Игорь.
– Я тоже не пойду, – сказал Ленька. – У меня мать верующая.
– А! – вспомнил Юрка, допивая остатки вина. – В поселке же церковь закрыли. Теперь все бабки в город ходят.
Пять минут спустя, когда в папке у лектора набралось несколько клочков газетной бумаги, он выбрал одну и зачитал вслух:
– Когда в СССР закроют все церкви? Туда ходят одни бывшие нэпманы, кулаки и темные старухи… Товарищи, это всего лишь вопрос времени. Думаю, это произойдет в течение ближайших двух или трех лет… Так. Почему евреям разрешен ввоз мацы из-за границы и наши заводы делают для них еврейское вино?.. Это вопрос политический! Я, товарищи, ответить вам на него не могу… Следующий вопрос. Почему, когда был Бог, у нас были хлеб и масло… а когда Бога советская власть отменила, не стало ни того ни другого…
Лектор в замешательстве умолк, подошел к президиуму и положил записку на стол. Председатель и члены тотчас кисло уставились в нее.
– Товарищи, ну нельзя же так… К временным экономическим затруднениям поповские сказки про Бога не имеют касательства. – Антирелигиозник развел руками и взялся за следующую записку. Зал напряженно и взволнованно, с затаенным дыханием ждал продолжения. – Не могу купить детям писчей бумаги и ручек, и даже ботинок. Потому что ничего не найдешь в магазинах, а если найдешь, то дорого… Это, товарищи, к религии тоже не относится! – нервно воскликнул лектор. – Те, кто это пишут, срывают нам мероприятие. Это не по-советски, товарищи!.. – Он сделал последнюю попытку отыскать в ворохе записок правильный вопрос: – Скоро ли будет война? Лучше война, чем такая жизнь… – На последних словах голос его упал до едва различимого.
Председатель парткома неожиданно резво подбежал к лектору. Вырвал из его рук папку с оставшимися записками и сердито погрозил кулаком залу: «Вот я вам!..»
– Разрешите мне, товарищи, сказать пару слов, – кашлянул у них за спинами рабочий, неприметно для всех поднявшийся на сцену. – У товарища лектора заминка вышла, так я заместо него…
– Вы, Матвеев, выступление не согласовывали, – возразил секретарь парткома.
– Всего на два слова, товарищи.
– Ну если только два, не больше, – предупредил председатель, возвращаясь на свое место.









































