Читать книгу "Охота на Церковь"
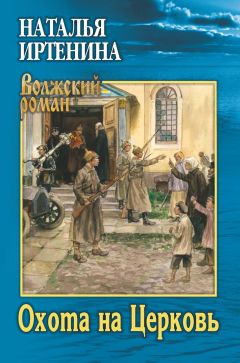
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Высери вон! Высери вон! – радостно галдели они, преследуя новую жертву, показавшуюся из монастырских ворот.
Ею был тщедушный человечек в долгополом церковном облачении, с пустым мешком на веревочной лямке. Услыхав дикую охоту, он ускорил шаг, но не оглядывался.
– Спасибо тебе! – с улыбкой сказал отец Павел, узнав в своем защитнике Мишу Аристархова. – Спас меня от расправы. – Он кивнул на убегающих шпанят и их объект травли: – Бедняга Виссарион. Наш дьякон. Более кроткого создания я не знаю. Вот уж кого эти воронята безжалостно заклюют.
– Зачем же вы по городу в рясе ходите? – спросил Михаил. – Снимали бы, никто бы вас не трогал.
– Твой отец тоже ходил в рясе. В подряснике, если точнее. – Священник с глубоким интересом вглядывался в неприветливое лицо парня.
– Поэтому его арестовали, – буркнул тот и отвернулся, собираясь продолжить путь.
– Ты в храм? – окликнул подростка отец Павел.
– Нет, мимо шел.
– Постой, Михаил! Хоть и мимо шел, да, видно, тебя твой ангел сюда направил.
– Это уж вряд ли, – снова пробурчал парень, но остановился.
– Пойдем поговорим. – Священник показал на монастырские ворота.
Миша неохотно зашагал рядом с ним. Вдоль всей улицы между столбами полоскалась веревочная гирлянда с красными и синими флажками. К самим столбам были прикручены толстой проволокой древки с алыми полотнищами стягов. Город украшали к военному параду, которым должны были завершиться осенние маневры частей Красной армии, проводившиеся на территории района.
– Есть ли известия об отце?
– Записки из тюрьмы передал. Пишет, что ничего ему там не нужно.
– Ну да, конечно же, – вздохнул отец Павел, на себе познавший все нужды обитателей советских тюрем и лагерей.
Они вошли под соседнюю с воротами арку, над которой веером расходились широкие трещины. Монастырская территория, когда-то выложенная каменными плитками, задичала, обросла травой – большую часть плиток давно выковырнули и вывезли. Перед бывшим келейным корпусом, наполовину скрытым за веревками с бельем, они сели на шаткую лавочку.
– Наши прихожане собрали немного денег и продукты для вашей семьи. Только отвезти не на чем. Придется нести на себе.
– Я теперь в городе живу, – быстро произнес парень. – В воскресенье пойду к матери, буду копать картошку.
– Тогда в воскресенье с утра и заберешь. Но одному тяжеловато будет. Отпущу с тобой кого-нибудь из алтарников.
– Не надо алтарников. Я Славку Коростылева позову.
– Славика? – Отец Павел устремил задумчивый взор в бельевые кущи и немного помолчал. – Ты знаешь, Славик очень изменился после ареста матери. Из алтарников ушел, в храме вовсе не появляется. Про мать как будто совсем забыл, не интересуется ее судьбой. Встретил его на улице недавно, вот как тебя. С какими-то ребятами-комсомольцами шел, похоже, сдружился с ними… – Священник снова умолк.
– Ну и что? – нетерпеливо спросил Михаил.
– Да вот думаю… Не может быть, чтобы человек так сразу позабыл все, что было в его прежней жизни хорошего. Неужто арест близкого может так опустошить и омертвить душу, озлобить?
– Я не знаю, – пробормотал парень, смутившись. – Нет… Наверное, она наполняется другим… Почему сразу злом? Славка на переводчика хочет выучиться. Что в этом плохого? – Он заговорил увереннее. – Ему комсомольский билет нужен. С билетом будет проще.
– Не думаю, что комсомольский билет – индульгенция.
– Чего? – переспросил парень.
Отец Павел смотрел так, что Мише казалось: хочет вынуть и получше рассмотреть на свету его душу.
– Комсомольцев и коммунистов тоже легко превращают во «врагов народа», если это для чего-нибудь нужно, – объяснил священник. – Ладно, Михаил. Приходите со Славиком в воскресенье в храм. Или хотя бы сам приходи на литургию, если он не захочет. За твоего отца мы молимся, и ты молись. Молитва – жизнь души. Придешь?
– Приду, – обещал подросток, опустив долу взор.
Отец Павел, поднявшись, благословил его размашистым крестом:
– Христос с тобой.
– Поп-вредитель, поп-вредитель!..
От ворот к ним бежал мальчишка, тонко голосивший. Только на сей раз это была не дразнилка, а взволнованный клич напуганного ребенка.
– Поп-вредитель, там Высеривона арестовали! – выпалил постреленок. Он громко дышал после быстрого бега. Длинная прядь волос из-под кепки прилипла ко лбу.
– Где – там? – чуть растерянно спросил отец Павел. Не мог сразу решить – верить шпаненку или мальчишки сговорились подшутить.
– На базаре! Мы за ним, а он от нас. А там дядька в шляпе. За руку его взял: «Следуйте за мной!» – скороговоркой звенел малец. – А там еще двое. Один в синей фуражке, и штаны тоже синие. Нас увидел и кулаком погрозил.
– Ах ты, несчастье какое! – встревоженно проговорил священник. – Бедный Виссарион… Он и мухи никогда не обидит, за что же его?..
– Высеривон им чего-то сказал, а который в синих штанах, врезал ему под дых. Я убежал и больше не видел, – продолжал строчить шпаненок. – Высеривон не злой, он нам ничего не делал, а иногда леденцы давал… мы думали, и сегодня даст…
– Не называй его так! – строго сказал отец Павел.
Мальчишка заморгал, не понимая.
– Поп-вредитель, а ты правда шпион?
– Нет, конечно! Да и какой я тебе вредитель?
– А кто ты? – совсем сбился с толку малой.
– Ох, несчастные замороченные дети, – вздохнул священник.
Михаил, в продолжение всего рассказа отступавший к воротам, молча, не прощаясь, развернулся и быстро зашагал прочь. Отчего-то отец Павел, глядя вослед ему, подумал, что в воскресенье он не придет.
– А ты не врешь? – требовательно спросил шпаненок, подойдя ближе.
5
В среду пятнадцатого сентября Муром с раннего утра жил ожиданием праздника – военного парада в честь окончания армейских тактических учений. По улицам сновали грузовики с солдатами, торопилась к месту отставшая техника. Заводы и фабрики выставляли колонны рабочих с флагами и работниц с цветами, те бодрым шагом двигались на городскую окраину. Маршировали с песнями школьники. На обширном поле уже стояла барьерная разметка для публики, высокая сколоченная трибуна для военачальников, скопилась в строгом порядке колесная и гусеничная техника. Выравнивалась парадными коробками живая сила – пехота в стальных шлемах и плащ-накидках от накрапывающего дождя.
Борька Заборовский и Миша Аристархов шагали позади своего девятого класса, выстроенного колонной по четверо в ряд. Борька был, как всегда, велеречив.
– Смотри, весь город украсили! – гордо показывал он на цветные флажки, натянутые между столбами вдоль улицы, будто сам их развешивал. – Красная армия разобьет любого врага, это научный факт! Нашу мощь никто не пересилит. Ты видел, сколько военных вчера было в городе? Наверняка больше, чем невоенных. Силища!
Миша немного рассеянно кивал в ответ. Прежде на демонстрации и парады его не брали. Все это было ему внове и с непривычки немного покалывало, как свитер из грубой шерсти, чуть-чуть давило, как неразношенные ботинки. Он понимал, что еще много ему предстоит работать над собой, чтобы однажды почувствовать единение с этой огромной массой людей, идущих по улицам, поющих песни про советских танкистов и летчиков, размахивающих портретами вождей и маршалов, наперебой славящих человека, которого называют Отцом народов…
Борька истолковал его грустную отстраненность по-своему:
– Не грызи себя, ты все правильно сделал. Нужно сперва любить партию, а потом уж родителей и прочую родню. – Он толкнул приятеля в бок и опять заговорил по-профессорски: – Мы должны свою волю сливать воедино с волей государства, а не слушать ворчание родственников и прочих отсталых личностей. Нас с тобой, запятнанных буржуазным происхождением, всегда будут язвить со всех сторон. Но надо приспосабливаться к советской системе, подстраиваться, включаться в нее с головой и с потрохами. Мы с тобой должны стать на двести, нет, на триста процентов советскими, понимаешь? У нас нет права оставаться безразличными, когда страна ликует или грозит врагам. Если не участвуешь – ты пошлая, неразвитая личность. Согласен?
Мимо школьной колонны, прижав ее к обочине, ползли две машины с красноармейцами в кузове. Лица солдат были суровы, даже немного мрачны, но, когда девчонки-старшеклассницы весело бросали им букетики, воины оживали, принимали бодрый вид и широко улыбались. Заборовский воодушевленно махал красноармейцам рукой.
– Я тебе советую завести личный дневник, – продолжил он наставлять Аристархова. – Это будет тебе полезно для самоосознания и самоперековки. С помощью этого инструмента ты постепенно избавишься от влияния своего прошлого. Я и сам подумываю написать что-нибудь этакое… вроде автобиографической книги. Чувствую своим долгом описать великую эпоху, в которой мы живем, оставить о ней мое личное свидетельство! Я уже и название придумал. «Жизнь человека из отжившего класса, его перерождение и применение к социализму». Звучит же!..
До места парада школьная колонна добралась к одиннадцати утра. За барьерами из деревянных жердей толпился жаждущий зрелища народ. Все классы тотчас смялись и перепутались. Дорогу к самому барьеру пробивали военрук с физруком.
– Ух ты! – смеялся Борька. – На демонстрациях столько народищу не бывает, как тут.
Приятели протиснулись к брусьям ограждения и уперлись животами. Сзади толкались и напирали. Вдоль всего барьера на дистанции десяти метров друг от друга держали оцепление солдаты внутренних войск НКВД. Впереди них и реже – люди в форме госбезопасности.
На поле стояли моторизованные части. Заборовский со знанием дела, прищурясь, комментировал модификации пушек на тягачах, пулеметных установок на грузовиках, мотоциклов с платформой под миномет.
Ровно в полдень издалека показались скачущие вдоль фронта войск три всадника – один впереди, два по бокам позади. По толпе пронесся восторженный гул: «Маршалы! Сам Ворошилов принимает парад!» Вскоре можно было рассмотреть крупные маршальские звезды на петлицах. К разочарованию Борьки, полководцы прорысили слишком быстро.
– Это же Буденный! – завопил он в ухо приятелю, когда остались видны только спины легендарных советских командармов. – А третий кто, ты разглядел?!
– Ты что, Заборовский, маршала Егорова не узнал? – укорил его стоявший рядом военрук.
– Теперь-то, конечно, узнал, – важно сказал Борька.
В полусотне метров от них точно так же виснул животом на барьере Витька Артамонов. Военных парадов он никогда не видел, только слышал, как про них рассказывали по радио московские дикторы на годовщины Октябрьской революции. Предвкушая нечто особенное, Витька пренебрег осторожностью. Для конспирации лишь натянул глубже на лоб кепку и старался не встречаться глазами с солдатами оцепления, а особенно энкавэдэшниками. Но восторг при виде скачущих маршалов оказался столь велик, что Витька забыл о конспирации. Сорвал с головы кепку, замахал ею в воздухе и залился коленчатым свистом в два пальца.
– Даешь войну с фашистом!!!
В общем торжествующем гуле и криках толпы Витькин вопль был не особенно различим. Но чуткое ухо госбезопасности уловило его, выделило из прочих возгласов и локализовало источник. К Витьке направился из-за барьера ближайший сотрудник НКВД. Тот, пялясь на крупы маршальских коней, слишком поздно узрел опасность. Подошедший вплотную чекист негромко, но угрожающе потребовал:
– Ваш документ, гражданин!
Парень несколько секунд, обалдевши, смотрел на него. Вдруг, осмыслив угрозу, он толкнулся назад. Но толпа стояла непробиваемой стеной. Витька сделал вид, что лезет в карман за документом. Удара кулаком в нос чекист, конечно, не ожидал. Он свалился наземь, а Витька, согнувшись, пролез под ограждением. Словно одурев, со всех ног помчался по парадной линии вслед за ускакавшими маршалами.
– Стойте! Стойте! – очумело орал Артамонов. – Это я магазин на Советской ограбил! Я!..
За ним бежали двое солдат. Поднявшийся на колено чекист дернул из кобуры оружие и прицелился, но с выстрелом его опередил другой. Витька, взмахнув руками, упал лицом в раскисшую от дождя землю. Стрелявший госбезопасник и солдаты, не разбирая, жив он или убит, подхватили тело и бегом понесли в противоположную от публики сторону, к парадным расчетам. Спустя минуту они скрылись за бронеавтомобилями.
В ликующей, возбужденной толпе, среди громогласных криков «Ура!» и «Да здравствуют советские маршалы!» не многие слышали выстрел. И уж точно никто не понял, что случилось. Видели бегущего парня, который споткнулся и упал в мокрую грязь. Кто-то посмеялся над недотепой-нарушителем, от избыточного восторга выбежавшим за барьер.
– Какой-то чудик погнался за маршалами, – прокомментировал Заборовский. – Вот бедолага, теперь ему в госбезопасности всыплют горячих.
И только военрук о чем-то догадался:
– Сдается, диверсанта обезвредили…
Спустя минуту о случившемся напрочь забыли. Началось парадное шествие. Первыми двинулись пехотные коробки: шли бесконечными зелеными рядами, поблескивая шлемами. Приближающийся с неба гул моторов оповестил о появлении целой эскадрильи. Прямо над головами марширующей пехоты и зрителей, обмиравших от восхищения, несколько минут проходила грозная туча: сотни две крылатых машин с крупно нарисованными алыми звездами – штурмовики, разведчики, истребители. Красовалась кавалерия с саблями на боках, за ней потянулась артиллерия. Пушечки на ГАЗах и ЗИСах, пушки на прицепах, пушищи на платформах тягачей. Загудели самоходки и броневики, а за ними покатили легкие танкетки. Со стальным лязганьем гусениц поползли хищные носороги – танки.
– Есть на что посмотреть! – удовлетворенно сказал Борька, когда завершать парад выехали мотоциклисты. – А вы как считаете, Илья Самсонович, – спросил он военрука, – за сколько месяцев Красная армия разобьет фашистскую? За пять наши управятся?
– Ну ты хватил, Заборовский. Трех хватит.
Борька подмигнул Мише:
– Слыхал? Я бы в военное училище записался. Но мне дорога в литераторы. А тебе в самый раз в училище связи. Станешь военным радистом, будешь полезным советским человеком.
Оглушенный великолепием парада, переполненный чувством причастности к великой эпохе, Миша только кивал. От ощущения, что сердца коснулось краешком счастье, изгоняя оттуда осколки тревоги и тоски, на губах его блуждала, то появляясь, то исчезая, рассеянная улыбка. В этот день, впервые за две сентябрьские недели, Аристархов не чувствовал себя предателем.
6
Морозов счел бы себя сумасшедшим, приди ему в голову эта идея полгода назад. Но отчаянные времена требуют отчаянных решений, а безумные эпохи – безумных действий. План с рукописным журналом юных подпольщиков провалился. Не от кого было чекистам узнать о заветной тетрадке, хранящейся с некоторых пор в доме начальника муромского НКВД: Витька подался в бега, председатель райисполкома Бороздин так и не сумел выбить свидание с сыном. Самому написать донос в органы у Морозова не поднялась рука. Он не спас Женю от ареста, а теперь ничем не мог помочь ей или хоть что-нибудь узнать о ней. Сознание бессилия толкало на опасные пути, взрывало мозг фантастическими замыслами.
Так он очутился в кабинете младшего лейтенанта Кольцова – с блокнотом и карандашом репортера, с наигранным любопытством в глазах и крепколобым энтузиазмом в речах.
Главный редактор «Муромского рабочего» Кочетов, услышав за пару дней до того просьбу внештатного сотрудника, несказанно удивился и по-простому покрутил пальцем у виска.
– Хочешь своей волей залезть в пасть крокодила? – прямо, по-редакторски точно, без стилистического тумана описал он ситуацию и участливо спросил: – Ты не заболел, Коля?
– Двадцать лет ВЧК-ОГПУ-НКВД, Валентин Михайлович, – ясноглазо смотрел на главреда Морозов. – Нужна статья. Большая. Не перепечатка передовицы из «Правды» или «Известий», а юбилейный материал о героических буднях наших, муромских стражей революции. Буду собирать материал.
– Ты псих, Морозов, – после долгого раздумья сказал Кочетов. – Но уважаю. Одобрить не могу, хотя… чем черт не шутит?
Он снял трубку телефона. Через два дня журналистское задание было согласовано, и репортер городской газеты с пропуском в кармане ровно в семь вечера постучался в кабинет начальника райотдела НКВД. Тот окинул гостя тяжелым, утомленным взглядом и оборвал приветственные восторги:
– У вас десять минут.
– Я бы хотел… э…
Играть почтительное восхищение оказалось сложнее всего. Тут Морозову пригодились уроки сценического мастерства, которые когда-то между делом давала ему сестра, игравшая в школьном театре. Но коль скоро главе муромских чекистов лесть не требовалась, это облегчало дело. Однако обрезка разговора до десяти минут обескураживала. Николай бешено соображал, как построить беседу, чтобы вырулить в нужном направлении.
– Э… жителям нашего города и района было бы чрезвычайно интересно узнать, как несут свою нелегкую службу бойцы невидимого фронта… Что бы вы могли рассказать читателям нашей газеты?
Кольцов чуть расслабился, откинулся на спинку кресла. Пожевав губами в размышлении, он стал неохотно отмерять и отвешивать слова, как продавец в магазине недовольно бросает на весы кусок колбасы, чтобы отдать его покупателю, которого заранее невзлюбил.
– Пиши так. – Как всякий советский начальник, Прохор Никитич без лишних предисловий переходил на «ты». – Органы НКВД стоят на страже интересов нашего свободного и счастливого народа. Когда товарища Ежова награждали орденом Ленина за выдающиеся успехи в руководстве НКВД, он сказал: в мире нет другого государства, в котором органы госбезопасности так тесно связаны с народом и так ярко выражают его интересы. Поэтому нас, чекистов, советский народ почитает и любит. Любит за то, что мы защищаем его от врагов, а значит, способствуем скорейшему выполнению боевых задач партии и правительства. Записал, а?.. – Начальник райотдела внимательно наблюдал, как Морозов строчит в блокноте. – На страх врагам, на радость трудящимся органы НКВД во главе с верным сталинцем наркомом Ежовым и дальше будут карающим мечом революции. Будем громить троцкистско-зиновьевские банды, японо-немецких шпионов, армии диверсантов и вредителей. Работа эта трудная, опасная. Всех наших врагов объединяет между собой злобная ненависть к СССР, к успехам социализма. Трудно даже провести четкую границу между троцкистами, эсерами, попами, кулаками и шпионами. Все эти отбросы человечества – бандиты с большой дороги, верные псы фашизма и капитализма. Приговор им, холера, только один – смерть. Они это знают и стараются подороже продать свои жалкие шкуры, причинить больше вреда нашей стране… Когда статья будет готова, пришлешь мне на согласование. Стой, добавь: двадцатилетие органов ВЧК-НКВД, которое будем отмечать в декабре, это настоящий народный советский праздник. Так и запиши, товарищ репортер.
Поставив точку после быстрых каракулей, Морозов решился:
– По городу ходят слухи, что в Муроме разоблачено диверсантское подполье, в котором участвовали школьники. Все помнят, как весной на улицах появлялись листовки… э… возмутительного содержания. Это вопиющий случай… В антисоветскую деятельность была вовлечена молодежь. Можете поделиться, что показало расследование? Кто эти преступники? Какое наказание их ждет?
Спиной, по которой прошелся нервный холодок, он почувствовал возникшую в воздухе наэлектризованность. Кольцов уперся животом в стол и неприязненно задышал.
– Ты с какой целью интересуешься, парень, а?
– Советские люди должны знать врага в лицо, – не моргнул глазом Морозов.
– Советские люди не должны интересоваться работой органов, – веско возразил начальник райотдела. – Им достаточно знать, что врагов у нас в государстве чертова прорва. И что великий Сталин с наркомом Ежовым стоят на страже нашего социалистического строя. Кто тебе поручил это редакционное задание? Хренов партизан Кочетов, а? Кто в райкоме дал разрешение?
– Второй секретарь Аристархов…
Совершенно натурально Морозов изобразил испуг, хотя мог не притворяться. Нервы были натянуты до предела, и угрожающий тон начальника чекистов бил по ним, как неумелый гитарист по струнам, вызывая неприятную вибрацию где-то внутри, возле солнечного сплетения.
– Разговор кончен. – Кольцов поставил в его пропуске чернильную закорючку. – Мой тебе совет, товарищ репортер, не суй нос куда не след. Уяснил, а?
– Конечно…
Согласно закивав, Морозов подцепил пропуск и вылетел из кабинета.
Во дворе НКВД под моросящим дождем он отдышался, унял беспокойный стук сердца. Рассовал по карманам репортерские принадлежности, надел кепку. Оглянулся на здание. Почти все окна горели светом. Чекистский муравейник трудился, копошился, усердно выдумывал врагов и разоблачал их. А где-то, за каким-то из этих светящихся окон была его Женя. Или, может, она в той части здания, в левом крыле-флигеле, где тускло подсвеченные подвальные окошки забраны мелкоячеистыми решетками, а над ними желтеет лишь один оконный проем, за которым, наверное, дуется в карты тюремная охрана.
«Где ты, моя родная? Отзовись, дай мне знать, если ты здесь!» Только шелест дубов, облетающих под дождем и ветром, звучал в ответ.
Дежурный охранник в будке у ворот долго изучал, подсвечивая фонариком, его пропуск. Сейчас Морозов не удивился бы, скажи ему этот солдатик, что он арестован. По лбу поползла крупная холодная капля. Но это был не пот, просто на голову с крыши будки упала дождевая струя и просочилась через кепку.
Охранник выпустил его на пустынную в вечерней тьме улицу. Быстрым шагом Морозов миновал полтора квартала, не встретив ни души. Но вдруг заметил впереди шатающуюся фигуру. Пьяный заплетал ноги и бормотал под нос. На голове у него была фуражка, а штаны топырились по бокам припуском галифе.
Полсотни метров до ближайшего горящего фонаря Морозов по наитию шел позади пьянчуги, не понимая зачем. Вдрызг упившийся милиционер или чекист – что ему до них? Очередной план не сработал, других идей хватало – но осуществимых не было ни одной. Он хватался за соломинку.
Вблизи фонаря Морозов обогнал выпивоху и заглянул ему в лицо. Остановился, пораженный.
– Гринька, ты, что ли?!
– Допустим, – с пьяной угрозой произнес чекист, сильно качнувшись. – А ты кто такой?!
– Не узнал? Морозов я, Колька. Карабановский. Нашу семью в тридцатом раскулачили. Ну, вспомнил? Ты тогда деревенской шпаной был, с дружками колхозных комсомольцев задирал и поколачивал.
– Было дело, – согласился Гриня Кондратьев. – Я тебя помню, кулацкая м-морда! Ты еще мелкий был. Но я теперь не хулиган… Я…
Он громко икнул и стал заваливаться. Морозов едва успел подхватить.
– Я… – Кондратьев поводил пальцем у лица: – Тсс! Чтоб никому! Я, Колян, теперь убивец…
– Как же тебя в чекисты занесло? – Морозов истолковал пьяное откровение фигурально. Он закинул руку старого знакомца себе на плечо и повел его.
– Уж занесло так занесло, – бормотал Гриня, покорно переставляя ноги.
– Где ты живешь? Я доведу.
Кондратьев назвал адрес. Это было недалеко, через несколько улиц. По дороге Гриня то принимался нести околесицу, то стонал и слезливо жаловался на какого-то капитана, который учил его стрелять, то проклинал службу.
– Ну ее к чертям… такую работу… Уйду, и дело с концом… Пускай других дурней учат, как сволочью быть…
К тому времени, когда Морозов втащил его в дом, мимо открывшей дверь старухи, и бросил на кровать в комнатке, Кондратьев успел основательно раскваситься. Скулил и плакал, как дитя.
– Я, Колясик, лучше застрелюсь. – Он стал елозить пальцами по кобуре на поясе. – Душу мою испоганили… Теперь как жить?.. В крови вымазали… У-у, черти!..
Морозов расстегнул кобуру, достал наган и закинул в карман своей трикотажной куртки – от греха подальше.
– Витьку Артамонова помнишь? – Гриня вдруг посмотрел осмысленно, и в глазах у него Морозов увидел смертную тоску. – Хороший конец. Р-раз – и готов! Пулька прямо в сердце. А то бы замучили. Нож складной у него при себе… Был бы Витька террористом. На маршалов Советского Союза покушался…
– Что за бред? – хмурился Морозов. Об исчезновении Витьки он знал от братьев, но в то, что парень погиб, не мог поверить.
– Ей-богу, не вру, – таращился Кондратьев. – Раскололи бы его у нас. Там такие колуны работают, у-у-у… топор с ними не сравнишь. А есть смертельные колуны. Которые арестантам натягивают показания на вышку. У них сам черт не уйдет без признания. Прописывают террор или шпионство. Витька молоток, не дался…
– Женю Шмит знаешь? – Взбудораженный рассказом, Морозов схватил его за грудки. – Видел ее там?
– Шмитов-Смитов не знаю, – снова плаксиво забормотал Гриня. – Мой Горшок со шпионами не работает. А кто у других, мне знать не положено…
Николай отпустил его, и тот, свернувшись калачом, неожиданно трезвым, злым голосом из-под руки, закрывшей голову, потребовал:
– Уйди!!!
* * *
Утром, собираясь на работу, Морозов обнаружил в кармане куртки револьвер. Чертыхнувшись, он влез в ботинки, велел Севке и Мишке не опаздывать в школу и пару километров бежал спортивной рысцой до улицы, где жил Кондратьев. На бегу запоздало решал, что делать, если Грини не окажется дома. Отдать револьвер старухе, что вчера открыла дверь? Забросить в форточку, если будет открыта? Нести назад? Промедлив с возвращением нагана, он рисковал, что обозленный пропажей табельного оружия Кондратьев обвинит его в краже. Идти в НКВД, вызывать этого пьянчугу через дежурного?
Судьба все решила за него. У входа в дом стояла телега, на которую два человека в халатах грузили завернутое в грязную дерюгу тело. Из раскрытого окна кондратьевской конуры высовывался чекист с сержантскими петлицами: осматривал подоконник, искал следы на земле под окном. Давешняя старуха горестно охала, равнодушно грыз семечки одноногий инвалид на костыле. С восторженными криками бегали дети:
– Удавленник! Удавленник! На проводе висел!..
Санитары из морга запрыгнули в телегу по обе стороны от мертвеца, и возница тронул коня.
Морозов, притворившись случайным прохожим, дошел до конца улицы и, перейдя на соседнюю, отправился вспять. Возвращать револьвер он передумал. Было бы неимоверной глупостью состряпать на самого себя обвинение в хищении оружия у сотрудника органов да сверх того – в убийстве того же сотрудника под видом самоповешения.
На работу он решил опоздать. Мальчишки ушли, дом был пуст. Он выложил наган на стол и задумчиво смотрел на него. Проверил обойму – полная, снова положил. Закрутил револьвер волчком. Взгляд упал на вчерашний номер «Муромского рабочего» с крупным портретом вождя на первой полосе.
Морозов импульсивно и безотчетно взял газету, поставил на комод, прислонив к стенке, а затем прицелился в портрет из револьвера. «Пых-х!» Рука дернулась в воображаемой отдаче от выстрела. Товарищ Сталин хитро улыбался ему.
7
В камере восемь лежанок на два яруса и полтора десятка заключенных женского пола, часто меняющихся. Ночами спят по двое. Повезет той, чью соседку уведут в ночь-полночь на допрос, хоть на несколько часов. В иные дни сиделиц в камере прибывает, и, пока их не рассортируют, новенькие спят на полу, подложив прихваченное из дому пальто или узел с вещами под голову.
Привилегированные места – на верхних нарах у стены, посредине которой утоплена в толще кирпичной кладки железная решетка, а за ней подвальное оконце. Нары слева от окна занимает уголовница Нюрка, которой прислуживают две девки-воровки: матерая баба, державшая воровской притон, обритая наголо в наказание за строптивость. Нары справа от окна отвоевала совбурка – советская буржуйка, теперь уже бывшая, арестованная по новому закону как жена партийца – изменника Родины. Обозленная переменой в судьбе, она боролась за лучшее место под электрическим солнцем камеры с остервенением и свирепостью. Уголовница Нюрка, пощупав пару раз ее оборону, признала за ней равноправие и больше не пыталась скинуть с нар.
Остальные сокамерницы были до ареста простые советские гражданки. Работницы фабрик, продавщицы, крестьянки, портниха и уборщица, почтальонша и библиотекарша. У половины остались дома малые дети. Почти все не могли взять в толк, в чем их вина, но некоторые соглашались, что без вины их не арестовали бы. Такое время, что можно и не заметить, как станешь шпионкой или женой шпиона. На допросах не спорили, подписывали признания.
Только самые упрямые бодались со следователями.
Женю принесли в камеру под утро. Двое конвойных растолкали спящих на ближних нарах и бросили тело на лежанку. До побудки оставалось два часа. Проснувшаяся мать Серафима осмотрела свою подопечную, но телесных повреждений, кроме синяков на руках, не нашла. Женя крепко спала, и сон ее был похож на глубокий обморок. Два часа до лязганья железной двери и окрика дежурного мать Серафима сидела с ней, погрузившись в молитву.
Днем тюремный режим запрещал лежать на нарах, иначе лишали пищи. Когда принесли завтрак – большую кастрюлю кипятка на всех и ломти серого хлеба, – монахиня пыталась разбудить девушку. Удалось усадить ее, привалив головой к опоре верхних нар. Выглядела она плохо. Высохшая кожа на лице, почти черные глазные впадины, потрескавшиеся губы, на которых присохла сочившаяся кровь. Но хуже всего было с ногами – они страшно отекли, стали как столбики. Чтобы снять ботинки, потребовалось усилие.
Сокамерницы молча смотрели на нее и безучастно отворачивались. Только одна, жуя хлеб, проявила интерес:
– Чего с ней, а?
– А то ты не знаешь, – чуть сердито сказала мать Серафима. – Пять дней на допросе мытарили без сна. Давали ль хоть есть, не знаю. Пытку придумали – человека на ногах держать сутками.
– За что ж ее так? – Женщина, приложив к щеке руку, сердобольно вздыхала. – Видно, обозлились на нее. Какая вина на ней, не ведаю, а только зачем себя так мучить? Признала бы все, что им нужно, и дело с концом. Вон как я. Думать не думала, что попаду в тюрьму. Сынок мой, Вовка, подсуропил. Связался с бандитами, а у них листовки против Сталина. Вовка мой под кровать их засунул. А я убираться стала и нашла. Испужала-ась. – Рассказчица взялась за сердце. – Схватила всю пачку да как побегу в НКВД! Думала, если снесу им эти проклятые листки – не посадят меня за сына непутевого. А оно вот как обернулось. Два с лишком месяца Вовку в тюрьме держали, потом и меня туда же. Да я что, я свою вину признала, все подписала. Что кулацкая жена, и что коммунистов ругала, и сына через это антисоветски настраивала. Все истинная правда.
Мать Серафима, убрав кружку, пристроила голову Жени у себя на коленях.
– И ты бы, девонька, подписала. – Женщина наклонилась над спящей. – Сразу тебе облегчение сделают.
– Уйди ты, ради Бога! – замахала на нее монахиня.
Женя пробыла в тяжелом забытьи до вечера. Все это время мать Серафима сидела с ней, время от времени гладила по волосам и худым, с торчащими косточками, плечам. «Бедная моя девочка… Господи, не остави нас, грешных и немощных…»









































