Читать книгу "Охота на Церковь"
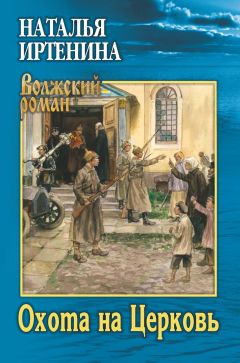
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Только один человек во всем здании райотдела посреди зловещего кипения суеты оставался спокоен и безучастен к грядущим переменам. Из разорванных на полосы двух носовых платков с помощью взятой взаймы у другого заключенного иголки и надерганных из белья ниток отец Алексей шил себе епитрахиль. Без этого предмета облачения священник не может исповедовать, а в общей камере обреталось несколько человек, желавших облегчить душу покаянием. Кто служит Богу, тот и в тюрьме не оставит своего дела. «Что нам принадлежит, то от нас не убежит, – бормотал отец Алексей, неловко укалывая пальцы иглой. – Господи, помилуй и благослови мя, грешного!»
15
– Вот не пойму, Вань. Ты дурак или вправду троцкист?
– Дурак я, Макар. Иван-дурак. – Прищепа усмехнулся. – Дураком в наше время быть для совести спокойнее, чем умным.
– Не, Вань, не сходится, – размышлял Старухин, прилепив к нижней губе папиросу. – Дурак такое дело не раскрыл бы. Дурак убийц не поймал бы. Ты же сообразил, что если они в бега подались, то ждать их нужно на станции в Муроме…
– И в Добрятине, и в Навашине, и в Теше. Они могли вынырнуть на любой станции. Тут, Макар, дело случая и везения, а не ума.
– Не скажи. Просто твои колхозные бандиты оказались дурнями. А ты себе на уме. Но вот сейчас ты сидишь передо мной дурак дураком. Требуешь освободить арестованных нами по этому делу кулацких охвостьев, заведомых врагов советской власти, контрреволюционную сволочь. И это заставляет меня сомневаться в твоей советской честности, Иван Созонович.
– Требую, потому что мужики сидят в тюрьме не за свою вину, и семьи их несут незаслуженный позор. Я тебе настоящих убийц на блюдечке принес, так отпустите невиновных! – Прищепа горячился. – Это что, так трудно понять?
Старухин покачал головой и загасил окурок в пепельнице.
– Невиновных, муха-цокотуха? Совсем ты, Ваня, нюх потерял. Старый пес без чутья и хватки… никому не нужен. Спроси себя: стал бы невиновный, преданный советской власти человек держать в доме двадцать граммофонных пластинок с церковным пением и с «Боже, царя храни»? А царский портрет в полной сохранности на чердаке? И еще спроси себя: почему в сарае у невиновного при обыске найдены винтовочные патроны?.. Молчишь. Потому что знаешь ответ. Ты же не дурак, Ваня, ты… Мотив убийства выяснил? – резко переменил тему чекист.
– Рукосуев за взятку выписал Каныгину и Боровкову справки на отход из колхоза. Два дня они втроем обмывали эти бумажки, а потом Рукосуев стал требовать с них займ обороны. В госказну или себе в карман, это уже несущественно. Угрожал, что, если не заплатят по полста рублей каждый, он их арестует, отберет справки и конфискует имущество. Мужики спьяну поверили, ночью подкараулили.
– А для чего они хотели из колхоза уйти, ты дознался? Кто их сагитировал на то, чтобы бросить работу в колхозе, когда государство испытывает недостаток хлеба и другого продовольствия?
– Нет, об этом я не спрашивал. Да тут и так понятно…
– Конечно, понятно, муха-цокотуха. Подрыв колхозной работы, антисоветская агитация среди населения… А может, и убили они, потому что кто-то науськал их на председателя сельсовета? Кто-то очень старательно подзуживал их взять в руки топор, а?
– Не думаю.
– Не думаешь или покрываешь?
– Ты меня уже обвиняешь?
– Пока только кумекаю. Ты помнишь наш разговор весной? Я тебе обещал, что раскрою дело о терроре в Карабанове. Так вот, Ваня, я свое слово держу. В Карабанове и окрестных деревнях действовала эсеро-кулацкая террористическая повстанческая организация. Сейчас мы вычесываем ее участников. Эти шестеро, за которых ты ратуешь, только начало. И ты, Иван Созонович, молись… каким хошь богам молись, чтоб тебе не оказаться вместе с ними. Я же, Ваня, себя с трудом удерживаю… муха-цокотуха. Ты меня еще благодарить должен, что я закрываю глаза на твои… на твои ошибки, сильно воняющие изменой и антисоветским гноем.
– А я тебе, Макар, как тогда сказал, так и сейчас отвечу: меня ты на понт не возьмешь. Дрожать от твоих угроз не буду.
Чекист придвинул к Прищепе коробку «Казбека».
– Кури, Ваня. Говорят, сам Сталин набивает трубку табаком из этих папирос.
– Врут. Сталин набивает «Герцеговиной Флор», – продемонстрировал осведомленность Прищепа. – А у меня свои, попроще. – Из кармана милицейских галифе он вынул пачку дешевых папирос «Наша марка». – На мою зарплату не пошикуешь.
С минуту они молча затягивались и пускали дым.
– Раз уж ты сам ко мне пришел, – заговорил Старухин. – Оперативную разработку белогвардейских недобитков, окопавшихся в районе, ты вел?
– Я.
– Фамилию Векшин помнишь? Кассир земельного отдела в райисполкоме.
– Векшин? – Прищепа сморщил лоб. – Был у меня такой. На что он тебе?
– Дай на него вводную.
– Сходи в картотеку, возьми папку, там все есть.
– Зачем мне куда-то идти, если ты сидишь здесь? Валяй, Прищепа, не курвись.
– Тогда баш на баш. Скажи, зачем он тебе понадобился. Тоже к кулацкой организации пришьешь?
– Пока что твой Векшин не пришей кобыле хвост, – ухмыльнулся Старухин. – Фигурирует в протоколе допроса одного школяра, троцкиста-диверсанта. Вот и хочу знать, что он такое.
– Векшин Петр Иванович, – после короткого раздумья выложил Прищепа. – Бывший прапорщик царской армии. Воевал на германской, был ранен. Служил в правительстве Колчака мелким чиновником. После разгрома колчаковцев отсидел два года в томской тюрьме. Жил на Алтае, работал землеустроителем. В начале тридцатых перебрался в Муром. Женат на дочери пароходовладельца, детей нет. Работал в музтеатре, потом в клубе железнодорожников на Казанке, вел хоровые занятия. В прошлом году устроился в райзо кассиром. Ходит в Николо-Набережную церковь, руководит там хором.
– Нарочно не придумаешь. – Старухин щелкнул пальцами. – У тебя отличная память, Иван Созоныч! Лучше всякой картотеки.
– Не жалуюсь. Так ты решил, что хватит с этого белогвардейца тихой, спокойной жизни?
– А это, Ваня, не я решил. Это советская власть решила. А у Векшина твоего фарт не сложился. – Старухин с наслаждением потянулся и широко, всласть, зевнул. – Ну все, Прищепа, я тебя не держу. Арестантов твоих… как их там… Боровкова и Каныгина мы у вас заберем. А ты свободен… пока.
– Как был ты вором, Макар, так им и остался, – сказал на прощанье милиционер.
У двери он обернулся. В ответ на его острый, как булавка, пригвождающий взор Старухин насмешливо осклабился.
* * *
– Разрешите, товарищ Кольцов? – с порога громыхнул старший оперуполномоченный Старухин, уже ворвавшись в кабинет начальства.
– Ну что у тебя? – Младший лейтенант кинул на него взгляд недопроснувшейся совы, помешивая ложечкой крепкий чай в стакане.
– Кой-какая наработка по давешнему оперативному совещанию, – бодро доложил Старухин. – Покопался в делах, нащупал кончик веревочки, за который можно вытянуть церковно-фашистское подполье в городе.
– Ну-ка, – заинтересовался Кольцов, отхлебывая чай. – С этими попами одна морока. С одним-единственным два месяца возимся, а толку, холера, ноль. Облегчишь мне эту головную боль, Макар, премирую тебя путевкой в санаторий на море. После того как закончим с массовой операцией.
– По всему выходит, рано нам списывать со счетов связь молодежно-троцкистской группы Бороздина с церковниками. Тут у товарища Кострынина ошибочка нарисовалась.
– Ты, Макар, наглей, да все ж меру знай, – предупредил Кольцов. Он подцепил ложкой дольку лимона и стал, морщась, обсасывать ее. – Кострынин свое мнение, оно же приказ для нас с тобой, не с кондачка высказал. Ему это мнение сверху тоже в приказном порядке спустили. Сказано же: попов тащить по фашистской линии, а не по троцкистской.
– Против фактов не попрешь, – оскалился в усмешке Старухин и положил перед начальником лист с машинописью. – Извлечение из допроса Фомичева, члена группы Бороздина. Молокососы болтали про экспроприацию кассы райзо. Способствовать им в грабеже должен был кассир Векшин. А вот сводка на Векшина из нашей картотеки. – Под руки Кольцову лег еще один лист.
Пока начальник райотдела бегло знакомился с материалами, Старухин продолжал развивать мысль:
– Из допроса информатора по делу попа Аристархова выяснилась также интересная загогулина. У группы Бороздина был прямой выход на незарегистрированного в комиссии культов попа Доброславского. Сам Бороздин приходил к нему на квартиру, где подвергался идеологической обработке со стороны попа, получал литературу и указания. Доброславский – старая непримиримая контра с большим опытом. В двадцатых годах сидел в Соловецком лагере за антисоветскую деятельность. Два его сына были царские офицеры, один участвовал в муромском белогвардейском мятеже.
– Так-так-так. Недурно, холера! – воодушевившись, Кольцов забарабанил пальцами по столу. – Боевая диверсионная группа, созданная церковниками с повстанческими целями из троцкистской по духу молодежи. Как они дружно спелись, а!
– Я тут набросал список, кого нужно арестовать в первую голову. – Еще один лист бумаги перешел к Кольцову. – Попа и дьякона Николо-Набережной церкви, несколько монашек, которые ходят туда и поют в хоре. Второго попа, который там служит, благочинного Гладилина, пока, думаю, не трогать. При нем будет работать наш информатор. Накопим больше сведений, тогда возьмем.
– Прихвати кого-нибудь из Благовещенской церкви. – Начальник РО оставил пометку в конце списка. – Там теперь главное поповское гнездо города. Начнем прополку с мелких сошек – пономарей, дьячков или лучше баб-свечниц, они болтливые. Сделать их дятлами, и на основании их показаний двигаться дальше. А ты, Макар, молодец. Голова! Не зря за тобой в двадцать пятом гонялась вся районная милиция, поймать не могли.
– Кто старое помянет, тому глаз вон, – ухмыльнулся Старухин.
– Если я забуду твое старое, Макар, мне оба моих глаза вышибут. И не только твое, у всех у вас, гавриков, свое старое имеется.
– И у вас, товарищ начальник? – лучезарно, насколько умел, улыбнулся Старухин.
– Не хами, бандитская рожа, – пожурил его Кольцов. – Я с тобой серьезно разговариваю, Макар. Корни всей вражьей агентуры и контрреволюции, с которой мы боремся, они все, холера, в старом. Ты это помни. В том старом мире, который мы в нашей стране в семнадцатом году разрушили до основанья… Но вокруг СССР этот старый мир еще бушует. Еще дергается, как издыхающий зверь, и помирать ему вовсе не хочется.
– Я для вас, товарищ младший лейтенант, еще кое-что припас. Как раз по части старого… От того же информатора из церковников поступили сведения, что в нашем отделе работает крыса. Предатель и шпион.
Кольцов одним глотком влил в себя остывший чай и, поперхнувшись, закашлял. На тотчас побагровевшем лице отразилось недовольное изумление.
– А твой информатор, часом, не обнаглел, а? У меня в отделе все сотрудники проверенные, до исподнего изученные. Клеветы я, Макар, не потерплю, ты меня знаешь.
– А под исподним всех проверяли? Информатор не врет. Я вижу, когда мне врут, а когда нет. Но он сам мало что знает. Вот тут часть допроса насчет того, что он слышал от попа Аристархова о нашей крысе.
Кольцов нетерпеливо схватил бумагу и уткнулся в нее с видом раздраженного сварливца, готового выплеснуть в пространство поток возмущенного брюзжания. Но по мере чтения гнев сменялся глубокой задумчивостью.
– Ни у кого из сотрудников отдела в анкете таких данных нет. Мне неизвестно, чтобы кто-то из них… из вас… воевал на стороне белых… да еще золотопогонником, из офицерья. Холера! Ты прав, Макар. Раз он скрыл свою настоящую биографию, значит, работает не на нас.
– Внедрился по заданию еще во время Гражданской войны. Но в органы устроился не сразу. Сперва запутал и подчистил следы, чтобы ни при каких чистках рядов не вызвать подозрение.
– Ай-яй-яй, – лихорадочно соображал Кольцов, расслабляя воротник гимнастерки. – Как же это мы прохлопали такого зверя, а?
– Шпионы есть в каждом уважающем себя подразделении УГБ НКВД, – утешил его Старухин. – Сами знаете – до самого верха. Странно было бы наоборот – если б лазутчика у нас не оказалось.
– На кого думаешь? – Начальник РО принял деловито-озабоченный вид.
– Соображения имеются, – туманно выразился Старухин. – Но показывать пальцем пока не хочу. Надо присмотреться, понаблюдать.
– Опять прав, – кивнул Кольцов. – Тень на своих товарищей… не наш метод. Попа Аристархова допросил про беспризорника? Надо найти мальчишку. Холера! Какой-то малолетний бандюк знает всех чекистов города как свои пять пальцев. Это куда годится, а?
– Допросил. Этот поп скорее язык себе откусит, чем что-нибудь по делу скажет. Говорит, беспризорников в городе много, а такого не помнит.
– Значит, половим рыбку неводом. Надо поднять милицию на облаву беспризорников. Перетряхнем весь город. А пока отправлю запросы в центр на всех сотрудников…
– И на меня?!
– И на тебя. Вдруг ты бандитом был для маскировки, а? – Кольцов усмехнулся. – Ладно, Макар. Иди работай. Да помалкивай. О предателе в отделе – никому даже намеком.
– Ясно, гражданин начальник.
Старухин дурашливо приложил руку к отсутствующей на голове фуражке.
* * *
Из протокола допроса арестованного Векшина П.И.
«…Вопрос: По какой причине уволились из клуба железнодорожников имени Ленина?
Ответ: Я не увольнялся. Меня выгнали за отказ разучивать с детьми советские песни.
В.: Почему отказывались?
О.: Под советские песни нельзя выработать голос, под них только маршировать.
В.: Свидетельскими показаниями вы изобличаетесь в том, что проводили систематическую антисоветскую агитацию, клеветали на советскую власть и Конституцию. Свидетель Поляков показал: “Гр. Векшин ярый приверженец церкви, озлоблен против советской власти. При перебоях с выдачей зарплаты в райзо Векшин на вопрос сотрудников, когда будут выдавать деньги, издевательски ответил: когда советская власть изволит. О Конституции говорил, что это обман народа”. Признаете свою вину?
О.: Вину свою ни в чем не признаю. Говорил все, как есть. Признаю, что так говорил.
В.: Расскажите о своих связях в церковной среде. С кем из церковников г. Мурома вы знакомы и встречаетесь?
О.: Знаком с церковниками Николо-Набережной церкви, общался с ними только во время церковных служб, когда руководил хором.
В.: Назовите всех.
О.: Игумен Феодорит Кудрявов, благочинный Иоанн Гладилин. Фамилии дьяконов мне неизвестны.
В.: Расскажите о вашей связи с попом Доброславским.
О.: Я знаком с Доброславским с того времени, когда поселился в Муроме. На империалистической войне я воевал в одном полку с его сыном, царским офицером, вместе лежали в госпитале в 1916 году, он умер от ран.
В.: Какие задания вы получали от названных церковников по проведению антисоветской деятельности?
О.: Никаких заданий по антисоветской деятельности я ни от кого не получал.
В.: Вы даете ложные показания. Вам предъявляется обвинение в том, что вы состоите участником церковно-фашистской диверсионно-повстанческой организации, созданной с целью обработки населения г. Мурома в антисоветском духе, вербовки новых членов организации для совершения диверсий, террористических актов на предприятиях промышленности и против руководящих работников г. Мурома, а также для подготовки восстания в тылу в случае войны СССР против буржуазно-фашистских стран. Следствие требует от вас достоверных показаний о вашей контрреволюционной деятельности.
О.: Я не признаю обвинения. Участником церковно-фашистской диверсионно-повстанческой организации я не являюсь и ничего о ней не знаю, контрреволюционной деятельностью не занимался.
В.: Вы намеренно скрываете факты. Следствием установлено, что вместе с попом Доброславским вы организовали антисоветски настроенную боевую группу молодежи школьного возраста для проведения диверсий и террора, обеспечивали ее членов литературой и идеологией. Под видом грабежа кассы райзо вы планировали снабжение боевой группы необходимыми финансовыми средствами. Отвечайте правдиво, без утайки.
О.: Это какая-то ошибка следствия. Организовать с попом Доброславским боевую группу молодежи я не мог и об ограблении кассы райзо ничего не знаю…
Допрос провел старший оперуполномоченный
Муромского РО НКВД Старухин.
2 августа 1937 г.»
16
Полуторка подкатила к торцу больничного здания и затормозила у неприметной двери с надписью «Склад». Перед входом на вынесенном табурете сидел, сгорбясь, человек в не слишком белом халате. Он тщательно загасил недокуренную папиросу о ножку табурета, положил окурок в карман халата и быстро направился к водительской дверце кабины.
– Морозов! Где тебя носит? У меня рабочий день давно кончился!
– Не кипятись, Сан Саныч.
– Давай шибче!
Николай невозмутимо спрыгнул наземь и двинулся открывать задний борт машины для разгрузки. Из двери склада появился, зевая во весь рот и потягиваясь, подсобный рабочий. Вдвоем они стали снимать с кузова деревянные ящики и перетаскивать в помещение. Заместитель главврача, он же заведующий складом медикаментов тубдиспансера, с накладной в руках, которую отдал ему Морозов, ходил за ними по пятам: проверял маркировку ящиков и распоряжался, куда что ставить.
– Ты, Сан Саныч, не пыхти так яростно. Я не виноват, – принялся объяснять Морозов. – Милиция в городе облаву проводит. Меня два раза в объезд направляли.
– Бандитов, что ли, ловят? Опять магазин ограбили?
– Да кто их знает, они ж не скажут. Про ограбление не слыхал. Может, беспризорников или деревенских беспаспортных снова гоняют.
Последний ящик был отгружен и перенесен в хранилище. Завскладом запер дверь на висячий замок.
– Слушай, Морозов, там какая-то пригожая комсомолка тебя часа два уже дожидается, – вспомнил Сан Саныч, сменив гнев на милость. – У главного входа посмотри, может, еще не ушла. Ты что, свидание ей тут назначил? Девчонка грустная, развесели ее.
– Не, Сан Саныч, комсомолки не про мою честь, – крикнул Морозов, залезая в кабину. Он был удивлен и терялся в догадках, кто это мог быть.
Десять минут спустя, загнав машину в гараж, он скорым шагом подошел к крыльцу центрального входа больницы. Несколько опешил, увидев девушку в темном платье и вязаной кофте, на которой в самом деле алел комсомольский значок. Но виду не подал.
– Что вы здесь делаете? – хмуро спросил парень.
– Здравствуйте, Николай! – Она порывисто шагнула навстречу, но тут же сдержала себя. Остановилась в растерянности, теребя шейный платок. – Я к вам.
– Я понял, что ко мне. – Глядя на нее в упор, он подумал, что Сан Саныч ошибся: девушка была не грустна, а глубоко встревожена. В настороженном выражении лица таился страх. Кто-то очень сильно напугал ее. – Что вам нужно, Алевтина Савельевна?
Он был нелюбезен. С учительницей карабановской школы Подозеровой Николай сталкивался пару раз в прошлом году. Оба раза недолгое общение с ней было пренеприятным. Осенью, забирая из школы документы на младшего брата, он получил от вздорной комсомолки желчный отзыв о способностях Севки к учению и его неподдающейся идейно-трудовому воспитанию натуре. А заодно обо всем клане братьев Морозовых – кулацких отпрысков, чуждых советскому строю.
– Я хочу поговорить с вами… Мне очень-очень нужно с вами поговорить!
Заметив в ее глазах чуть ли не мольбу, он на миг остолбенел. Затем мимолетное чувство тревоги заставило его взять учительницу за локоть и повести по дорожке в больничный парк. Они углубились в зеленые насаждения на сотню метров от здания диспансера. Поднявшийся ветер бросал им под ноги редкие побуревшие, скукоженные листья, предвестники близкой осени.
– Вы знаете об арестах в селе? – дрогнувшим голосом заговорила Алевтина Савельевна. Само это слово «аресты», казалось, внушало ей страх: она нервно обернулась, точно кто-то мог идти за ними по пятам и подслушивать.
– Знаю. Это уже давно не новость, – сухо ответил Морозов.
Повторный арест Степана Зимина, родственника по матери, мало сказать взволновал его. Лютая несправедливость к человеку, уже настрадавшемуся ни за что в ссылке и лагере, а теперь, словно вдогонку, обвиненному в убийстве, Николая потрясла и возмутила.
– И про аресты в школе знаете?
– Нет. Про это еще не знаю. – Он пытался сохранять спокойствие. – Кого на этот раз?
– Сергея Петровича, – выдохнула Подозерова. – Директора. И Верещаку, учителя по географии. И еще четверых учителей из деревень. Из Остапова, из Липок, из Никулина… Они… Их… Их всех подозревают в подготовке восстания против власти.
Она рывком зажала рот ладонью, будто хотела заставить себя молчать, не произносить страшных и нелепых слов. Два карих глаза из-под ровной, почти детской челки смотрели на Морозова в испуге и замешательстве.
– Как это может быть? – Точно за соломинку хваталась: хотела, чтобы ей разъяснили, что все это чушь, глупость, несуразица и дурная ошибка.
– Кто вам про это сказал? – резко спросил Морозов, сам ничего не понимавший. – Откуда известно, в чем их обвиняют?
– Меня вызывали к следователю, в НКВД. Сегодня утром. Я… как свидетель. Сергей Петрович пустил меня к себе в дом жить, когда… Когда меня выселили по приказу Рукосуева.
– Знаю, слышал. Что же вы рассказывали в НКВД как свидетель? – поинтересовался Морозов с долей язвительности, которую не сумел удержать.
– Я ничего не рассказывала… – Карие глаза вмиг набухли слезами. – Сергей Петрович очень хороший человек! Я знаю… он был добр ко мне. Я… я полюбила его! – отчаянно призналась она, вытолкнув эти слова из сердца. – Но я для него только глупая несчастная учительница, он даже не смотрел на меня…
– О чем вас спрашивали в НКВД? – Морозов встряхнул ее за плечи.
– Не спрашивали, – замотала она головой. – У следователя все уже было на бумаге. Он только потребовал, чтобы я подписала.
– Что там было?
– Я не читала… – Подозерова расплакалась. – Он сам мне рассказал. Он сказал… сказал, что Сергей Петрович – руководитель эсеро-кулацкой банды, которая готовила восстание в районе. И те, которых раньше арестовали, тоже из этой банды. Они убили Рукосуева. Сергей Петрович ругался с ним из-за меня, в селе об этом все знают… И драку в клубе в начале лета они устроили… как репетицию восстания. А Сергей Петрович в церковь ходил, с попами якшался… И в доме у него нашли берданку… а еще пистолет. Он же в Гражданскую с белыми воева-ал, – в голос проревела учительница. – А у Верещаки шпа-агу нашли.
– Какую шпагу?
– Стари-инную. С которой дворяне и помещики ходили. Он ею… готовил покуше-ение…
Морозов оглядывался: не затесался ли в вечернее время в парке какой-нибудь чахоточник или случайный любитель лазать через заборы и гулять на закрытой территории. Слишком громко, навзрыд голосила Алевтина Савельевна. Он снова подхватил ее под руку и потащил дальше вглубь парка.
– Вы подписали? – Он крепко сжал ее локоть.
Вскрикнув от боли, она умерила рыдания и судорожно закивала.
– Этот следователь… наговорил столько страшного. Так жутко было его слушать… Он сказал, они ждали войну и готовили помощь врагу… что они ненавидят советскую власть и хотят ее свергнуть… и готовили диверсии…
Морозов отпустил ее и встал как вкопанный.
– Ты что, поверила этому бреду, Алевтина Савельевна? Ты же оговор на них подписала! Не свидетель ты, а лжесвидетель. Что ж твоя любовь девичья? От чекистского вранья испарилась?
Подозерова всхлипнула и низко опустила голову.
– Да я и сама… теперь понимаю. Сергей Петрович не такой. Он не мог!
Морозов взял себя в руки. Учительница была ему неприятна до отвращения, но винить ее в чем-то было глупо. Особенно в дурости и трусости. Или в низости. Кусая губы, он досчитал в уме до десяти. Она просто несчастная деваха, каких на свете много. Комсомольский значок на груди ума и счастья, тем паче совести не прибавляет.
– А от меня-то вы чего хотите?
– Мне нельзя было все это вам говорить, я дала в НКВД подписку о неразглашении, но… Вы же пишете статьи в газету? – Виноватый взор карих глаз пополнился искрой отчаянной надежды. – Напишите про это!
– Про что? – изумился Морозов.
– Про перегибы! – секунду подумав, выпалила учительница. – Это же перегибы! Лес рубят – щепки летят. Врагов искореняют, и невиновные под руку попадают. Сам Сталин писал в газетах про перегибы на местах… Ну статья такая была, когда колхозы создавали, «Головокружение от успехов»! Это же ошибка, Сергей Петрович никакой не бандит и не диверсант. И Верещака тоже. У Верещаки горб на спине и зрение слабое, очки с толстыми стеклами, он их разбить боится, потому что других не достанешь, какой из него повстанец? Вы напишите статью! Ее все прочитают и там разберутся, что арестовали не тех…
Морозов с жалостью и оторопью смотрел на нее, из несчастной вдруг ставшую вдохновенной. Как на блаженную дурочку. Даже объяснять ничего не хотелось.
– А почему вы сами, Алевтина Савельевна, не напишете про это? Вы комсомолка, учительница, общественная активистка. Вы озабочены происходящим на ваших глазах чудовищным недоразумением и сигнализируете через газету в райком, обком и профсоюз, – четко разделяя слова, втолковывал он ей. – Зачем вы пришли с вашей просьбой ко мне, кулацкому последышу, человеку с нечистым происхождением, которого вы в любой другой ситуации записали бы во враги?
– Но я… – Подозерова снова опустила голову и чуть слышно проговорила: – Мне не поверят. Скажут, что я выгораживаю сожителя. Следователь мне так и сказал: если не подпишу, меня тоже арестуют… как сожительницу и сообщницу. А вы… вы умеете. Я читала в газете ваши статьи, Николай…
– Алексеевич, – подсказал Морозов. – Даже если б я согласился на вашу просьбу, такой материал все равно не напечатают.
– Почему?
Он не ответил.
– Так вы не напишете? – сделала она последнюю попытку вымолить у него несуразное.
Снова не дождавшись ответа, Алевтина Савельевна понуро побрела по дорожке, испятнанной жухлыми листьями, в обратную сторону.
17
Иногда на Морозова накатывало злое, беспокойное желание забрать свои документы из института журналистики и навсегда расстаться с мечтой запечатлевать мимолетные картинки жизни в летучих газетных очерках. Сложить все свои словесные наброски, чернильные зарисовки, литературные эскизы в портфель для хождения в редакцию и закинуть с глаз долой на чердак – до иных времен. В том срезе жизни, который зовется миром журналистики, где обитают мастера и подмастерья пишущих машинок, редакторы газет, репортеры и фотокоры, Морозов ощущал себя вороной-альбиносом, да еще и с подбитым крылом. Он видел своих однокашников-заочников на экзаменационной сессии в Горьком, за две недели выпил с ними не одну бутылку водки и портвейна. Половина из них была взрослыми, устроенными в жизни мужиками за тридцать, но ни с кого из них он не хотел набросать даже скупой, в несколько строчек, портрет. Они были безликие, бесцветные, гладко обтесанные диалектическим материализмом и генеральной линией партии, без единой шероховатости, точно деревянные болванки, из которых делают одинаковые игрушки. Время от времени он общался с двумя штатными репортерами «Муромского рабочего», которым изредка перепадало от главреда счастье писать для газеты передовицу. Они черкали для главного печатного органа района статейки об ударниках производства, о партийных собраниях, о колхозных надоях и посевах, о троцкистах-вредителях в животноводстве, о попах, жирующих на кровные копейки трудящихся, и о прочих врагах, происками которых полнилась советская жизнь.
Морозову не хотелось вживаться в этот серый, плоский мир, расцвеченный лишь ненатуральной бодростью, с какой советскому журналисту полагалось писать о героических экспедициях летчиков и полярников, парадах физкультурников и стахановском энтузиазме рабочих масс под марши Дунаевского. И сдобренный ненатуральной же ненавистью, какую советскому журналисту по штатному расписанию полагалось изливать на страницах газет в адрес врагов народа, троцкистских гиен и шакалов мирового капитализма, требуя для них смерти и ничего, кроме смерти. Своей невеселой и небодрой, чаще всего хмурой физиономией Морозов вносил ноту диссонанса в круг своих газетных знакомых, зарабатывавших себе на хлеб с колбасой враньем о жизни, которая с каждым днем становится лучше и веселей. И сам же ощущал, как его печально волочащееся по земле сломанное белое воронье крыло в шумливой журналистской стае становится явлением совершенно неприличным, как неприличен гроб с покойником на свадьбе.
Но этой ночью Николай Морозов впервые за долгое время почувствовал счастье. Горькое и негромкое, выстраданное, в душевной муке рожденное счастье говорить хмурую правду во времена бодрого вранья. Остроты и терпкости этому счастью придавало осознание, что оно могло стать последним в его судьбе. Более того, оно могло поставить точку на всем, включая саму его жизнь. Но единожды испытанное, оно того стоило.
– Ты посоветовалась со своим Серафимом?
Всего несколько дней, как Женя вышла из отпуска, вернулась в Муром после странного паломничества в деревню, где жили давно изгнанные из закрытого Дивеевского монастыря монахини. Он узнал в диспансере, когда у нее дежурство, и подъехал на своей полуторке к дому Шмитов за пару часов до того. Шмит-отец должен был быть на работе, и он был на работе. Явление Николая девушку обрадовало и смутило. Она усадила его пить иван-чай со сливами.
– Да. Посоветовалась, – медленно произнесла Женя.
– Что он тебе сказал? – Морозову не терпелось узнать, что и, главное, каким способом мог насоветовать юной девушке давно померший лесной отшельник, которого он видел в детстве на картинке – согнутый в три погибели старик, кормящий хлебом с руки медведя.
– Надо подождать. Не торопиться. Скоро все само устроится, – склонив голову вбок и задумавшись, ответила она.
Морозов собрал брови у переносицы.
– Как ты с ним разговаривала?
Он знал, что Женя лукавить неспособна. Но подозревал, что монашки со своим Серафимом могли заморочить ее.
– Молилась перед его образом.
– И что, слышала его голос? – допытывался парень.
– Нет, – улыбнулась Женя. – Но я поняла, что он хотел мне сказать.
С минуту, глотая чай и прикусывая сливы, он смотрел на нее молча.
– Ты стала какая-то другая, – подытожил Николай свое любование ею. – Совсем какая-то неземная стала. Ты же не пойдешь в монашки, как моя сестра? – вдруг обеспокоился он.
– Нина приняла тайный постриг? – Женя широко раскрыла глаза.
– Нет. Вроде нет. Но все грозится, что скоро уйдет к ним.
Морозов допил чай и тяжко вздохнул.
– Может, и вправду так лучше. Обождать, и тогда само все устроится. Все станет ясно и совершенно безвыходно для нас.
Он протянул ей извлеченный из кармана листок, сложенный вчетверо. Женя развернула и прочла вслух: «Главному редактору газеты “Правда”…» Взглянула на него вопросительно.
– Читай дальше. Хочу, чтобы ты знала, если меня арестуют, – за что. За это письмо. И чтобы ты, если меня арестуют, не ходила ко мне в тюрьму. Чтобы никто никогда не узнал, что ты моя невеста.









































