Читать книгу "Охота на Церковь"
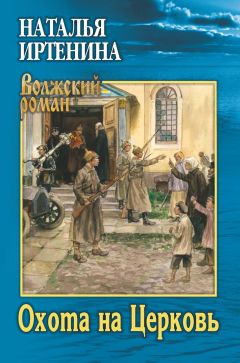
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
На постели с простыней, подушкой и одеялом Федька не спал давным-давно и сперва испугался – куда попал? Одеяло было даже не одно, их тяжесть придавливала его к кровати, но Федьку все равно бил озноб. Он пошарил глазами вокруг, рассмотрел полутемную комнатку, занавешенное окно и зажженную керосиновую лампу.
Из груди мальчишки вырвался хриплый кашель. В комнате тотчас объявился давешний милиционер в выпущенной исподней рубахе. Обтер Федьке лоб влажной холодной тряпицей.
– Ну и задал ты мне дела, бандит. Возись тут с тобой. Тебя звать-то хоть как?
– Федькой. Что же не сдал меня, дядька? – слабым голосом вопросил шпанец.
– У меня останешься жить. Буду из тебя человека делать. Эк тебя хворь трясет… Спирт пробовал пить?
– Спирт? – Мальчишка вытаращился. – Да ты что, дядька…
– Правильно. Лучше эту отраву и не пробовать.
Прищепа вышел из комнаты, а вернулся с бутылью в руках. Отлил немного в кружку, скинул с Федьки одеяла, плеснул на ладонь и принялся растирать хилую мальчишью грудь. Шпанец с интересом втягивал носом острый, незнакомый запах. За отцом в комнатку притопал кудрявый малец-шестилеток в трусах и рубашонке. Копая в носу, смотрел на Федьку.
– Он будет с нами жить?
– Иди спать, – шуганул его Прищепа.
Малыш исчез.
– А где ваша мамка? – спросил Федька.
– В ночную его мамка работает.
После размышлений шпанец согласился:
– Ладно, тебе разрешаю, дядька. Делай из меня человека. Это же ты прошлой осенью мою мамку не стал арестовывать. А она в сарае повесилась. Теперь ты меня корми.
Федька, нанюхавшись спирта, блаженно улыбался.
– Погоди-ка. – Прищепа удивился. – Так это твоя мать сорвала со стены в сельсовете портреты вождей и потоптала?.. и председателя палкой побила?
– Ага, моя!
Иван Созонович вспомнил, как пришел в ту деревенскую избу, на которую ему указали с суровым приговором: «Вот тут она живет, Настька-единоличница. Муж ейный налоги не выплатил, на тот свет удрал от советской власти. И сама она буйная». В избе с матерью были четверо мелких, старшему чуть за десять. Ложками выбирали из общей миски жидкую коричневую болтушку, ныли и просили хлебца. «Черти, никак не помирают, – ругалась на них баба с высохшим лицом и темными, потухшими глазами. – Ну давай, арестовывай, раз пришел. Пускай их советская власть сама кормит».
Дело на нее заводить не стал. А через два месяца, когда баба удавилась, история всплыла. Из сельсовета в райотдел пришел донос, что Прищепа от бабы получил взятку. Из НКВД его тогда по-тихому списали.
Он перевернул мальчишку на живот и продолжил растирание на костлявой спине.
– Ну, сказал «а», надо говорить и «б», – подытожил Прищепа свои невеселые мысли.
– Дядька, а война будет? – Федька думал о чем-то своем. – Правда, что половина нашей армии сразу в плен сдастся?
– С чего это ты взял?
– Слышал.
Прищепа хотел было ответить, но слова застряли на языке. Спирта в кружке больше не осталось. Он закутал мальчишку в одеяла и велел спать. Самому Ивану Созоновичу ложиться не хотелось. Разговор и воспоминания разбередили душу. Поколебавшись, он налил в кружку до половины спирт и разбавил остывшей водой из чайника. Быстро выпил. Сел на кровать в ногах у приемыша, окликнул. Тот не отозвался, сонно сопел.
– Война, Федька, будет. – Спирт быстро ударил в голову, слова сами собой отцепились от языка и покатились по хмельной тропке. – Завоюют нас немцы, как пить дать. Я знаю, видел, как они в восемнадцатом году перли по нашим степям. До Волги, а может, до Урала дойдут. Не станет русский мужик с ними драться. Комсомольцы желторотые станут, да они немцев не проломят, не та стать. Тут не «Капитал» нужен в голове… не передовицы из «Правды», а… ну, не знаю что… Не могу, Федька, словами это сказать, неученый я… Вот мужиков в селах поарестовывали за что? За это самое, чего я сказать не умею… За то, что русские, а не советские. А у нас, Федька, русский не в почете, прямо скажем. Русский мужик, он, вишь, отсталый, счастья своего не видит в советской жизни… Так что вот, Федька, за «Капитал» наш мужик воевать не будет. А он у нас, в Советском государстве, пока еще главная сила, мужик-то русский. Вот и ломают его… доламывают… в дугу гнут… Так я говорю, до Урала немцы дойдут. А мужики верят, что им тогда освобождение от колхозной неволи будет. От нового крепостного права. Да не будет им освобождения. Немцы народу на шею усядутся вместо нынешней власти… Вот тогда колбасников и поворотят от Урала назад. Думаешь, как, Федька? Да опять же на горбу у русского мужика советская власть немцев погонит…
Мальчишка перевернулся на другой бок, и Прищепа прервал разговор с самим собой. Прислушался к дыханию спящего.
– Только меня здесь уже не будет, – снова забормотал он. – Возьму в охапку жену с детишками да по немецким тылам уйду туда… куда сейчас и смотреть запрещено. Чтоб даже думать, будто там живется лучше, чем у нас, ни-ни. Вражьи мысли, Федька, измена Родине… Жена у меня по-немецки здорово чешет. Бабка у нее из немцев, которых еще царица Катерина у нас в степях поселила. Я ей, жене-то, запретил на людях шпрехать и бабку поминать. А то еще немецкую шпионку из нее сделают… Ну вот. У нее, брат, немецкий, а я себе учебник французского раздобыл. Учу теперь, по ночам долблю, старый дятел. Пригодится наука. Я ж в Гражданскую войну писарем служил, бумажки сам сочинял вместо начальства. А оно, начальство, иной раз и вовсе полуграмотное бывало. Ну да не о том речь… Не буду я, Федька, тут жить, и точка. Опротивело все это, хоть в петлю лезь, как твоя матка. Да дети у меня малы́е… и Анюта моя, супруга. Поздняя у нас с ней любовь приключилась. Сам-то я из казаков, с Кубани. На германскую войну не попал, малолеткой был. А к красным попал, в писаря. Думал, за ними правда, за Советами. По глупости… После войны вернулся в станицу, а там… Кто в боях сгинул, кто с белыми ушел, кого красные расстреляли. Пошел в милицию служить. Сюда перевели…
Проснувшийся Федька лежал и слушал. «Чего это ты язык расплел, дядька? Думаешь, я малой и хворый, со мной можно? Ты, я гляжу, дядька хороший. Не курва, как эти ваши. С тобой можно жить… Не боись, я тебя тоже не сдам. А только никуда ты не уйдешь…» С этой мыслью он снова нырнул в сон.
22
После разоблачения шпиона Малютина дело о церковно-фашистской организации целиком упало на плечи сержанта Горшкова и тяжко придавило. В конце концов он возненавидел всех церковников. Они представлялись ему антиподами, недовымершими мамонтами, злобными марсианами из книжки буржуазного писателя Уэллса. Всеми своими нервными волокнами сержант ощущал их чужеродность, враждебность и лицемерную маскировку под лояльных граждан. Допросы казались излишней данью советской законности, напрасной тратой времени. Через несколько недель допросов большой партии арестованных Горшков пришел к мысли, что эту категорию следует сразу, не расходуя бумаги, чернил и следственных усилий, приговаривать к немедленному расстрелу.
Бумага все стерпит, но что-то он не доверял даже бумаге.
– Почему вы избрали знаменем борьбы с советской властью Бога, а не белых генералов эмиграции или изменника Троцкого?
– Потому что точно знаю, что миром управляет воля Божия, а не генералы и троцкие.
– А органами госбезопасности СССР, по-вашему, тоже управляет Бог?
– Органами безопасности управляет бес, который сидит в Кремле. А ему позволяет Господь Бог.
Как такое заносить в протокол? Попы не только не признают вину, но и глумятся над следствием.
– Считаю советскую власть наказанием Господним для нашего народа. Хотели свободы политической, а сами увязли в рабском поклонении идолам.
– Это каким идолам? Деревянным, что ли, с глазами?
– Идолы бывают разные. Были когда-то деревянные, а теперь такие, как сказал пролетарский писатель Горький: «Человек – это звучит гордо».
– Когда у вас делали обыск при аресте, вы заявили: «Напрасно ищете, писем от Троцкого у меня не найдете, я их все пожег в печке». Объясните следствию ваше заявление.
– Я сказал это в шутку, когда во время обыска досматривали мои церковные книги. Что еще в них могут искать с таким усердием люди, отказавшиеся от Христа, я не представляю.
Горшков ненавидел их за свое подорванное службой здоровье. Врач в больнице сказал, что у него маниакальное состояние психотического возбуждения. Он не мог спать, разрывало болью голову, ломило зубы. От расстройства нервов начались галлюцинации. Однажды на допросе примерещились черные клубы дыма в углу кабинета. В другой раз позади подследственного прошла тень в образе человека и исчезла в стене. Голос допрашиваемого двоился, словно кто-то невидимый диктовал попу, что говорить, а тот повторял.
Врач заверил, что это первая стадия безумия, и посоветовал уволиться из органов. Выписал порошок барбитала и бром. Без службы Горшков свою жизнь не представлял. А от лечения становилось только хуже. Снились кошмары, его тошнило, одолевала тревожность. Временами он начинал задыхаться. Сержант заподозрил врача во вредительстве, но сил заняться его разоблачением не было. Он выкинул порошки и бутылку с бромом, а лечиться стал проверенным народным средством – стаканом водки перед сном.
Но тревожность не проходила. Недовымершие марсиане, сменявшие один другого на допросах, мучили его своей бесконечной чередой, необъяснимостью и антинаучностью.
«В.: Признаете себя виновным?
О.: Я виновным себя признаю только в том, что среди населения проводил антисоветскую пропаганду, а именно: Бог есть, Он существует, и нам надо полагаться на него».
Почему они так упорно верят в это мифическое существо?! Сержант ставил опыт: каждому задавал прямой вопрос, подались ли они в церковники из идейных убеждений или материальных и политических выгод. Как и поп Аристархов полгода назад, все уверяли, что являются идейными религиозниками. Горшков не сомневался, что они лгут. Они даже не читали свои церковные книжки, где написано, как Христос разослал по миру воззвание: «Придите ко Мне, все трудящиеся и угнетенные, и Я освобожу вас от тяжкого ига эксплуататоров». Советская власть в семнадцатом году выкинула тот же лозунг, только другими словами! Но церковники не пошли служить советской народной власти.
Лгут на допросах трусы. Так учили в школе НКВД. Кто не боится, тот говорит правду или молчит. Но лгуны и трусы, когда их изобличают, должны вести себя иначе. Как бывшие партийные вожди на московских процессах, троцкистско-зиновьевские гиены, припертые к стенке. Под грузом доказательств они должны взапуски и наперегонки рассказывать о своей контрреволюционной деятельности и молить о пощаде. Почему же церковники не сознаются?
«В.: Когда вы начали бороться с советской властью?
О.: Я никогда не вел борьбу с советской властью, считаю это несовместимым с моими религиозными убеждениями.
В.: Вы лжете. В марте 1933 г. вас судили за контрреволюционную деятельность, значит, сама деятельность началась значительно раньше.
О.: Я не веду борьбу с советской властью, а судили меня в 1933 г. неправильно.
В.: Следствию известно, что после выхода из лагеря вы возобновили работу в контрреволюционной организации…»
Горшков вяло, с отвращением перебирал листы протоколов. Он был смертельно утомлен. Хотелось залезть под стол, спрятаться там от всех, скрючиться в позе эмбриона и заснуть – на сутки или трое. Ему казалось, что он попал на допросный конвейер. Только сменялись на многодневном допросе не следователи, а арестованные. Бородатые, волосатые, в рясах. Антиподы. Злобные марсианские мамонты.
«В.: Следствием установлено, что вы среди населения г. Мурома распространяли гнусную контрреволюционную клевету на советскую власть. 21 августа 1937 г. в Успенской церкви говорили присутствующим о репрессиях против духовенства в связи с предстоящими выборами в советы. Признаете вы это?
О.: Действительно, я говорил, что в городе начались аресты церковнослужителей, как в 1930 г. Этим я хотел предупредить, чтобы были осторожнее. Клевету на советскую власть я отрицаю. Я говорил лишь о репрессиях против духовенства и тяжелой жизни населения.
В.: Вы намерены дать откровенные показания по существу предъявленного вам обвинения в контрреволюционной агитации и выказывании повстанческих и террористических настроений?
О.: Нет, виновным себя не признаю. Я лишь говорил, что советская власть и коммунисты опять начали гонение на Церковь».
Если исключить из мотивации арестованных церковников Бога, то остается одно. Даже в тюрьме они еще надеются, что победят. Рассчитывают на скорое свержение советской власти в ходе восстания или при нападении врага извне.
«В.: Как вы относитесь к советской власти?
О.: Заявляю, что, по моим убеждениям, советская власть – явление временное и долго не просуществует».
Наглость попа, сказавшего это, настоятеля Благовещенской церкви Устюжина, повергла сержанта в некоторое замешательство. Горшков привык, что на допросах церковники держат себя смирно. Не возмущаются, не закатывают истерики, не нахальничают, как, бывает, делают бывшие члены партии, уличенные в троцкизме, пока их не вразумишь. Поп Устюжин единственный из арестованных муромских церковников не скрывал злобы к Советскому государству.
– Да, ваша мерзость запустения долго не продержится! – негодовал поп. – Вы строите химеру на песке и крови, а на таком фундаменте никакой дом и никакое государство стоять не будет. Бог сокрушит это ехиднино порождение, взыщет и с вас, и со всего народа, которого вы учите безбожию. Взыщет за все страдания безвинных, за кровь погубленных и убиенных без числа по вашей воле, за всех гонимых и умерщвленных вами служителей Христовых. За эти безумные бессудные расправы с теми, кто хранит веру вопреки вашему террору… Я уже проходил через чекистские застенки, поэтому не желаю затягивать вашу комедию с допросом. Пишите! Советский политический строй я никогда не принимал и не принимаю. В двадцатом году я ушел с мирской службы и принял сан, потому что мне претило дикое, невежественное советское богоборчество. Как священник я проповедовал с амвона, что коммунисты ущемляют права верующих и надо этому противодействовать. Когда я видел в храме детей, то старался привить им понятие о заповедях Божьих, чтобы уберечь их от большевистского растления…
Бумага все стерпит, но в обработанном виде признания попа выглядели не так вызывающе и нагло.
«Не желая затягивать следствие, признаюсь, что мои убеждения действительно контрреволюционные, и начиная с 1920 г. до дня моего ареста я вел борьбу с советской властью. Еще в 1920 г., будучи не согласен с советским строем, я бросил работу на социалистическом предприятии и ушел служить попом… Под видом диспутов и споров о религии я пропагандировал контрреволюционные мысли и клеветал на марксизм-ленинизм, доказывая несостоятельность этого учения. Среди своих сослуживцев-попов я вел контрреволюционную агитацию о том, что новая Конституция СССР – пустая формальность и обман. В частности, я клеветал, что никаких тайных демократических выборов в СССР нет, большевики сами себя уже назначили и выбрали. Кроме того, я старался вызвать в народе недовольство советской властью, клевеща, что она арестовывает невинных людей и скоро арестует поголовно все духовенство. Я говорил об этом своим сослуживцам-попам Азарову, Никольскому, Шустову и другим и предлагал им сушить сухари…»
Но даже этот поп, извергавший поток антисоветских речей, отказался признать, что церковное подполье готовило восстание в СССР.
– На что вы надеетесь, гражданин Устюжин? – со вздохом спросил Горшков напоследок. – На ваших приспешников и покровителей за границей?
– Исключительно на Господа Бога!
В этот миг, оторвав глаза от протокола, сержант увидел на столе черную дохлую ворону.
* * *
Завтра их всех увезут, и гора с плеч, думал Горшков, устало загребая ногами свежий снег вдоль улицы. По пути домой он зашел в магазин, взял бутылку водки.
Но прежде чем заваливаться спать, нужно было кое-что сделать. Он прошел мимо своей комнаты и постучал в соседскую. Открывшей старухе, бывшей купчихе, ничего объяснять не стал, молча отпихнул ее в сторону. Старуха была дремучей и набожной. Весь дом это знал и время от времени прозрачно намекал сержанту, что старорежимная коптелка – вредное для советского строя существо, зажившееся на свете. Горшков намеки пропускал мимо ушей, однако обыск в комнате у старухи на всякий случай однажды произвел, пока та ходила на базар. Взял тогда на заметку старую, темную икону с серебряным окладом в углу на полке.
Старуха вцепилась в него кулачками и, негодуя, заверещала, когда сержант снял с полки образ, намереваясь забрать. «Вор, вор!.. – с плачем голосила старая. – Святотатец, кощунник!..» Семенила за ним, пока он не оторвал ее от себя и не захлопнул дверь своей комнаты.
– Да отдам, отдам, – рыкнул он на старуху, чтобы не билась и не стенала под дверью.
Он установил икону стоймя на столе, а перед ней положил наган. Рядом поставил бутылку. Скинул шинель, сел и строго, по-чекистски, стал смотреть в темное от времени лицо Христа. Глаза в глаза.
Потом налил в стакан водки и выпил.
– Учтите, гражданин Христос, на меня эти штучки не действуют. Дохлые вороны… черный дым, привидения. Это просто галлюцинации. Я болен, но не могу взять больничный и дрыхнуть целыми днями… Потому что я чекист!..
Горшков навалился на стол, приблизил лицо к иконе и шепотом спросил:
– Почему они в тебя верят?
Он подождал, но ярый взор Христа остался безответен.
– Ты же расписная деревяшка, – в голос продолжил сержант. – Тебя нет. Так товарищ Сталин говорит. И товарищ Ярославский. Великий вождь революции Ленин отменил религию…
Горшков нахмурился. Нарисованный Христос слишком был похож на всех тех попов, что длинной чередой прошли перед ним за последние недели и отказывались сознаваться в преступлениях. От этого сходства и от того, что изображенный на иконе словно бы пошевелился, сдвинулся, раздвоившись в очертаниях, Горшкову опять стало тревожно.
– Докажи мне, что ты есть! – потребовал он, стукнув кулаком по столу. В голову пришла блестящая, как показалось сержанту, идея. – Хочешь, отпущу тебе одного попа? Вызову из камеры и выведу за ворота. Ты понимаешь, на какой риск я пойду из-за тебя? Баш на баш. Ты мне словечко или хоть что-нибудь! А я тебе попа… Забирай Кондакова, мне не жалко. А?
Сержант с недоверием всматривался в молчаливое, непроницаемое лицо Христа.
– Если считаешь, что у меня не получится, то зря. Не думай, что ты один такой… всемогущий, как они про тебя говорят. Мы тоже не пальцем деланы, кое-что можем…
Снова ничего не дождавшись, Горшков сложил ладони на револьвер, отяжелевшую голову уронил на руки и заснул беспокойным сном, в котором опять видел залитый кровью подвал и лежащего ничком, с простреленным затылком, отца-кулака.
* * *
Для этапирования из Мурома в Горький пяти десятков арестованных церковников во двор НКВД подогнали два грузовых ЗИСа. Бойцы внутренней охраны выстроились в оцепление с винтовками наперевес. В кузове каждой трехтонки с опущенным задним бортом стояли по двое конвойных. Они рывками поднимали арестантов в машину – работали споро, слаженно, без лишних движений, как силовые акробаты на арене. В один ЗИС грузили мужчин – попов, служек, церковных старост, в другой – женщин-церковниц и монашек. Кузов трехтонки мог вместить двадцать пять человек, но мужского пола в этапе было, разумеется, больше, и во втором ЗИСе попы оказались вперемежку с монашками.
– Пощщупаются напоследь, – гоготнул боец охраны из незадействованных в оцеплении, наблюдавший за погрузкой.
Спины охранников, слышавших его, затряслись от немого смеха.
– Балуй! – плюнул себе под ноги другой солдат, то ли укорив товарища, то ли согласившись.
– Отставить! – негромко скомандовал сержант Горшков, стоявший рядом.
Ему картина очищения города от поповщины виделась эпически, и не хотелось, чтобы набранные в охрану прямо от сохи деревенские лапти, курносые ваньки, превращали ее в балаган.
Но оказалось, что второй боец-молодец настроен куда серьезней.
– А вдруг Бог-то есть? А мы их того… – в сомнениях обронил он.
– Фамилия, солдат?! – резко потребовал Горшков.
– Рядовой Евсеичев! – вытянулся тот по струнке.
– Запомни, рядовой Евсеичев. Нету никакого Бога, – желчно проговорил сержант. – Я лично проверил. Чепуха это на постном масле. А антисоветская пропаганда про Бога – это уже не чепуха. Ясно тебе, Евсеичев?
– Так точно, товарищ сержант! – Голубые, как васильки, глаза бойца смотрели на него испуганно и вместе с тем преданно.
Горшков отвернулся. Погрузка заканчивалась, конвойные втянули в кузов последнюю монашку и закрывали борта ЗИСов.
– Все сорок восемь, товарищ Горшков, – подошел комендант.
– Почему сорок восемь? Должно быть сорок девять!
– Один ночью сбёг, сволочь.
– Как это сбёг?!
– Не волнуйтесь, товарищ сержант. На тот свет он сбёг. От нас только туда можно.
– Кто?
– Поп Кондаков. Легко отделался.
– Почему он?.. – Горшков ощутил смутное беспокойство. В памяти что-то неясно брезжило из прошедшей ночи, сбивало с толку.
– Да кто ж знает, – пожал плечами комендант. – Сам помер, мои его пальцем не трогали.
– Вообще-то хорошо, что мы их это… вычищаем, – не слишком уверенно произнес Евсеичев, притопывая ногами от мороза. – Война с фашистом начнется, эти попы у нас в тылу немецкий флаг подымут. А тыл нам нужен крепкий. Спаянный. Так, товарищ сержант?
Горшков с высоко поднятой головой смотрел вверх. Оттуда сыпали крупные, рыхлые хлопья снега. На белом облачном небе снег казался серым пеплом, который вздымало и несло ветром. Засыпало землю холодным, остывшим пеплом с неведомого сержанту Горшкову пожарища.









































