Читать книгу "Охота на Церковь"
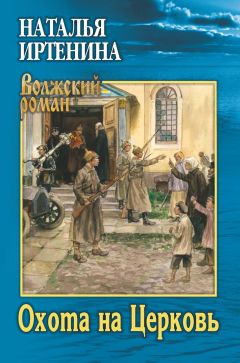
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Как же так, товарищ младший лейтенант? – подал голос Вощинин, всегда невпопад вылезавший со своими вопросами и сомнениями. – Сержант Баландин имел награды за раскрытые серьезные дела. И вдруг предатель…
– Враг хитер, прячется под маской верного ленинца и сталинца. Он может даже маскироваться под ударника производства и стахановца, прикинуться святее папы римского. Кому как не вам, товарищи чекисты, это знать. Баландин оказался врагом-двурушником, и, к нашему стыду, к моему лично, как начальника отдела, стыду, он не был вовремя разоблачен. Холера! И хорошо, что у него в конце концов сдали нервы, он начал пробалтываться, совершать промахи, и сам это понял. Иначе этот волк в овечьей шкуре натворил бы у нас много вреда. В последнее время Баландин проявлял явный оппортунизм в следственной работе. Ряд дел, которые он вел, сводил на нет. Даже пытался убеждать меня, что на допросах не следует требовать от врагов признания.
– Ну ровно кисейная барышня, – фыркнул старший оперуполномоченный Старухин, разглядывая на потолке завитки облупившейся штукатурки.
– А Кондратьев, Прохор Никитич? – Сержант Горшков озабоченно хмурился.
– Кондратьев был не нашего поля ягода, но по другой причине. Жидковат оказался парень, без стального чекистского стержня. Не оправдал доверия, хоть и казался перспективным молодым работником. За истерический припадок мы его, конечно, осуждать не будем, но такие люди нам в органах не нужны, сами понимаете… – Кольцов сожалеюще развел руками. – Так, с первым пунктом повестки закончили. Теперь второй. Моим новым заместителем назначен сержант Малютин. Вы все хорошо его знаете как опытного сотрудника с отличными показателями работы. Товарищ Малютин предан идеалам нашей борьбы, это верный боец армии чекистов во главе с Железным наркомом товарищем Ежовым. Верю, что Всеволод Владимирович не подведет меня и весь наш отдел и мы будем наращивать темпы борьбы с врагами. Товарищ Малютин, тебе слово.
– Поздравляю, товарищ Малютин, – половиной рта усмехнулся Старухин. – Выслужился.
– Хотите спросить, товарищ старший оперуполномоченный, почему не вас назначили заместителем? – с высоты нового положения окатил его прохладцей сержант.
– Хочу другое спросить, – ответил Старухин, глядя на него в прищур. Осклабился: – Потом.
– Поздравляю, товарищ Малютин. – Горшков был искренен и поднялся, чтобы пожать руку равному по званию.
Прочие оперативники приняли назначение равнодушно. Работа шла на износ, для эмоций не оставалось места. Даже то, что Баландин оказался врагом, никого не взволновало, а Вощинин удовлетворился объяснением начальства.
– Ну что ж, товарищи, – начал Малютин, расправив складки гимнастерки скользящим движением пальцев вдоль ремня. – Нам предстоит еще много работы в благородном деле очищения государства от антисоветской заразы. И вот что я вам скажу на примере Баландина. Тут упоминали его награды за раскрытие дел. Но боролся ли вообще Баландин с врагами народа? Может быть, когда-то боролся, а потом стал делать вид, что борется, потому что руки и ноги у него дрожали. Прикинулся божьей овечкой и колебался на слабых ножках. А такие шатающиеся становятся легкой добычей иностранных разведок и троцкистских вербовщиков. Баландин и сам не верил, и другим пытался внушить сомнения в виновности врагов, которых мы сейчас разоблачаем и пресекаем. Таких работников, как этот лжечекист, мы будем выявлять и вычищать самыми жесткими способами. Вы знаете, что у нас объявлено соцсоревнование с соседними районами – Выксунским, Кулебакским и Вязниковским. Поэтому требование к каждому: не только выполнять план, но и стараться перевыполнить.
– Догоним и перегоним Америку, – бравурно высказался Старухин.
Кто-то из оперативников издал шумный страдальческий вздох. Другой достал из кармана яблоко и с громким хрустом принялся грызть его.
– Для этого формируем несколько опербригад. Они будут обходить крупные предприятия города и района – заводы, фабрики, колхозы и совхозы – и выяснять у администрации наличие антисоветского элемента. Составлять списки и работать по ним уже конкретно. Напоминаю установку, которую вы и так должны знать наизусть. Если человек происходит из социально чуждой среды, а это кулаки, попы, бывшие царские служащие, торговцы и белогвардейцы, то он однозначно враг Советского государства. Как еще один показательный пример приведу паровозоремонтный завод на Казанке. Там работают свыше полутора сотен бывших кулаков, кулацких отпрысков и прочих враждебных элементов, и никто из них до сих пор не репрессирован. Завод был закреплен за Баландиным. Совпадение ли это? Конечно, нет. Между прочим, на этом заводе работал террорист Артамонов, вовремя ликвидированный нами. Сколько там еще таких артамоновых, нам предстоит выяснить…
После оперативки Старухин дождался нового заместителя в коридоре. Все уже разошлись, и старший оперуполномоченный в одиночестве дымил папиросой, внимательно изучая плакат, призывавший чекистов быть начеку.
– Разрешите вопросик, товарищ сержант? – развязно обратился он к Малютину.
Тот окинул Старухина сочувственно-ироничным взором.
– Валяй.
Старший оперуполномоченный приблизился на доверительное расстояние и даже наклонился к уху Малютина, чтобы тот хорошо расслышал.
– За какой хвостик тебя держат, сержант? – как понимающий понимающего спросил он.
Новый зам одарил его лучезарной улыбкой.
– Я чист перед партией и Родиной, – так же вполголоса и по секрету, с несомненной искренностью ответил Малютин.
Глядя сверху вниз, как спускается по лестнице сержант, Старухин пробормотал:
– Видал я таких чистюль, муха-цокотуха. На них клейма ставить негде.
11
Бессонной ночью Морозов перебирал в уме все, что может произойти предвиденного и непредвиденного в операции по спасению Жени, и свои действия в каждом случае. Он так и назвал это – операцией по спасению. Как всякая операция, она требовала продуманности на десять ходов вперед с запасными вариантами.
Он мог разминуться с ней на станции и пропустить момент, когда ее посадят на поезд. Вагон, где будет Женя со своим конвоиром, окажется переполнен, без свободных мест. Конвойных внезапно будет двое. Или один, но он станет сопротивляться «аресту», применит оружие, поднимет много шума. Возможно, в поезде окажутся сотрудники железнодорожного оперпункта НКВД с приказом присматривать за доставкой заключенной в Арзамас. Женя, заметив его, выдаст себя жестом, лицом, взглядом. На станции в Мухтолове их остановят для проверки документов. До нужного адреса придется идти несколько километров пешком, если их не подберет попутная телега.
Иные из этих помех бросали Морозова в холодный пот – решения он не находил. С прочими затруднениями готов был расправиться, как древний богатырь Муромец с разбойной ватагой. Одного он не мог предположить и допустить: что вызволить Женю из пасти зверя не удастся. Никаких сомнений на этот счет он не пускал ни в сердце, ни в ум, а потому и никаких путей отступления не строил. Если они попадутся, если его арестуют, если его подстрелят, если он разобьет себе голову, спасая ее, – так тому и быть. Как она сказала тогда, в день их последней встречи? «Делай что должен». Да, он должен. Хотя бы попытаться. Хотя бы надеть шлем, опустить забрало и показать врагу, что он готов биться до последнего вздоха.
Снарядился в «экспедицию» Морозов основательно. Потратил полдня на толкучку и колхозный рынок, спустил зарплату за месяц, обеспечив голодовкой в ближайшие недели себя и мальчишек-захребетников, Севку и Мишку. Набил два мешка на веревочных лямках: продуктами, теплой одеждой и обувью. Женя стояла перед его глазами в летнем платье, в котором ее арестовали. Отчего-то ему представлялось, что ранним холодным утром на исходе сентября она появится на перроне станции в том же голубом ситцевом платьишке и будет отчаянно мерзнуть. Ему хотелось согреть ее, оттеплить своим дыханием тонкие руки, взять, как маленькую, в охапку, отдать весь жар своей печки, которая полыхала внутри него, – и целовать, бесконечно целовать ее волосы, лицо, глаза…
Он долго думал и колебался, брать ли табельное оружие Грини Кондратьева. Убивать никого не хотелось. Да и слово дал монахине-игуменье, что дело обойдется без губительства. Однако револьвер в конце концов решил прихватить – с наганом операция приобретала вид борьбы не на жизнь, а на смерть. Таковой она и была в своей сути.
И как же легко, словно по маслу, шло все вначале! Он увидел Женю в самом конце платформы, на отшибе от толпы, ждущей поезда. С ней был милиционер в шинели и фуражке, с кобурой на поясе – словно нахохленная курица при желторотом цыпленке или сова, стерегущая мышь. Но милиционер Морозова не интересовал, тот – не его забота. Через головы людей на платформе он пожирал глазами Женю. Она была, конечно, не в одном лишь платье. Откуда-то взялся рыжий ватник самого затрапезного вида, голова повязана платком, на ногах – огромные, не по размеру, драные боты, в которых она спотыкалась. Ему пришло на ум, что Женя может почувствовать его присутствие и станет искать взглядом. Он и желал этого – сердце бешено стучало, и старался избегнуть, не высовываться из толпы. Но она не смотрела ни на кого, не оглядывалась и даже не двигалась. Пока не подошел поезд, просто стояла, подняв лицо ввысь, и дышала осенней прозрачностью неба, сырой прохладой рассвета, грязно-серой ширью окоема.
Задыхаясь от жалости к ней, Морозов едва не ринулся к ступенькам вагона, на которых Женя упала, взбираясь в своих ужасных ботах наверх. В этот миг он ненавидел конвойного: тот грубо пихнул ее в спину, чтобы поднялась. После милиционера в хвостовой вагон полезли прочие – гомонящие бабы, матерящиеся мужики, возбужденная путешествием молодежь, все с мешками, корзинами, узлами.
Морозов запрыгнул последним. Место для него нашлось подходящее – у самых дверей, при проходе. Он впихнул свои мешки под деревянную лавку, скользящей ощупью проверил за поясом под курткой револьвер. Женя сидела спиной к нему в середине вагона. Напротив нее, занимая точно так же целую лавку, устроился милиционер. Желающих приткнуться рядом он отваживал свирепым: «Проходите, гражданин!», «Здесь нельзя, гражданка!»
Поезд тронулся. Застучали колеса, поползли за окном то вверх, то вниз телеграфные и электрические провода. Перекрывали друг друга голоса разговаривающих. Где-то смеялись, где-то бранились, молодняк весело затянул «Я другой такой страны не знаю…», семейные жевали запасенную в дорогу провизию. Прошел контролер, проверяя и продырявливая щипцами билеты. Отщелкивались, как костяшки на счетах, станции Московско-Казанской железной дороги: Навашино, Велетьма, Степурино, Тёша. Последней перед Мухтоловом была станция Венец.
Морозов сидел как на иголках. Пытался смотреть в окно, но голова сама поворачивалась к Жене. К измученной, исхудавшей, казавшейся былинкой – возьми ее, и переломится. Одетой в обноски с чужого плеча, погруженной в самоё себя, в свои неведомые никому отношения с небесами, с обитающим где-то там, в запределье, Богом. Женя представлялась ему цветком с поникшей головкой, но Морозов знал почти наверняка, что она крепче, чем кажется со стороны. И оттого, что на ней эта убогая ветошь, в которой она похожа на колхозницу, оттого, что на бледном, истончившемся лице лежит отсвет нездешнего покоя и глаза смотрят не вовне, на окрысившийся мир, а вовнутрь, туда, где из евангельских семян произрастает царство Божье, как она рассказывала ему… от всего этого она была еще прекраснее и желаннее, чем прежде.
Тем сильнее рвалось из его груди сердце, когда поезд миновал станцию Венец. В вагоне закопошились, зашебуршились выходящие в Мухтолове, извлекая из-под лавок корзины и чемоданы. Морозов успокаивал себя тем, что уговора сделать дело до Мухтолова, конечно, не было. Нужно было терпеть и ждать, когда двое ряженых в милицейской форме, обещанные ему серым человеком в больничном парке, подгадают момент и выйдут на сцену. Может быть, они выжидают, когда в вагоне станет меньше народу. А может, им удобнее провернуть дело и скрыться в окрестностях Арзамаса. Еще три станции, еще почти час времени…
После Костылихи он не выдержал. Попросил сидевшую рядом бабку присмотреть за его вещами и пошел по вагонам. Быстро проходил общие, задерживался в купейных, открывая, где мог, двери. Бормотал извинения. В вагоне-ресторане едва не сшиб с ног официанта. Высматривал фуражки и синие шинели с голубыми петлицами, обшаривал глазами пассажиров в военной форме. Заодно искал краповые околыши и алые петлицы НКВД, но таких не было. Как не было и милицейских.
Морозов добрался до головы поезда и повернул назад. До Арзамаса оставалось полчаса ходу. Он ощущал себя взведенным спусковым механизмом револьвера: одно нажатие, и грянет выстрел, пуля прошьет любое препятствие на своем пути, если оно из плоти и крови.
В третьем от хвоста общем вагоне он поймал на ходу обрывок разговора. Бабы судачили о поимке бандита. Морозов остановился, как в стенку врезался, и сел на соседнюю лавку переобуть ботинок – притворился, что в ногу впиявился гвоздь. Бандит ехал в поезде под видом милиционера, но настоящие милицейские его выследили и схватили.
– А теперь и не разберешь, кто бандит, а кто нет, – возмущалась толстая баба. – Кинешься на базаре к милицанеру, поймал чтобы вора, а он тебе нож под сердце всодит! Такая жисть пошла.
– А где этого бандита ссадили? – встрял Морозов, завязав шнурок.
– Да тебе-то зачем? – взяли его на прицел четыре пары глаз. – Перед Тёшей к нему подошли, документ спросили да и взяли под руки.
– А он один был или с кем-то?
– Да ты на что антересуешься, парень? Дружок твой, что ле? Ты сам-то не из воров? – Бабы опасливо передвинули свою поклажу подальше. – Была с ним какая-то… Девка стриженая. Как его увели, так и она за ним.
Убитый рассказом, Морозов вернулся в хвостовой вагон. Встал у двери, бессильно привалился к стенке и, уже не таясь, неотрывно смотрел на Женю – как жаждущий в пустыне смотрит на мираж, в котором ему слышится журчание родниковой воды.
Истекали последние минуты – поезд приближался к станции Арзамаса. В эти последние минуты он встретился с ней взглядом. Задрожали ресницы, блеснули огоньки нежданной, нечаянной радости в ее глазах. Рот приоткрылся, рука приподнялась, и тонкие пальцы пошевелились. Он почти ощутил их прикосновение. Ее губы что-то безмолвно произнесли. В ответ он сказал ей, так же беззвучно: «Я люблю тебя! Ты моя, а я твой». В этом недолгом взгляде были одновременно приветствие и прощание. И вся их недолгая любовь уместилась в нем, и вся боль, которая была в эти два месяца и будет после.
Поезд остановился. Морозова толкали, стучали об него мешками, били по ногам чемоданами, вываливая из вагона на перрон. «Милок, вещи-то свои прибери», – напомнила ему бабка. Между ним и Женей была натянута стальная нить, по которой в обоих направлениях шел ток. Он не отпускал ее взгляд, пока она вставала и шла по проходу, подчиняясь коротким приказам конвойного, когда она поравнялась с ним…
– Вы чего пялитесь, гражданин?
Резко и грубо прозвучавший вопрос милиционера расцепил их. С легкостью порвал стальную нить, словно кусачками перерезал.
Морозов затрясся от гнева и боли. Он бросился в конец вагона, выдрал из-под лавки мешки, взвалил на плечи и понесся обратно. Чего он хотел? Что мог сделать? Застрелить конвоира, схватить Женю за руку и бежать с ней куда глаза глядят? Шансов – один на тысячу.
По перрону раскатывался, как козий горох, металлический голос диктора из радиотарелки на столбе:
– Капиталисты и их озверелая фашистская клика покушаются на независимость и свободу народов Испании, Китая и всего мира. Они засылают в Советский Союз шпионов и диверсантов, гальванизируют осколки разбитых классовых врагов, используют троцкистско-зиновьевскую нечисть, этих злейших врагов нашей Родины! Вооружась революционной бдительностью, советский народ выкорчует до конца всех врагов социализма, всех шпионов, вредителей, диверсантов, агентов японо-немецкого фашизма…
– Страсть-то какая… Господи, спаси-сохрани от ентой нечисти… – закрестилась рядом согнутая старуха с клюкой.
На платформе конвоиров стало двое. К первому добавился боец внутренних войск НКВД с винтовкой на плече. Они вели Женю в город, минуя здание вокзала, шагая по бокам. Она не оглядывалась, но он точно знал, что ей очень хочется повернуться, еще раз увидеть его, еще раз отправить ему немое послание. Не было сомнений, что она знает, чувствует: он идет следом. Морозов вдруг осознал, какое чувство пронзило его в вагоне, когда она проходила в полуметре от него: в ней не было страха, придавленности тюрьмой. Только бесконечная печаль, усталость и свет, который он видел в ее глазах. Так может светиться только любовь.
В этом взаимном чувствовании на дистанции трех десятков метров они дошагали до пересыльной тюрьмы. Закрывшиеся за Женей и конвойными железные ворота отрезали их друг от друга. Быть может, навсегда.
Морозов перешел улицу, скинул на мостовую мешки и уселся на тот, что был набит одеждой. Тоска объяла его. По булыжникам били подковами лошади, грохотали телеги, возницы кричали ему, чтоб убрался с проезжей дороги, не то задавят. Он не слышал ничего.
Только когда над ухом кто-то сопливо шмыгнул, он поднял голову.
– А я от облавы тут сховался, – сообщил беспризорник Федька, ничуть не удивленный, что встретил в другом городе старого знакомого.
Морозов тоже остался безучастен.
– Я здесь два месяца уже, – продолжал Федька. – В Муроме больно злые облавы стали. Так я в ящик под вагон – и сюда. А ты тут зачем?
Николай не отвечал, и Федька оглянулся на ворота тюрьмы.
– Она тебе кто? Я видел, как ты за ней шел.
– Невеста, – машинально проговорил Морозов. – Они погубят ее.
– Смотри, что я раздобыл, – похвастал шпанец, достав из кармана нож-выкидушку. – Вещь! И обувка ладная. – Он потопал большими, на взрослую ногу, сапогами.
– Все воруешь? Смотри, загремишь туда. – Морозов кивнул на тюрьму.
– Твоя невеста церковница? – вдруг спросил Федька, присаживаясь на корточки рядом. – Она у ворот перекрестилась. Чего их всех арестовывают?
– Кого их?
– Ну церковников. Попов, монашек.
– Чтобы не могли участвовать в выборах в декабре, – неожиданно для себя самого брякнул Морозов. – После выборов отпустят. А то проголосуют за кого-нибудь не того.
А ведь и впрямь. Вялым червячком шевельнулась внутри надежда. Да и слухи такие упорно ходили с начала осени. Морозов не придавал им значения, но сейчас он дал себе волю и поблажку поверить в это.
Сразу стало легче.
– Поехали в Муром, – потянул его за рукав Федька. – Тут я не прижился. Только ты купи мне билет. Неохота под вагоном.
Морозов закинул на спину мешки и бросил последний взор на здание тюрьмы поверх забора с колючей проволокой. Мальчишка взял его за руку. Сквозь собственную печаль и тоску Николай ощутил, как в действительности беспомощен, нуждается в защите и человеческом тепле этот вороватый шпанец, одинокий и несчастный уличный зверек, привыкший к маске дерзкого покорителя каната над пропастью. На вокзале Морозов развязал мешок, отломил половину от круглого тяжелого каравая и вручил мальцу. Тот жадно принялся рвать хлеб зубами.
* * *
Дома ждало письмо. То самое, отправленное в начале августа в Москву, на имя главного редактора газеты «Правда». Среди круглых штемпелей, сообщавших о путешествии письма, фиолетовый прямоугольник скупо извещал: «Адресат выбыл».
Выдох разочарования был первой, непроизвольной реакцией. Лишь во вторую очередь явилось соображение: никто не придет его арестовывать за это письмо. Было странно и непонятно. Почему вместо двух недель оно болталось где-то почти два месяца? Куда мог выбыть главный редактор главной газеты страны?
Никто так и не прочел его страстное, обличающее, горькое послание. Все старания пропали зря. Его правда – да только ли его? – правда миллионов людей осталась запечатанной в бумажном конверте. В точности как и повсюду, ее запирали под семью замками и сторожили пуще государственного банка с помощью армии сексотов, доносчиков и бдительных дурачков, вездесущих глаз и ушей советских карательных органов. Что-то тут не сходилось. Письмо должны были прочесть. Если не редактор, то другие.
Догадка пришла внезапно. Невесть откуда вылезла до нелепости странная мысль: вместо него взяли Женю. Вот почему не удался побег. Потому что письмо вернулось непрочитанным.
Это было невозможно, страшно несуразно. Так не могло быть. Так нельзя, нелогично думать. Но… это казалось правдой.
12
В помещении царил бедлам. По полу были раскиданы машинописные листы и гранки, сброшенные сквозняком из открытой форточки. Валялся опрокинутый стул. Раззявил дверцу шкаф, выпятив нутро: всевозможные папки, скоросшиватели и просто горы бумаг. На зеленом абажуре настольной лампы висел картуз. Посреди разложенных на столе газет стояла почти приконченная бутылка водки и блюдце с кружками вареной колбасы. В кресле за столом развалился пьяный главред Кочетов в раздернутом на груди френче.
– Ты как сюда проник? – икнув, осведомился он. – Я сказал, никого ко мне… Я занят!
– Просто вошел. – Морозов пожал плечами, озираясь. – Секретарши нет на месте, Валентин Михайлович.
– Что, уже?! – По лицу Кочетова пробежал испуг.
– Уже – что? – переспросил Морозов.
– Крысы побежали!.. Корабль дал течь… Капитана смыло за борт… Или скоро смоет… А ты почему тут? Ты что, не крыса? Не боишься?
Кочетов попытался встать, но безуспешно. Погрозил Морозову пальцем. Тот собрал с пола листы и положил на стол.
– Да что случилось, Валентин Михалыч?
– Не знаешь? – удивился главред. Он пошарил руками по столу, выдернул газетный лист с первой полосой «Правды». – На, читай. Второй столбец.
Морозов в недоумении прочел заголовок передовицы – «Районная печать и выборы в Верховный Совет СССР». Второй столбец начинался с жирного пятна от колбасы. «…Вот, например, “Муромский рабочий” – большая ежедневная районная газета Муромского района Горьковской области. Совсем недавно в статье о подготовке к выборам газета сообщила, что по району насчитывается три тысячи неграмотных и из-за своей неграмотности они будут лишены права участвовать в выборах. Тем самым редакция газеты чудовищно извратила одно из основных положений советской Конституции. Одним росчерком пера она установила образовательный ценз и объявила антисоветское по духу лишение трех тысяч граждан избирательных прав. Не ясно ли, что поведение главного редактора газеты В. Кочетова безответственно, а положение самой газеты – неблагополучно…»
– В райком вызывали, – откровенничал во хмелю проштрафившийся главред. – Дали три дня на решение вопроса. А не решу – снимут с работы. Дальше – сам знаешь, что будет…
– Что?
– Дураком не прикидывайся. – Кочетов остро зыркнул на него, затем открыл ящик стола. Извлек маузер времен Гражданской войны. – Живым не дамся. В троцкисты не пойду… Что делать, Коля? – Лицо главреда поплыло, жалобно сморщилось.
– Ну… напечатайте опровержение, Валентин Михалыч. – Морозов поднял стул и сел.
– Нельзя, Коля. Нельзя, – паниковал Кочетов, телесно оставаясь совершенно расслабленным. – Как неграмотные будут голосовать в тайных выборах? Это значит… значит признать, что их руками будут водить другие, грамотные. А вдруг на избирательных участках окажутся враги?
Даже пьяный, Кочетов не терял хватку многоопытного советского функционера, наторевшего в изобличении и предвидении вражеских вылазок. Но и на старуху бывает проруха. Положение его было незавидным.
– А вы объявите через газету соцсоревнование школ с шефством над неграмотными, – осенило Морозова. – Пускай школьники обучают их азбуке.
– До выборов два месяца, – недоверчиво смотрел Кочетов, начав трезветь. – У нас все неграмотные – старики и старухи, да темные бабы. Если за всю жизнь не выучились, куда им за два месяца.
– А вам что важнее, Валентин Михалыч, результат или решение вашей проблемы? Газета кинет призыв, школы откликнутся, пионеры и комсомольцы пойдут по домам учить неграмотных. Выучат, не выучат – кто проверять будет и кому это нужно? Выборы пройдут, все об этом забудут.
Морозов, хотя и происходил из антисоветских слоев населения, вывернутую логику советской трудовой жизни и взаимоотношений нижестоящих с вышестоящими усвоил на «ять». Главным принципом этих отношений было вовремя отчитаться в достигнутых и превзойденных показателях, заслужив доверие начальства: все прочее само рассосется.
– Ну ты голова! – восхитился Кочетов, цокнув языком. – Даром что кулацкий сын.
– А каково будет вашему Петьке, Валентин Михалыч, когда он станет сыном троцкиста? – отбил Морозов.
– Ладно-ладно, не обижайся. – Главред примирительно замахал руками. – Если дело выгорит… а думаю, что выгорит… я у тебя в долгу, Морозов. Проси чего хочешь. Только, – он покачал пальцем, – не проси вернуть тебя на работу.
– Как это?.. – оторопел Морозов. – Я что, у вас больше не работаю, Валентин Михалыч?
– Три недели уже. Тебе разве не звонили?
– У нас в доме нет телефона, – упавшим голосом сказал Морозов. – Меня уволили? Почему? За что?
– За что? – вдруг нахмурился и погрознел Кочетов. – А ты забыл, как выклянчил у меня редакционное задание на статью о работе органов госбезопасности? Мне из-за этой истории головомойку устроили, в райкоме припарки ставили. Кто, говорят, у тебя в газете пишет – кулацкие последыши? Совсем ты, Кочетов, говорят мне, сдурел – в райотдел НКВД его шпионить отправил?! Велели из газеты тебя убрать подчистую.
– А я как раз пришел сказать, что статья не получится…
– Слышать больше ничего про это не хочу! – Кочетов подцепил круг колбасы и запихнул в рот. Жуя, продолжил: – Получи расчет в кассе за последний материал… Был бы ты хоть комсомольцем. А так не пойми кто, ни партии свечка, ни черту метла. Хочешь остаться в журналистике, Морозов, мой тебе добрый совет: подавай заявление в комсомол.
– Я, Валентин Михалыч, имею желание быть беспартийным коммунистом, – отоврался Морозов. – В партию и комсомол я рылом не вышел. А беспартийные коммунисты – опора партии.
– Ну-ну, – задумчиво промычал главред. – Твое дело.
– Я, товарищ Кочетов, спросить вас хотел. – Николай ерзнул на стуле, подобравшись к щекотливой теме. – Помните, весной вы мне говорили, что решено усилить антирелигиозную пропаганду в стране? А вы про аресты церковников в городе что-нибудь знаете? Правда, что это связано с выборами? Временная изоляция, а потом их выпустят… Это правда? Говорят, по январской переписи населения вышло много верующих. И у всех теперь по новой Конституции право голоса.
– Ты опять за свое, Морозов, – поморщился Кочетов. – Перепись эту враги делали, читал же в газетах. Так что не поминай ее всуе. Водки выпьешь?
– Нет, спасибо.
– Не компанейский ты мужик, Морозов. Как не советский. Одно тебе оправдание – молодой еще, жизни не знаешь… С попами ты, что ли, связался? Нет, Коля, серьезнее тут дело. – Кочетов посмотрел, закрыта ли дверь кабинета, и продолжил вполголоса: – Берут не только церковников. Членов партии тащат на дыбу. Культработников сажают пачками. Читал небось, какие бои идут в Союзе писателей? Нашу журналистскую братию тоже за ребра подцепляют. Недавно главного редактора «Правды» арестовали.
– Понятно… – пробормотал Морозов.
– Ничего тебе не понятно, Коля. Мне самому ни хрена не понятно! Только скажу тебе, что таких чисток у нас в стране еще не было… Поджилки у всех трясутся. А попы… ну давно надо было их прижать к ногтю. Погоди, дам тебе интересную книжицу…
Кочетов погремел ящиками стола, отыскивая книжку, и бросил перед Морозовым пухлую брошюру.
– Бэ Кандидов, – вслух прочел тот. – «Церковь и шпионаж. Некоторые факты контрреволюционной и шпионской деятельности религиозных организаций».
– По секрету, Коля, – разоткровенничался главред, снова понизив голос. – На днях в Арзамасе арестовали сестру московского митрополита Сергия. Старуху, видимо, расстреляют. Не в лагерь же ее отправлять, она для работы не годится. Но дело не в этом. Чуешь, куда ниточки тянутся? К самому главному в СССР церковнику Сергию (Страгородскому). Политика, Коля!.. Так не будешь пить? – в последний раз предложил он.
Кочетов налил себе полстакана водки и жестом бывалого питейца лихо опрокинул в глотку.
13
С треском и тарахтеньем чернобрюхий Л-300 лихо заложил пару кругов по мощенному камнем двору райотдела НКВД. Фырча, он остановился в паре метров от крыльца главного входа. Всадник в кожаном мотоциклетном шлеме с плотно прилегающими очками не торопясь заглушил мотор и поставил своего зверя на подпорку. Неспешно расстегнул ремешки шлема, стянул с головы. За ним с лавочки наблюдали двое рядовых внутренней охраны, вышедшие на перекур.
– Здорово это у вас, товарищ старший оперуполномоченный, – восхищенно покивал один из парней. – Как эти… в древние времена такие были… ну конь, а к нему вместо конской башки человек по пояс приделан. Вот и вы так же.
Старухину сравнение польстило.
– Учитесь, малята.
На крыльце возник сержант Горшков в шинели и низко надвинутой на лоб фуражке. За ним маячил его новый помощник, румянолицый курсант школы НКВД. С сентября таких недоучек в количестве полудюжины прикомандировали к райотделу для усиления и практического обучения. Горшков пасмурно уставился на мотоцикл, затем на Старухина.
– Тоже из кассы? – хмуро поинтересовался сержант, опознав имущество бывшего заместителя начальника райотдела Баландина.
– Конфисковал у вдовушки. Пыталась оказать сопротивление, но я обещал арестовать ее как члена семьи изменника Родины. – Довольный приобретением, Старухин был словоохотлив.
Горшков равнодушно угукнул и отправился восвояси с курсантом, старавшимся попадать с ним в ногу. У Старухина же было неотложное дело к начальству. Взлетев по лестнице на второй этаж – это дело его окрыляло, – через пару минут он уже охмурял Кольцова:
– Помните наш разговор летом о предателе в отделе?
– Ну. – Младший лейтенант проявил настороженный интерес.
– Я с прошлой недели после оперативки голову ломаю. А вдруг, думаю, в отделе не один враг работал, а двое? Если, муха-цокотуха, Баландин сам по себе, а который из золотопогонников – отдельно? Или они в связке работали. Теперь, когда одного разоблачили, второй зашухарится или наоборот – активизируется.
– В верном направлении мозгуешь, Макар, – согласился Кольцов. – Сам уже мыслил про это. Сомнения у меня большие, что Баландин белогвардеец. Я ж эту белую кость нюхом чую, на Гражданской повидал их, пощупал.
– Так вы, товарищ младший лейтенант, обнюхайте всех, – грубо сострил Старухин, осклабясь.









































