Читать книгу "Охота на Церковь"
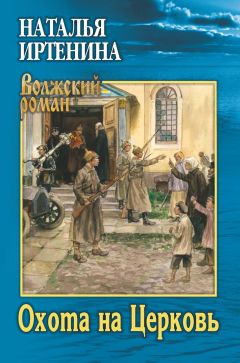
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Часть III
Побеждающие
Побеждающему дам сесть со Мною
на престоле Моем, как и Я победил…
Откр. 3: 21
1
«Прежде чем давать показания о деятельности церковной контрреволюционно-диверсионной организации, которой я руководил в Горьковской области, считаю необходимым доложить следствию, что одновременно я являлся членом московского церковно-фашистского центра, по заданию которого и проводил контрреволюционную деятельность, направленную к ослаблению мощи Советского государства и свержению советского правительства… На одном из первых нелегальных совещаний церковно-фашистского центра, происходивших в Москве под руководством митрополита Сергия Страгородского в 1934 г., участвовал я, Туляков Василий (архиепископ Феофан), и ряд лиц из крупного духовенства… Членами московского церковно-фашистского центра являются кроме самого митрополита Страгородского, 1. Ленинградский митрополит Алексий Симанский… 2. Украинский митрополит Константин… 3. Северо-Кавказский архиепископ Мефодий… Лично я по заданию митрополита Сергия собирал шпионские сведения о положении в Советском Союзе и, в частности, о состоянии ж/д транспорта и настроении рабочих и передавал эти сведения Сергию, а он в свою очередь передавал их сотрудникам английского посольства, о которых я показал выше…»
Начальник Муромского райотдела НКВД Кольцов перевернул последнюю страницу копии протокола допроса и восхищенно цокнул языком.
– Экого гада за месяц раскрутили. Отлично с ним поработали. Мне бы в отдел таких специалистов.
– Положим, у вас и свои мастера-колуны имеются, Прохор Никитич, – бархатным голосом ответствовал рыжекудрый лейтенант Липкин. Он сидел сбоку громоздкого стола, облокотившись на него и закинув ногу на ногу. – Я привез вам эти показания, чтобы вы приобщили их к следственным делам наиболее крупных фигурантов муромского отделения организации.
– Приобщим, Семен Львович, непременно приобщим. Это ж надо! Чертовы попы. Расстрелять всех до единого во главе с их главарем Сергием!.. Когда его арестуют?
– Этот вопрос в компетенции Политбюро и лично товарища Сталина. У нас с вами, Прохор Никитич, диапазон вопросов более узкий. По показаниям Тулякова вам следует сверять показания ваших подследственных относительно руководства муромским отделением церковно-диверсионной организации. В тридцать четвертом году Муромским и Владимирским епископом был Макарий (Звёздов), он-то, очевидно, и являлся создателем здешнего филиала.
– Звёздов? – Кольцов вдумчиво потер затылок. – Года два назад он сменился, уехал, кажется, на Урал.
– Верно, возглавлял Свердловскую епархию, но был арестован и отправлен в ссылку. На днях получено сообщение о его повторном аресте. В Муроме вместо себя он оставил руководить церковным подпольем… – Липкин замолчал. Казалось, его внимание целиком заняла влетевшая в форточку жирная муха, с громким гуденьем метавшаяся между стен.
– Нынешний Муромский епископ Михайлов в городе давно не живет. Старикашка почивает на отдыхе в Чувашии, – размышлял Кольцов, тоже отслеживая передвижения бешеной мухи.
– Арестован в мае.
– Благочинный Гладилин? – перебирал кандидатуры младший лейтенант. – Сидит у нас в камере уже дней десять.
– Да, вероятно, он. Наиболее подходящая фигура, – согласился Липкин. Муха затихла в углу, и начальник муромского оперсектора отвлекся от нее. – Итак, что мы имеем. Звёздов по заданию Страгородского организует в Муроме филиал церковно-фашистской диверсионно-террористической организации. А при отъезде передает руководство благочинному Гладилину, который и направлял деятельность филиала вплоть до своего ареста. При этом велика вероятность, что Гладилин лично ездил в Москву к Страгородскому для отчета, минуя Тулякова в Горьком, и получал от митрополита дальнейшие установки.
– Почему? – не поспевал Кольцов за ходом мысли.
– Потому что Туляков – отработанный материал и скоро будет расстрелян. Из Гладилина следует выжимать дополнительные показания на Страгородского, а также на весь муромский состав организации. Он что-нибудь говорит?
– Ничего.
– Совсем ничего?
– Пытается оспаривать доводы следствия, упрямится. Вот я и интересуюсь, товарищ Липкин, какие способы применяли к Тулякову. Нам бы опыт не помешал.
– Способы самые гуманные. – Лейтенант вздел руки, растопырив пальцы. – Сажали в подвал и подтапливали помещение холодной водой. Долго так не просидишь, – улыбнулся он. – Я с вами согласен, этапируйте Гладилина в Горький. Пускай с ним тамошние спецы поработают. А вы дожмите наконец попа Аристархова, чтобы он дал показания на самого Гладилина. Хоть это-то ты сможете?
– Постараемся, товарищ Липкин.
– Уж вы постарайтесь, товарищ Кольцов. Держите в уме, что работать нужно в темпе, не миндальничать с подследственными и не либеральничать с подчиненными. – Приятный бархат в голосе Липкина обернулся наждаком. – Сейчас у нас всех жаркая страда. Не надейтесь, что план по области обеспечат другие районы.
– Так мы обеспечиваем, товарищ лейтенант…
– Судя по вашим цифрам, не очень. Отстаете от соседей, товарищ Кольцов. Пока не фатально, но… Если в управлении решат, что вы проявляете оперативную инертность, я не смогу вас прикрыть. Головы уже летят. Колеблющихся в выполнении поставленной задачи арестовывают и на уровне управлений, и на уровне райотделов. Что их ждет, вы понимаете.
Прохор Никитич с видимым усилием сглотнул.
– Включайтесь в соцсоревнование с соседними районами, товарищ Кольцов, – кивнул ему Липкин, убедившись, что тот все понял верно. – Теперь поговорим о вашем кроте. Внутренняя проверка обнаружила факты работы в отделе вражеского агента?
– А… – Начальник райотдела открыл и закрыл рот, выходя из оцепенения, глубоко вдохнул. – Да. Есть агент. Конечно, есть. Создает помехи в оперативно-разыскной работе. Холера.
– Конкретней.
– Кто-то предупреждает троцкистских диверсантов об арестах, и те успевают скрыться. В августе ускользнул ученик слесаря с паровозоремонтного завода Артамонов, участник молодежной троцкистской группы Бороздина. В мае сбежал за день до ареста Черных, участник той же группы. Его отец-троцкист, главный инженер станкопатронного завода, расстрелян в прошлом году. Скорее всего, агент связан с троцкистским центром.
– Логично. – Липкин в раздумье двигал лицевыми мышцами. – Когда придут ответы из Москвы на запросы по сотрудникам, оповестите меня. Посмотрим вместе.
– Сделаю, товарищ Липкин.
Вспотевший Кольцов жадно припал к стакану, в который с верхом налил воды. Пока нес его ко рту, рука дрогнула, и на столе образовалась лужица. Он смахнул ее рукавом.
– Хорошо ли вы знаете своего заместителя сержанта Баландина? Он не вызывает у вас подозрений?
– Баландин? – Кольцов, насторожившись, опустил недопитый стакан. – Знаю его лет десять. Работник хороший, исполнительный. В Гражданскую воевал в конной армии Буденного. Бывает, холера, проявляет мягкотелость, но нечасто, нужно только держать его покрепче. Из рабочей семьи. Жена, правда, дочь местного купчика, тот сбежал за границу в восемнадцатом. Была замужем за белогвардейцем. Баландин ее вдовой подобрал.
– Вот то-то и оно… – нарисовал что-то себе в уме Липкин.
– Думаете на него? – Кольцов утер пот на лбу клетчатым платком.
– Пока лишь думаю, что ваш Баландин чересчур неразборчив в связях, – ушел от прямого ответа лейтенант. Он поднялся, завершая разговор. – Ну а вы-то сами, товарищ Кольцов. Не забыли еще, как в Гражданскую метались, перебегали из Красной армии к белякам и обратно?
Удавьим взором сквозь поблескивающие стекла очков Липкин гипнотизировал младшего по званию. Тот медленно встал, вытянулся по форме, плотно прижав руки к бокам.
– Такое не забудешь… – пробормотал Кольцов, заливаясь сизой бледностью.
– Вот то-то и оно, – повторил Липкин, вернув голосу бархатистость, и покинул кабинет.
2
По утрам Морозов просыпался от острого, как гвоздь под боком, чувства сиротства. Ему казалось, он осиротел во второй раз. Только теперь остался не с теткой и сестрой, а один во всем мире. Душа его стала замерзать и отчуждаться от всего, что не было согрето воспоминаниями о Жене. Он искал ощущений ее присутствия в тех местах, где они бывали вдвоем, или в тех, которые она любила. Однажды даже решился зайти в церковь бывшего Благовещенского монастыря.
Храм был старинный, в каменных узорах, недавно побеленный прихожанами. Морозов вдыхал незнакомые запахи, смотрел, как две прислужницы в темных бесформенных платьях трут скребками пол вокруг огромных подсвечников. Он знал, что это монашки. Его подмывало подойти к ним, заговорить, выведать, знают ли они Женю. Но монашки, будто услышав его беспокойные мысли или опасаясь чужака, вдруг оставили свое занятие и быстро ушли. У свечницы за лавкой он спросил, что нужно сделать… чуть не сказал «если человека арестовали», но осекся. О таком не говорили. Учились понимать с полунамека.
– …если человек заболел. Тяжело заболел и может погибнуть.
Свечница, тоже монашка, в платке до бровей, поняла, сочувственно объяснила. Он вписал имя Жени в записку о здравии, поставил перед иконами свечки. Из церкви вышел с опустевшим сердцем, ощущением безнадежности и влагой в глазах. Ему было ясно, что Бог не поможет. Никто не поможет.
Мир враждебен, холоден и равнодушен к терзаниям человеческой души. Но все же в нем есть вещи, согретые дыханием любимой. Когда сестра передала ему две записки от арестованного священника, Морозов с жадностью согласился исполнить просьбу. Отца Алексея Аристархова он не видел с мая, с той ночи, когда помиравшему в диспансере коммунисту понадобилась исповедь. Женя тогда сказала, что этот батюшка был ее духовником. Оттого чувство благодарности и приязни, которое испытывал к нему Морозов, умножилось на два. И если он мог хоть как-то помочь, то сделал бы это с усердием.
Записки вынес тайком из тюрьмы охранник, отдал монашкам, которых знал. Среди тех монашек затесалась Нинка, вызвалась доставить записки семье священника с помощью брата. Думала, он по-быстрому махнет на своей полуторке туда и обратно в обеденный перерыв. Но Морозов решил иначе. В выходной день отправился в село пешком, взвалив на спину мешок с хлебом, сахаром и салом.
Калитка у дома, где снимали половину Аристарховы, была распахнута. Морозов постучался в избу, но никто не откликнулся. Он сам потянул дверь, вошел в дом и застал его обитателей несчастными. Заплаканная мать стояла над старшим сыном, который запихивал в старый чемоданчик вещи. Плескала руками, взывала к рассудку упрямого отрока. Двух младших детей не было, наверное, ушли за грибами или еще каким-нибудь способом добывали подножный корм.
– Ну на что ты будешь там жить, в этом городе?! Денег у нас почти нет, здесь хоть с огорода да от леса кормимся. А там? Думаешь, твой Борька тебе куски со стола будет носить?
– Нет, мам. Я все обдумал и решил. Устроюсь на радиоузел, буду подрабатывать. Не пропаду. Здесь мне нельзя оставаться, как ты не поймешь! Я не должен жить с вами.
– Да почему же?..
Внезапное явление Морозова жену священника не удивило, скорее ободрило. Она призвала его на помощь:
– Хоть вы, Николай, объясните этому недорослю, что уходить из дома ему вовсе не нужно! А то он вбил себе в голову, что если его заставили написать заявление, то он уже и предатель. Бежит от семьи сломя голову, как известно кто от ладана!
Морозов спустил на пол мешок, прислонился к стенке и устало спросил:
– Здравствуйте, Дарья Александровна. А что случилось?
– Я отрекся от отца, – резко прозвучал голос Михаила. – А теперь ухожу жить в город. Не могу здесь. Я хочу жить один! Мне через три недели шестнадцать, я уже взрослый. Сам буду строить свою жизнь, мама.
– Ну вот, – снова развела она и уронила руки. – Как его убедить, что одному в такое время не прожить?
Для Морозова слова подростка были как ушат ледяной воды на голову.
– Ты что это, всерьез про отречение?
– Да нет же, конечно! – воскликнула мать, опустившись на табурет. – Его взяли в девятый класс с условием, что напишет отречение от арестованного отца. Мерзко, но это же просто бумажка!
– На общем собрании зачитал. И в стенгазете разместили, – пробубнил Михаил, утрамбовывая в чемодане железки и инструменты.
– Я и говорю – бумажка! Души твоей в этом нет. А бумажка порвется и забудется. Главное, ты же отца любишь и никогда его не предашь…
Морозову в этом разговоре было неуютно. Он ясно видел, что мать и сын друг друга не слышат или не хотят слышать. Подросток прятал глаза, делая вид, что слишком занят вещами. А попадья и впрямь чего-то не понимала в сыне… или не обо всем знала.
Порывшись за пазухой, он выложил на стол два свернутых клочка бумаги.
– Это от отца Алексея из тюрьмы.
Один был надписан «Моим дорогим», второй – «Сыну Михаилу».
Жена священника с возгласом радости схватила бумажку и сразу, развернув, стала читать. Миша, подойдя к столу, колебался, прежде чем взять письмо. Осторожно, словно с опаской, раскрыл его и пробежал глазами. В избе повисла напряженная тишина. Морозов ждал, что родится из нее – рыданье, тихий плач, беззвучное страдание или, напротив, оживление, светлость взоров.
«Дорогие мои, любимые, супруга Дашенька и детки! Выдалась возможность передать письмецо, и я с удовольствием пишу вам его. У меня пока все хорошо, слава Богу. Притерпелся к здешней еде и даже бываю сыт. Жаль, подрясник истерся, латаю его, подкорачивая снизу. Допросами, конечно, мучают, но я терплю благодаря Господу. Молюсь Ему каждую минуту, и вас прошу не оставлять молитв. Вот только левая рука временно вышла из строя…»
«Милый мой Миша! Хочу вкратце поведать тебе, как ты, наш первенец, появился на свет. Мы с твоей мамой долго ждали, чтобы родились дети. Пять лет после свадьбы у нас не было этого счастья. Я уже думал, что и не будет. Прощался с жизнью в концлагере под Холмогорами, о котором тебе рассказывал. И дал Богу обет, что если выживу, то стану священником. Поэтому ты обетный ребенок. Ты родился через год, как я избежал смерти в лагере. Потом появились Арсений и Вера. Господь дал нам вас в ответ на мою решимость служить Ему. И этой решимостью я живу поныне. Прости меня за то, что вам всем пришлось много страдать из-за моего выбора, но иначе я не мог и не могу. Будь, пожалуйста, вместо меня старшим в семье…»
Чуть не толкнув гостя, подросток вылетел в сени, сбежал с крыльца. Его мать, не шелохнувшись, задумчивым и словно ласкающим взором смотрела на записку в руке. Поднесла ее к лицу, вдохнула запах и поцеловала письмена.
– Вы не беспокойтесь за сына, Дарья Александровна, – заторопился Морозов. – Я все улажу. Тут продукты для вас… – Он ногой подпихнул мешок и тотчас вышел из избы.
Парня он нашел у дровника. Тот сидел на чурке спиной к дому и кулаком размазывал слезы.
– Где жить собираешься?
Миша дернулся, вытер рукавом лицо и повернулся.
– С Борькой Заборовским договорился. Поселюсь у них в сарае. Это все серьезно, а мать не понимает. Думает, я от отца отрекся не по-настоящему, как будто фигу в кармане держал при этом. А ничего я не держал. Я взаправду отрекся. Объявил при всех, что раз он враг народа, то больше мне не отец. Не могу я ей это прямо сказать…
Морозов, на миг растерявшись, поискал глазами, куда сесть. Подкатил ногой ближе другую чурку и оседлал ее.
– Хоть моя фамилия Морозов, но я героем-предателем Павликом не был, когда отца и мать в тайгу выслали, – покачал он головой.
– Я хочу учиться! – громко и даже грубо, со злостью отрезал парень.
Пару мгновений спустя он порывисто протянул Николаю отцово письмо.
– Я скотина! Можешь меня презирать. Только ничего уже не изменишь…
Морозов бегло просмотрел записку и зацепился взглядом за последние слова: «Бог все простит. Только от Него не отрекайся. Любящий тебя, несмотря ни на что, отец».
– Думаешь, ему там в тюрьме сказали, что я его предал? – с непонятным выражением спросил Михаил. То ли со стыдом, то ли со страхом или тоской.
– Не знаю, – задумался Морозов. – Да, парень, влип ты крепко. Но жить будешь не в сарае, а у меня. Нинка ушла к монашкам, так что места хватит. Собирайся пока, а я к братьям наведаюсь. И матери скажи. Вернусь, вместе пойдем в город. Не вздумай сбежать от меня, глуподыр! – пригрозил он свирепо. – Дров ты и так уже наломал с лихвой.
Николай вышел из калитки на улицу. Село выглядело пустым. Колхозные трудодни вытягивали из него живые соки все шесть дней в шестидневке. Пока Морозов шел, не встретилось ни единой души, даже ребятни или отработавших свое, не годных для колхоза стариков и старух. Во дворах за заборами мелькали платки или картузы над огородными грядками. Но на улицу как будто опасались лишний раз выходить.
Тем неожиданней был оклик:
– Эй, свояк! Не проходи мимо.
Артамонов распахнул калитку.
– К братьям идешь? – вполголоса спросил он, когда Морозов приблизился. Андрей Кузьмич смолил цигарку, чего прежде за ним не водилось. Да и смотрел он скучно, без живости и всегдашней задорной искры в глазах. – Там у них Витька мой ховается. От энкавэдистов сбежал.
– Так он не уехал? – изумленно воскликнул Морозов.
– Сидит тихо, как мышка-норушка. И ты, свояк, не шуми. Выпить зайдешь?
Николай двинул головой.
– Жаль. Поговорить не с кем. Сам сижу, как суслик в норе, за спиной своей дражайшей супруги, колхозной ударницы. А то б и меня прихватили. В августе приходили, переворошили весь дом. Грозные, аки черти при котлах в аду… Видал же, – Андрей Кузьмич махнул в сторону улицы, – никто носу не кажет, все со страху забились по щелям. Поди знай, кого в следующий раз из дому выведут на расстрел.
– Почему на расстрел? – нахмурился Морозов.
– Да это я так, – Артамонов повел в воздухе цигаркой, – Гражданскую войну вспомнил. Теперича у нас не красные кавалеристы, а взбесившееся энкавэдэ. Из наших, из церковной двадцатки, двоих уже взяли… О-хо-хо. Про отца-то Алексея слышно чего?
– В Муроме еще держат. Больше ничего.
– И то добро. Может, отпустят. Церкву-то нашу закрыли. Лежепеков, председатель колхоза, пасть на нее разинул, снести хочет на кирпич для теплиц… Да я вот что думаю, свояк. – Андрей Кузьмич с непонятным торжеством взглянул на Морозова. – Сталину скоро церковь понадобится! Войну они без Бога не осилят, хоть золотой зуб мне выдери, если не так. За Маркса – Ленина русский Ванька воевать больше не пойдет. Навоевался, теперь с голым задом на барщине пыхтит… Так не зайдешь?
Повторно отказавшись, Морозов распрощался. Не терпелось своими глазами увидеть героя, улизнувшего из лап чекистов, расспросить о планах на дальнейшую жизнь. Однако то, что он узрел, тотчас выбило из его головы все вопросы.
Застыв столбом, он с минуту озирал катившую на полных оборотах оргию. По числу пустых бутылок водки на столе и на полу – попойка продолжалась с вечера. Даже не со вчерашнего. Кроме водки была городская колбаса, криво порезанная толстыми ломтями и целиковая, обгрызенная с концов, еще гора шоколадных конфет и обглоданные хребты воблы с головами. Три пьяные рожи нестройно тянули песню про черного ворона. Четвертой в компании сидела пухлая девка в крестьянской косынке и с шалыми глазами. Она привалилась боком ко второму из братьев Морозовых, восемнадцатилетнему Гришке, а на старшего глянула с едкой хмельной усмешкой.
– Колян пришел! – обрадовался Витька, восседавший во главе стола, как хозяин дома или именинник. – Стак-кан Коляну! Наливай!
Песня смолкла, черный ворон, хлопнув крыльями, улетел.
– Твой отец сказал мне только что, будто ты сидишь тихо, как мышка в норке, – зловещим голосом произнес Морозов-старший. – Что празднуем?! Твое скорое отбытие в чекистскую каталажку? Дверь в избу открыта, заходи кто хочет.
– Ну чё ты, Коль? Дай человеку надышаться волей, – забухтели братья.
Перед старшим на краю стола возник стакан, доверху полный. Девичья рука протягивала закуску – розовый шмат колбасы.
– Я, Колян, магазин в городе грабанул, – заплетающимся языком похвастал Витька. – Теперь за мной не энк… кавэдэшня придет, а уголовка. Отсижу пару лет – и свободен! Бабе за прилавком рожей посветил… чтоб запомнила. Мусорня меня уже ищет… Э, ты чего?..
Морозов крепко схватил его за шкирку и выволок из-за стола.
– Что с тебя, дурня, взять, – зашипел он в ярости. – Так тебя не одного возьмут, а вас вместе с ним, – он кивнул братьям, – в банду запишут.
Он подтащил Витьку к плетеному половику посреди горницы. Отодвинул коврик ногой, дернул крышку подпола и швырнул в дыру новоиспеченного бандита, не заботясь о том, какие шишки и синяки тот набьет. Хлопнул крышкой и вернул на место половик.
– Все убрать здесь! – велел он осоловело глядевшим Гришке и Дёмке. Затем оторвал от Гришки пискнувшую деваху. – Ты ничего не видела и не слышала. Сидела у себя в огороде. Поняла? – Та только хлопала глазами. – Тебя тоже в банду оформят, марухой или наводчицей, – зло разъяснил он и выставил ее за дверь, придав ускорения шлепком между лопаток. – А ну брысь!
Вернулся в дом. Гришка и Дёмка, пошатываясь, под его суровым приглядом принялись зачищать следы оргии. В подполе скребся, как очень крупная мышь, обиженный Витька.
3
Водитель эмки Шевчук, перегнувшись через спинку сиденья, тряс пассажира:
– Товарищ сержант! Приехали, товарищ сержант!
Горшков не спал. Он сидел согнувшись, опустив руки между коленями. Открытые глаза смотрели в никуда. Вид у сержанта был мрачный, как у тяжелой свинцовой тучи. От тычка под ключицу он наконец очнулся.
– Вам надо отдохнуть, товарищ сержант, – уговаривал Шевчук. – Идите домой, ложитесь в постель.
Горшков кивнул и молча вылез из машины. Утро едва занималось, на улице разливался серый, невзрачный осенний рассвет. Хрустели под ногами сброшенные листья вязов. Чуть пошатываясь и медленно переставляя ноги, сержант шел к торцу дома, в котором снимал комнату. Из дыры под крыльцом выполз Гаврош – бело-рыжая дворняга, всегда добродушно обнюхивавшая постояльцев. Но в этот раз пес не подошел: зарычал издали, поднял уши, опустил хвост.
– Это же я, Гавря, – пробормотал сержант.
Еще два шага – и пес зашелся лаем. Гавкал зло, враждебно и явно примеривался к ноге чекиста, чтобы укусить.
– Ты думаешь, я пьян? – догадался Горшков. – Дуралей. Я не пьян. Пусти меня в дом, с-собака! Ну накатил вчера немного, так уже все выветрилось.
Пес не отступал, лаял в исступлении, прыгал из стороны в сторону.
– А ну! – пригрозил сержант и ударил воздух сапогом. – Пшел, скотина безмозглая!
Гаврош отбежал, припал на лапы и продолжил гавкать. Горшков поднялся по ступенькам, взялся за ручку двери, но вдруг застыл. Оглянулся на рычащего пса, потом осмотрел себя. Поскреб подошвы сапог о ребро верхней ступеньки, поднес к лицу локоть и понюхал рукав, потом второй.
– Чуешь, да? – спросил он дворнягу. – Чем дело пахнет…
В своей комнате сержант скинул сапоги, со злостью забросил их в пустой угол. Отстегнул ремень с кобурой и сразу повалился на кровать, накрыл голову подушкой.
На работу сегодня можно не выходить, дали отгул.
…Около полудня Горшков пробудился от ощущения чужого присутствия. Он рывком перевернулся на другой бок и уставился на незваного гостя.
– Неосторожно, товарищ сержант. – В комнате сидел Вощинин. На столе стояли две бутылки водки и коричневый прямоугольный футляр с длинным ремешком. – Дверь забыли запереть. Табельное оружие на полу валяется. Неосторожно. Враг не дремлет.
Горшков спустил ноги на пол, растер лицо ладонями. Сон не освежил и не взбодрил, сержант был угрюм. Разговаривать не хотелось.
Вощинин разлил по стаканам водку. Жестом предложил Горшкову. Они без слов выпили, заели черствым серым хлебом. Другой закуски у сержанта не было: последние недели питался в служебной столовой. Вощинин расстегнул футляр и откинул крышку.
– Начальство тебя премировало. Владей!
Горшков с осторожностью вынул фотоаппарат.
– Немецкая «Лейка»! – провозгласил гость. – Аж завидки берут. Я б тоже не отказался.
– Откуда такая?
– Трофейная, из кассы, – хмыкнул Вощинин. – У немецкого шпиона конфисковали.
– А Кондратьеву что? – вяло поинтересовался сержант, вернув аппарат в футляр.
– Грине пойла хватит за глаза, – весело произнес опер. – Гриня парень крепкий, нервы железные. А тебя взбодрить надо. Меня Кольцов для этого и послал – в ущерб службе и плановым показателям.
– Трогательно, – поморщился Горшков.
Водка делала свое дело – угрюмость с него помалу сходила, оставляя лишь тоску в глазах.
– Ну тогда по второй! – Вощинин наполнил стаканы.
Выпив до дна, Горшков уронил голову на грудь. Руки, сложенные на столе, сжались в кулаки.
– Крестного своего там видел, – глухо заговорил он. – Восемь лет не видались, как я из дому ушел. Он мне… свистульки вырезал, пряники дарил. А я его… – У сержанта перехватило горло. Вощинин открыл вторую бутылку, подлил ему на треть стакана. Горшков проглотил водку и продолжил во хмелю: – Девять человек. Лицом к стенке в подвале. Капитан велел мне выбить пятерых. Остальных Кондратьеву. Сам показал, как делать. Ствол сзади в шею и вверх.
Сержант поднял руку и изобразил оружие, поставив углом указательный и большой пальцы. Рука тряслась.
– Пуля выйдет через глаз или рот, меньше крови будет, – бормотал он. – А если в затылок, то много крови, убирать долго… Крестного… не смог… Кондратьеву оставил.
Горшков всхлипнул и сильно затряс головой из стороны в сторону.
– Больше никогда!.. Никогда!.. Никогда…
– Исполнение приговоров – долг чекиста и партийно-комсомольская обязанность, – утешал, как умел, Вощинин. – Но тебя больше не пошлют, там своих исполнителей хватает.
Сержант упер в него непонимающий взгляд.
– Тогда зачем… Зачем нас… командировали в Горький? Сказали… на усиление… – Вдруг его осенило: – Так это проверка была?..
– Это был приказ начальства. А приказы не обсуждаются. Все через это проходят, товарищ сержант. Это наша чекистская потеря невинности. Она без крови не бывает. – Вощинин хохотнул над шуткой. – Кстати о девках… У тебя как с этим?
Горшков, размягчев от выпитого, заплетаясь языком, поделился:
– Тонька Мищук… машинистка… красивая.
– Ну так возьми ее. С нашей работой без этого нельзя. Баба нужна непременно.
– Она не хочет, – кисло сказал Горшков, чуть не пустив слезу от жалости к себе.
– Захочет. Пригрози, что арестуешь как японскую шпионку. Не, лучше польскую. Сразу ласковой станет.
– Своих разве можно? – недоумевал сержант.
– Теперь никаких своих нет, – твердо произнес Вощинин. – Есть разоблаченные враги, есть еще нераскрытые враги. И есть мы, чистильщики. За нас!
Он поднял стакан и звякнул им о край второго. Горшков больше пить не хотел, но стакан взял и, вдумчиво повертев его в пальцах, быстро влил содержимое внутрь.
– И дана ему всякая власть… – дохнув, непонятно выразился Вощинин.
– Чего? – Горшков не донес до рта корку хлеба.
– Так, ничего. Отец у нас дьячок церковный был. Читал нам с сестрой свои книжки поповские. Вот засело в башке… Пожрать бы, а? Чего у тебя в доме шаром покати, сержант? – возмутился Вощинин. Но вдруг пьяно наставил на Горшкова палец: – А мы, Сёма, жрецы того, кому дана власть.
– Товарища Сталина? – глупо вытаращился тот.
Вощинин перевернул бутылку, разливая остатки.
– За мудрого и бесстрашного вождя, за товарища Сталина!
4
Когда-то это была монашеская обитель. Один из монастырей-близнецов, стоявших бок о бок, словно отражавшихся друг в друге своими узорочными храмами с тонкими, вытянутыми главками, шатровыми колокольнями. Нынче церковная жизнь теплилась только в Благовещенском соборе. Соседняя Троицкая обитель, отданная военным и занятая под склады, стояла на замке, будто осажденная крепость. В Благовещенской же образовался жилой городок. Любые метры, где советский человек мог приклонить голову и обустроить скудный быт, превращались в квартиры. Только за башни ограды еще длился спор между домоуправлением, желавшим водворить в них жильцов, и населением монастырского городка, которое решительно настроено было сохранить в башнях свои дровники и свинарники. Та же негласная война шла за подклет Благовещенской церкви, забитый дровами, заселенный коровами, козами и свиньями. Бывало, когда наверху, в храме, шла служба, в пение хора вплеталось мычание буренок или в чтение Псалтыри на всенощной вторгался подхрюкивающий визг. Домоуправление добивалось выселения живности, однако, разумеется, вовсе не из сочувствия религиозному благолепию. Подклет решено было отдать под торговые склады.
Только надвратная Стефаниевская церковь сохраняла нейтральный статус, имевший даже оттенок культурности: была приспособлена под архив райисполкома. И то лишь потому, что имела в фасаде опасные трещины.
Отец Павел Устюжин, настоятель собора, шел от ворот вдоль монастырской ограды. Стена кренилась и угрожала в скором времени рухнуть. Священник удрученно размышлял, как бы ее подпереть, чтобы не упала кому-нибудь на голову. Он хорошо понимал, что производить такие действия не имеет права: советские законы оставляли церковным общинам только территорию храма. На метр дальше уже ничего нельзя – арестуют, обвинят в агитации и нелегальной деятельности. «Да и выровнять ее не получится, – вздохнул про себя отец Павел. – Только разобрать на кирпич».
Размышления его оборвал крик позади.
– Поп-вредитель, поп-шпион!.. – с интонацией считалочки вопили мальчишки, появившиеся на монастырской улице.
Худые грязные лица под широкими кепками, не по-детски хищные выражения мордочек. Ребятишкам лет по восемь – десять. Некоторых отец Павел знал – жили неподалеку, он часто видел их на улице. После занятий в школе они сбивались в стайки и промышляли злым озорством: драками, жульничеством, травлей прохожих.
Отец Павел жалел дичавших детей Советской страны. Жившие в домах, при родителях, учившиеся в школе, они мало чем отличались от беспризорников.
– Поп-вредитель, поп-шпион, а ну выходи вон!.. – скандировали мальчишки и смеялись, преследуя его по пятам.
Он остановился и повернулся к ним. Гурьба тоже встала в пяти метрах.
– Ну, вы все безбожники, как я вижу, – спокойно и даже чуть весело произнес священник. – А знаете, что прямо сейчас вы все помощники Божьи?
Шпана недоверчиво молчала.
– Сын Божий Иисус Христос говорил: блаженны гонимые, они войдут в рай, в Царство Небесное. Вот и вы сейчас меня гоните, а получается, что подгоняете в рай. Понятно вам, чумазые обезьянки? – улыбнулся отец Павел.
Гурьба шевельнулась, переглядываясь.
– Да он врет! Все попы врут! Еще и обзывается…
Один из шпаны наклонился, подобрал камень. Уже размахнулся, но тут раздался жесткий окрик: «Эй, пацан!», и в компанию охотников за скальпами врезался с ходу парень намного их старше. Он отвесил камнеметателю увесистый щелбан, отчего тот выронил боеприпас. Мальчишки брызнули в стороны. Через пару десятков метров, как капельки ртути, опять снова сбились в кучу и вдруг понеслись по улице в обратную сторону.









































