Читать книгу "Охота на Церковь"
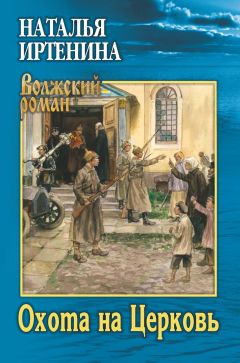
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Я к ней, – кивнул мальчишка, остановившись. – По делу. Отвали в сторону, фраер.
– Ты его знаешь? – спросил Морозов у Жени. Шпанец казался ему смутно знакомым. – Мелкий и наглый.
– Сашка, говори, не бойся, – сказала девушка. – Коля свой.
– Да кто тут боится-то. – Пацан скривил губы, чтобы выстрелить слюной на дорожку, но передумал. – Отец Димитрий сегодня не может. Поехал спроваживать на тот свет какую-то старуху. Придется вашему коммуняке подыхать без исповеди.
Он все-таки сплюнул, но без шпанецкого шика.
– Что же делать, Сашка? – взволновалась Женя. – Отец Димитрий единственный, кто согласился к нам приходить.
– Коммуняцкое покаяние все равно что честное слово вора. Не верь ему, пускай так дохнет.
Мальчишка почесал напрямую по траве, мимо дорожек, к воротам больницы. Женя стояла, касаясь руками висков. Морозов ничего не понял из их разговора, кроме того, что в диспансере отдает концы чахоточный партиец.
– Ты не представляешь, как тяжело они умирают, – заговорила девушка. – Те, которые без веры, без Бога, без покаяния. Со всеми смертными грехами на душе. Это как с мешком камней на закорках увязнуть в трясине. Смерть от туберкулеза мучительная, агония длится часами. А если умирать без надежды и без прощения…
– Да еще когда руки по локоть в крови… – подсказал Морозов.
– За тот год, что я здесь работаю, мать Серафима… то есть Анна Ивановна, наш врач… Она вернула к вере несколько человек, убедила их исповедаться перед смертью. Мы договорились с отцом Димитрием из Благовещенского собора, что он будет тайком по ночам приходить и совершать в ординаторской таинства. Но из партийных – этот первый. Он не доживет до утра…
Страдания агонизирующего коммуниста Морозова нисколько не трогали. Он вспомнил, откуда ему знаком нахальный шпанец.
– Это же Сашка Анциферов, главарь малолетних бандитов!
– Его мать наша медсестра. Тоже монахиня, как мать Серафима. Сашка парень добрый, отзывчивый. Только жизнь у него была такая, что без кулаков не выжил бы. А потом его просто затянуло в это разбойное болото… Но что же нам делать? – тревожилась Женя. – Где взять священника?
– Парень прав, незачем к коммунисту звать попа, – резко ответил Морозов. – Но если ты так переживаешь из-за него… Только ради тебя! Я схожу в Карабаново, там хороший священник, упрошу его. Отец Алексей Аристархов.
– Отец Алексей мой духовник, – чуть удивленно произнесла Женя. – До прошлой весны он служил на Казанке.
– Вот так мир тесен, – хмыкнул Николай.
– Я сейчас! – крикнула Женя, убегая по тропке. – Только отпрошусь у Серафимы. Тебе не нужно идти в Карабаново, я сама! Дорогу знаю…
– Так я тебя и отпустил одну, – пробормотал Морозов и крикнул вслед: – Буду ждать у ворот.
Свою полуторку он час назад поставил в гараж, и завгар повесил на дверь замок. Идти придется пешком – в сумерках, потом в темноте. Хорошо, если при луне. В обратный путь можно будет сговорить Степана Зимина. Дальний родственник по матери, такой же ссыльный горемыка, как и Морозовы, Степан родне не откажет, подвезет до города на лошади.
Женя обернулась быстро. Прибежала в своем старом летнем пальто, но санитаркин белый платок с головы снять забыла. Сумерки медленно плотнели. Людей на улицах, пока они шли по городу, становилось все меньше. В темнеющих окнах загорались огоньками лампы-керосинки. Женя торопилась и все равно шагала медленнее, чем мог Морозов, если бы отправился один. Не спрашивая разрешения, он взял ее за руку. Ощутил легкое сопротивление, но не выпустил.
– Хотел бы я поговорить с ним.
– С кем?
– С этим вашим коммунистом. Сколько людей они уморили ни за что. Ненавижу их. За всех мужиков и баб, которых они закопали в землю, обрекли на голод и мучение, ненавижу. – Морозов сорвался на тихий, вполголоса, но яростный крик, после которого ночная тишь пустынной улицы, пронизанная шорохами, показалась оглушительной. Через минуту он продолжил, едва сдерживаясь: – А самим-то помирать жутко. Бог ему понадобился, цепляется за жизнь, сволочь!
– Не надо так, Коля, – попросила девушка. – Господь всем нужен, и убийца может покаяться.
– Вам, женщинам, простительно верить в Бога. Вы слабый пол, вам нужна моральная подпорка в этом жестком мире. Да и то не всем, а таким… которые, как ты, и в навозе золото отыщут. Которые любить умеют, по-настоящему, по-человечески. Мужчина и без высших сил проживет.
– Вот и неправда! Святых намного больше мужчин, чем женщин. Князь Владимир, Сергий Радонежский… А Борис и Глеб?! Князь Глеб построил первый храм в Муроме, там теперь Спасо-Преображенский монастырь… то есть был, а сейчас военный гарнизон. В музее, где папа работает, хранятся мощи святых муромских князей. Их уже не выставляют, убрали в запасник, а несколько лет назад люди приходили в музей как в храм. Там в подвале, где ковчежцы с мощами, живет гробовая монахиня, присматривает за ними.
– Какая еще монахиня?!
– Обычная, из Дивеевского монастыря. Мать Емилия. По штату художник-оформитель. Она тебе такую экскурсию проведет – лучше любого специалиста.
– Когда они были, князья эти… – стоял на своем Морозов. – Сейчас все другое. Если бы был Бог, дал бы Он коммунистам убивать столько людей, простых крестьян? Они небось тоже в церкви ходили, иконам молились, чтобы Бог их от голода и от ссылок спас. Ну и где Он?
Женя выкрутила ладонь из его руки. В темноте Николай почти не различал ее черты, но почувствовал, как между ними просквозило холодком.
– А еще… – Он понимал, что его несет, и не мог остановиться. Разбирал злой смех. – У нас в Муроме история была. Ты, наверное, слышала. Или, может, вы тогда еще не жили здесь. Раньше в городе было больше церквей. Многие позакрывали, и в газетах объявили лотерею. Билет стоил один день работы с лопатой или киркой. А выигрышем был кролик, курица или поросенок, или еще какая ерунда. День объявили загодя, а ночью перед тем взорвали три церкви. Бабахало на весь город, как при пушечном обстреле. Утром толпы с инструментом пошли под марши разбирать завалы, которые от тех церквей остались. А вечером потащили по домам свои визжащие и квохчущие призы. Для муромских обывателей тот день был праздником. Думаешь, кто-то из них вспомнил про Бога?
– Какая дикая история, – содрогнулась Женя.
– Тем, кто смотрит на жизнь как борьбу за существование, Бог не нужен. Они сами за себя дерутся.
– Наверное, – задумчиво согласилась девушка. – У кого борьба за существование и поросята в награду, тому Бог не нужен…
Сиротливые избы, притулившиеся к городу с краю, закончились. Огоньки коптилок в окнах больше не вычерчивали направление дороги. Улица перешла в проселок, липкий от влажной грязи, норовящий подсунуть под ногу камень или выбоину.
– Послушай, я хотел тебя спросить. О твоей подруге. Не пойму, что вас связывает. Вы же совсем разные. Твоя Заборовская – комсомольская активистка. Ей велят – она и наган к поясу прицепит. Пойдет выколачивать из колхозников хлебозаготовки, последнее зерно отбирать.
– Нет, что ты, Муська не такая. Она только маскируется. Без комсомольского билета не возьмут в педагогический институт. А она хочет детей добру учить. Понимаешь, сейчас так мало добра в людях. Муська хорошая, чистая…
– Чистая… – Морозов снова поймал руку девушки. Остановился, развернул ее к себе. Лицо Жени было как светлое размытое пятно во тьме, но он влюбленно смотрел в этот свет, зная, что она не видит жадного и страстного выражения его глаз. – Для меня самая чистая – ты. К тебе никакая грязь не пристанет. А мы все – заляпаны, кто больше, кто меньше. Грязью себя трём, чтобы быть как все. Приспособляемся к этой жизни, к социализму…
Она потянула его вперед. Какое-то время шли молча, затем Женя с деланым смехом стала рассказывать, как Муська затащила ее на тайную сходку недорослей-заговорщиков.
– Представляешь, они там спорят, кто верней понимает социализм – Сталин, Троцкий или Гитлер. Кажется, они хотят, чтобы Сталина убили… как Кирова.
– Щенки… – вырвалась у Морозова внезапная злость. – Недоумки малолетние. Себя погубят и других. Не ходи к ним больше, это опасно!
– Но это же просто ребячья болтовня.
– Ты не понимаешь. Потому что не знаешь. Мне рассказывал человек, сидевший в лагере. Родственник. Там сотни или даже тысячи таких, которые по статье «Терроризм». Мизерная часть от этих тысяч в самом деле готовили бомбы для вождей. А большинство попало за разговоры. Или попросту за компанию. Или вообще ни за что. – Его пробрало дрожью от нервного возбуждения. – Это все очень серьезно, Женя!
– Я больше не пойду к ним, – тихо пообещала девушка.
Впереди над дорогой сверкнул, пробив облака, узкий серебряный серп. Будто незримый в высях жнец приготовился к жатве, когда будут перерезаны тонкие нити чьих-то уже подвешенных судеб.
17
– Мне бы к начальнику, – повторяла женщина, жалко улыбаясь.
– Гражданка, я вам который раз говорю, – лениво растягивая слова, объяснял дежурный за столом при входе в райотдел НКВД. – Не могу я вас пропустить. По личному делу не положено. Записывайтесь на прием, вам выпишут пропуск.
– Так еще когда выпишут, – заискивающе убеждала женщина. – Мне бы сегодня. С работы отпросилась, в другой день не отпустят.
– Последний раз вам говорю, гражданка…
– Нестеренко, что тут у тебя? – У дежурного пункта задержался проходивший мимо сотрудник.
– Да вот, товарищ сержант, гражданка непонятливая. Я ей уже десять минут толкую: по личному делу начальник райотдела не принимает…
Улыбка женщины стала еще более жалкой и робкой. Растерянный взгляд метался между гладким холеным лицом чекиста лет сорока и угольниками на его петлицах. Рука инстинктивно потянулась поправить кружевной воротничок кофточки, давно утратившей первоначальный цвет.
– Какое у вас дело, гражданка?
– Вы начальство? – с крепнущей надеждой во взоре спросила она.
– Сержант госбезопасности Малютин. Так какое у вас дело?
Женщина торопливо раскрыла сумочку и протянула ему листок разлинованной бумаги.
– Вот.
Пробежав глазами написанное, чекист, вопреки ее ожиданиям, не проявил интереса.
– Такого добра у Вощинина уже пачка, – отнесся он к дежурному. – Вызови его, пускай оформит.
Сержант положил листок на стол и повернулся уходить.
– У меня тоже пачка… – упавшим голосом сообщила его спине женщина.
Чекист быстро обернулся.
– Где вы это взяли?
– Дома… у сына под кроватью, – выдавила она.
Дежурный присвистнул.
– Не надо Вощинина, – отменил сержант свой приказ. – Я отведу гражданку к Кольцову.
Чекист забрал со стола листок и проводил женщину в конец широкого коридора на втором этаже. Велел ждать, затем распахнул перед ней дверь кабинета с табличкой «П.Н. Кольцов». У порога она застыла, словно опасаясь перешагнуть или ослабев от страха ногами. Сержант мягко, но сильно втолкнул ее и закрыл дверь.
Начальник райотдела Прохор Никитич Кольцов сидел за обширным столом. В одной руке он держал тетрадный листок, жестом второй велел женщине сесть напротив.
– Так, гражданка. Где эта пачка листовок, которую вы обнаружили у своего сына?
Из сумочки на этот раз медленно, боязливо она извлекла стопку листов в линейку. Кольцов, приподнявшись с кресла, стремительным хищным движением схватил всю пачку как добычу. Перебирая листы, он убедился, что на каждом написано одно и то же: «Смерть угнетателю народа и кровопийце Сталину! Да здравствует Ворошилов! Колхоз – крепостное право большевиков. Раньше рабочие и крестьяне жили лучше. Долой советскую власть. Граждане, обратите внимание на эту листовку! Союз Борьбы за Народное Дело».
– В стране дефицит бумаги, – пробрюзжал Кольцов, пересчитав листки. Их оказалось двадцать два, все исписаны одним почерком. – А эти негодяи еще и крадут у школы тетрадки.
– Я их Вовке в Горьком достала, – сжавшись в страхе, сообщила женщина.
Младший лейтенант госбезопасности, сурово глядя на нее, взялся за ручку.
– Фамилия, имя, отчество, происхождение, адрес проживания…
Через четверть часа Кольцов снял трубку телефона и вызвал оперативников: «Бегом ко мне!»
– Вы же ничего не сделаете моему Вовке? – всхлипнула женщина и достала из рукава кофточки носовой платок. – Ему только тринадцать…
– Да вы в своем уме, гражданка Соловейчик, а? – раздраженно напустился на нее начальник РО. – У вас под носом антисоветское подполье выросло, а вы сыночка выгораживаете! Лучше воспитывать надо было. Арестуем и расстреляем к чертовой матери, холера!
Несчастную сотрясли рыдания. Кольцов налил воды, поставил перед ней стакан.
– Как же… воспитывать… – Сдавленное плачем горло женщины выталкивало слова по одному. – Муж… не знаю… где… ушел… на заработки… пропал… Уборщицей… работаю… с утра… до ночи… Вовка… с хулиганами…
– Ну ладно, ладно, – смягчился Кольцов, – ничего с твоим несовершеннолетним бандитом не случится. Поживет в колонии пару лет. А пока посидит у нас, на вопросы ответит. Поняла, а? Ты, Евдокия Петровна, молодец. Правильно сделала, что к нам пришла. Проявила бдительность и сознательность. Настоящий советский человек!
В кабинет, постучавшись, вошел сержант Горшков.
– Вощинин где? – заорал на него начальник.
– Отрабатывает оперативное мероприятие, товарищ младший лейтенант, – несколько ошалев, доложил сержант.
– Значит, так, Горшков. Живо дуй по этому адресу. – Кольцов черкал в бланке ордера. – Мальчишку взять аккуратно. Припугни и постарайся сразу вытащить из него, сколько человек в организации, кто руководит, поименно. Все сделать без шума и быстро.
– А мне… – полуобморочно пролепетала женщина, – ехать с ними?
– Вы, гражданка, задерживаетесь до ареста вашего сына, – строго сказал начальник райотдела. – Горшков! Передай гражданку Соловейчик дежурному.
После их ухода Кольцов обмахнул вспотевшее лицо и шею платком. С неприязнью поворошил стопку возмутительных листовок, подцепил одну. Дело можно было считать почти раскрытым. Мальчишка, конечно, моментально расколется, пустит сопли и сдаст остальных. Выйти на взрослых организаторов диверсионного подполья будет несложно. Младший лейтенант усмехнулся: «Союз борьбы за народное дело… Сукины дети, а! Вот они, твари-троцкисты. Щупальца распустили. Детскими руками делают свою черную работу, холера…» Из нижнего высокого ящика стола Кольцов достал бутылку марочного грузинского коньяка и на глаз отмерил в стакан пятьдесят грамм. Подумав, встал с кресла и повернулся лицом к портрету Ежова.
– Вот так, товарищ генеральный комиссар госбезопасности. Мы тоже умеем показывать образцы сталинского стиля работы!
Он опрокинул коньяк в горло.
18
Раннее утро того же дня на бывшей Нижегородской улице, по-новому называвшейся Воровского, в народе переиначенной на Воровскую, началось с тревоги. Обитателей высокого бревенчатого дома поднял спозаранку настойчивый стук в дверь.
– На вас лица нет, отец Алексей! Что с вами?
– Простите… Простите, Елизавета Васильевна. И вы, отец Павел. Ради Бога… Мне бы немного передохнуть. Посижу у вас…
Священник почти упал на лавку в передней, точно подкосило ноги.
– Вас вызывали в НКВД? Вы от них? – уверенно предположил отец Павел Устюжин, настоятель Благовещенского собора. – Боже, что они там с вами вытворяли?..
– Нет, на этот раз не от них, – помотал головой отец Алексей. Квартирная хозяйка отца Павла щупала его лоб, пытаясь определить причину болезненного состояния внезапного гостя. – Благодарю вас, Елизавета Васильевна, я не болен.
– Вас трясет, как в лихорадке, батюшка. Пойду-ка поставлю чайник. – Почтенных лет женщина оставила их вдвоем, догадавшись, что объяснения не предназначены для ее ушей.
Отец Алексей поднял руки и посмотрел на мелко дрожавшие кисти. Лицо его было изжелта-бледным, с залегшей вокруг глаз синевой. Он казался смертельно утомленным, выжатым досуха.
– Давайте ко мне наверх. Я помогу.
Отец Павел почти взвалил гостя на себя и повел по лестнице на второй этаж. Комната, в которой он жил, обставлена была скромно: кровать, крохотный шкафчик для одежды и книг, столик с табуретом. На смятую постель он быстро набросил покрывало и усадил отца Алексея. Налил из графина воды в стакан.
– Теперь рассказывайте.
Выпив до дна, тот заговорил:
– Я принимал исповедь умирающего. – Он стал расстегивать телогрейку, под которой висела на груди холщовая сумка со священническим инвентарем. – За двенадцать лет практики в сане я никогда не слышал такого… Никогда не сталкивался с подобным… А ведь бывало всякое… Но такого ужаса… Как я вытерпел это, не понимаю… Я чувствовал, как волосы на голове шевелятся, да, в буквальном смысле… Сознаюсь, в иные минуты мне хотелось придушить его… Накинуть подушку на голову и… покончить с этим кошмаром. – Он точно сам исповедовался отцу Павлу в тяжком грехе. – Видит Бог, я не должен был принимать эту исповедь… я оказался слишком слаб для такого… такого опыта.
– Кого вы исповедовали? – Хозяин комнатки был обескуражен. – Я, понимаете, отче, тоже впервые слышу, чтобы священнику хотелось задушить кающегося грешника. Это, должно быть, что-то невероятное… за гранью?
– Вам доводилось принимать исповедь у коммуниста? – В голосе отца Алексея еще слышались отзвуки пережитого потрясения. – Здесь именно тот невероятный случай. Каким чрезвычайным воздействием Господь достучался до этой обугленной души, одному Ему ведомо. Но, кроме ужасов, которые этот человек из себя вытаскивал, я увидел на нем поистине безбрежную милость Божью. Он был по плечи в аду и должен был, по логике вещей, уйти туда целиком. Но Христос протянул ему руку и вытащил…
– Славен Господь! – с живым чувством откликнулся отец Павел. – Хоть это было весьма тяжело для вас, отче, но какое утешение всем нам в этой истории.
– Одна капля еще не дождь, – качнул головой его гость. – Один проблеск солнца не делает погоды… Но теперь вы понимаете, почему я пришел к вам. Я не мог возвращаться домой в таком состоянии, перепугал бы жену и детей.
– Вы не нарушите тайну исповеди, если поведаете мне в двух словах, что вас так измучило.
После недолгих размышлений и колебаний отец Алексей стал рассказывать:
– Я только в лагере смерти под Холмогорами слышал подобное. О зверствах, которые творились в Гражданскую войну. Об этом говорили между собой пленные белые офицеры, воевавшие на юге. Как красные зачищали казачьи станицы. Хотя… я не только слышал, но и видел. Ранней осенью двадцатого в лагерь привезли большую партию офицеров-кубанцев. Около шести тысяч. В течение месяца их партиями сажали на баржу и отправляли вверх по Двине. Возвращалась баржа всегда пустая. С кровью на полу и стенках, с ошметками мозгов. А в щелях между досками – прощальные записки, которые второпях писали эти несчастные. То, что мы с вами, отец Павел, пережили в Вишерском лагере, по сравнению с этим – образец советского гуманизма. В Вишлаге людей отправляли на тот свет естественным, так сказать, способом… Коммунист, которого я исповедовал, служил в карательной части. Вы бы слышали, с какой нечеловеческой точностью он перечислял своих жертв. Словно они записаны у него в бухгалтерской книге. Казачьи жены, мальчики-подростки, старики, церковнослужители… Он не просто рассказывал. Он в самом деле каялся. Страшился унести эту гору преступлений с собой в могилу. У меня в этом не было сомнений. Где-то через час от начала исповеди его затрясло. Так сильно, что тело подымалось на постели. Его будто подбрасывало кверху. Лицо сделалось жутким, черты исказились. Я не знаю, что для меня оказалось страшнее, – сама исповедь или вот это. Я приложил к его голове крест и читал молитвы, пока беснование не прошло. Когда он наконец выговорился, я отпустил ему грехи и дал причастие. Но… когда я произносил слова разрешительной молитвы, что-то мучило меня. Мне ясно представлялось, что я не должен этого делать, грехи этого человека слишком велики и не мне их отпускать…
– Вы все сделали верно. Не терзайте себя напрасными сомнениями. – Отец Павел, присевший было на табурет, поднялся на стук в дверь. Квартирная хозяйка принесла горячий чайник с чашками. Приняв у нее поднос, он предложил гостю: – А не выпить ли нам, батюшка, по чарочке? Вам, как вижу, сегодня не служить. И мне нет, не мой черед.
Он вышел на лестницу, пошептался с Елизаветой Васильевной. Через несколько минут оба священника попивали душистый чай из травяной смеси с добавкой вишневой настойки, которую хранила в своих домашних запасах почтенная женщина.
– Завидую я вам, отец Алексей. По-хорошему завидую. С семьей живете, с супругой и детьми. Умом понимаю, что рискуете, подвергаете их тяжким испытаниям, и на словах советовал бы вам разъехаться с ними для вашего же спокойствия. А в душе завидую вашему семейному уюту. Сам не увидел, как взрослели сыновья: лагерь, потом я уехал в Муром, Клавдия с детьми осталась во Владимире. Теперь оба сына в Москве, сделались настоящими заводскими пролетариями… – Отец Павел сбился с задушевной интонации и слегка нахмурился. – Семья в теперешнее время – великое сокровище, которое нужно беречь от чужих глаз. А пуще всего – от властей предержащих. Только в семье еще можно отдохнуть от нашей жутковатой советской действительности. В семье да в храме. Но мы вынуждены бежать от своих домашних, чтобы защитить их. А храмов у нас скоро не останется. Будем служить в лесу, среди березок и сосенок. Оставят в столице один какой-нибудь, как ширму для показа иностранцам. Во Владимире уже нет ни единого действующего храма. Моя Клавдия с младшими детьми осиротели без церковной службы… Вот кстати! Древний Владимир может лишиться даже своего имени. Наши власти хотят переименовать его в честь первого секретаря Горьковского обкома Кагановича. Как вам это нравится?
– Плохие новости от ваших? – скорее почувствовал неладное, чем догадался, отец Алексей.
– В апреле арестовали в Москве старшего сына. – Отец Павел, скрывая печаль, занялся чаем: наполнил заново чашки и плеснул в каждую по капельке рубиновой настойки. – Клавдия думает, на Сергея донесли. Кто-то, наверное, прознал, что его отец священник. Сокрытия подобных фактов в анкете Советское государство не прощает. А может быть, он неосторожно сказал что-нибудь. Бедный мой мальчик…
– Меня, по-видимому, тоже скоро арестуют. – Отец Алексей коротко поведал о недавнем вызове в НКВД.
– Да, снова подбираются к нам, – рассеянно покивал отец Павел. – Через сыновей, через прихожан… Этот тарантул не выпустит нас из своих жвал. Всех нас время от времени таскают в заведение имени безумного Железного Феликса. Стращают, нащупывают слабые места… Не поддавайтесь им. Может быть, не арестуют, а вот сломать, сделать предателем, секретным сотрудником… сексотом, как они это называют, – очень могут.
– А знаете, отец Павел, по вопросам, которые задавал чекист, по его осведомленности я понял, что кто-то доносит на меня. Им известны подробности, которые я рассказывал в узком кругу…
– У вас кто-то конкретно на подозрении?
– Возможно… Возможно, я ошибаюсь… но грешу на моего дьякона Крапивницкого.
– Я немедленно сообщу отцу благочинному.
– Нет, прошу вас, не делайте поспешных шагов, – взволновался отец Алексей. – Если я ошибся, пострадает невиновный. Но если меня все же арестуют… я бы хотел, чтобы вы, как старый друг, кое-что сделали для меня… для моей семьи, точнее.
– Все, что в моих силах.
– Меня тревожит мой сын Михаил. Он очень замкнут и ничего не говорит, что происходит с ним. Я вижу: он что-то копит в себе, сторонится меня… в храме бывает все реже. Прошу вас, отец Павел, приглядите за ним… Мне кажется, я что-то упустил в мальчике. Советская школа с ее комсомолией прямо сейчас перемалывает его душу, и я ничего уже не успею изменить, вернуть его доверие…
– Наши дети – наша боль, – тяжело вздохнул отец Павел.
– Вы слышали об антисоветских листовках в городе? – вдруг сменил тему отец Алексей. – Похоже, хулиганят подростки. У нас в селе тоже появлялась парочка таких, на колхозном правлении и на клубе, бывшей церкви. Я спрашивал своих младших, не замешаны ли они в этом. Не признались, и я им верю. Однако чьи бы то ни были дети, они затеяли опасное дело. Для них это, вероятно, игра в подпольщиков. Но чекисты непременно раздуют из этого заговор и назначат ему взрослых руководителей.
– Имея опыт знакомства с обычаями советской тайной полиции, ни капли в этом не сомневаюсь.
Тяжесть, заполнившая душу отца Алексея этой ночью, как расплавленный металл – форму для отливки, понемногу рассеивалась. Отставив пустую чашку, он засмотрелся в окно. На город надвигался дождь, раскатисто погромыхивала далекая гроза. Темные набухшие тучи перевернулись в его сознании, разлились свинцовыми водами Северной Двины. По реке тарахтела мотором, возвращаясь, пустая баржа с записками в щелях…
19
Младший лейтенант Кольцов недооценил упорство несовершеннолетнего контрреволюционера Вовки Соловейчика. Раскололся тот лишь на пятый день: назвал еще двоих. Но организатором подполья упрямо указывал своего дружка и одноклассника Митьку Звягина, умалчивая об истинном руководстве антисоветской группы подростков, в существовании которого у чекистов не было сомнений.
В девять утра жилище Звягиных, обычно пустевшее к этому часу по будням, было заполнено людьми. Две тесные комнатушки рабочей казармы, построенной еще при хозяевах-капиталистах, вместили помощника оперуполномоченного Кондратьева и самого оперуполномоченного сержанта Горшкова, участкового милиционера и двух понятых – не считая хозяйки квартиры Звягиной, уже опоздавшей на работу, и двух Звягиных-младших, не успевших уйти в школу. Глава семьи отправлялся на завод по гудку к семи часам: его не застали, но выписали повестку.
Митька нахохлился на табурете и тер зашибленный локоть. Как только в квартиру зашли чужаки и потребовали у матери предъявить младшего сына, Митька предпринял дерзкую попытку дать деру через окно. Нырнуть рыбкой не удалось, его выловила жесткая рука милиционера Терехина. Окно тут же закрыли на шпингалет, а Терехин встал рядом с Митькиным табуретом и для надежности держал пацана за плечо.
Леньку-Марлена усадили на стул в углу комнаты, чтобы не мешался. Он пробовал заикнуться про школу и экзамены, но проводивший обыск сержант коротко велел: «Сидеть!» От напряженной позы затекли мышцы, однако расслабиться Ленька не мог. Он внимательно следил, как чужие руки роются в ящиках комода с бельем, рубашками и материными юбками. Как прощупывают постели, вытряхивают школьные портфели, залезают под стол, простукивают стены.
Мать скорчилась на голой пружинной сетке кровати, с которой сбросили матрас. Безвольно опущенные руки, помертвевшее лицо – она была страшно напугана и безмолвно переживала внутри себя весь ужас происходящего.
Смежную комнату, спальню родителей, считавшуюся также столовой, уже обыскали – ничего не нашли. Когда младший чекист, мелкорослый крепыш с нахальной рожей, принялся трясти книги со стенной полки и бросать на пол, Ленька не выдержал. Заорал на него:
– Что вы делаете, это же книги! Не смейте трогать, вы, бессмысленные вандалы!..
Терехин, сделав шаг, железной рукой пригвоздил его к стулу. Помощник оперуполномоченного Кондратьев лишь ухмыльнулся и продолжил выкидывать с полки тома Ленькиной любовно собранной библиотечки.
– Камо… гря… де… – попытался прочесть он название. – Чушь какая-то.
Кондратьев тряхнул книгу: на пол спикировал сложенный пополам листок. Чекист быстро поднял его. Ленька обмяк, стиснул зубы и закрыл глаза. Теперь можно расслабиться. Теперь уже все равно. Энкавэдист, запинаясь, изумленно бормотал:
– Кирова убили… туда ему дорога… Их не жаль угробить… даже всех… – И вдруг завопил стоявшему в метре от него старшему чекисту: – Товарищ сержант!!!
Горшков вырвал листок из рук помощника.
– «…Скоро власть Советов вылетит, как пробка из пивной бутылки» на панель…
Оглядев поочередно братьев, он шагнул к Леньке и сунул бумагу ему под нос:
– Стишками балуемся, контра малолетняя?
– Это не мое! – огрызнулся парень. – Нашел на улице. Хотел сдать в милицию, не успел.
– Почерк сверим, – кивнул Горшков. – Если не писал, значит, хранил. Хранение антисоветской литературы – статья пятьдесят восемь, пункт…
– Товарищ сержант, тут еще! – Кондратьев светился, как серебряный рубль, примеряя на себе лавры удачливого сыскаря. Он передал Горшкову толстый альбом в твердом кожаном переплете с листами для рисования карандашом. – Буржуйская вещь.
– Купил на барахолке, – презрительно сказал Ленька и отвернулся. Не мог смотреть, как два бессмысленных вандала будут читать его личный дневник.
За два года, с того дня, когда он решил подробно записывать свои мысли, ощущения, переживания, анализировать поступки и делать лирические зарисовки, альбом заполнился почти целиком. Каждый день работать с дневником, как думалось сперва, конечно, не получалось. Иначе давно понадобился бы второй такой альбом, а то и третий. Записи, сделанные убористым почерком, датировались неравномерно: иногда по две-три в неделю, иногда по одной в месяц.
Старший чекист листал страницы, неторопливо просматривал и с возмущенной интонацией выхватывал самые острые фразы:
– «Прошло время, когда большевиков можно было уважать, они давно стали предателями и угнетателями народа… Стахановское движение придумали для того, чтобы выжимать последние соки из рабочего класса и крестьян…» – Горшков перевернул сразу много листов и попал в записи прошедшей зимы. Пробежал глазами, прочел вслух: – «Думаю, этот поп хороший человек. Но зачем ему бог? Еще он сказал: люди стали злы друг на друга, нужно бороться со злом, оно внутри…»
– Хватит! – выкрикнул Ленька, едва сдерживая гнев. – Вас, что ли, не учили, что читать чужие дневники неприлично?
– Это уже не дневник, парень. – Чекист взмахнул альбомом. – Это улика. Вещественное доказательство!
Обыск закончился. Обе комнаты были распотрошены, завалены брошенными вещами.
– Граждане понятые, дождитесь составления протокола. Товарищ Терехин, приглядите тут за этими… антисоветскими элементами. Кондратьев, за мной.
Сержант вышел в соседнюю комнату, где посередине стоял круглый стол под скатертью с бахромой.
– Ну вот что, Кондратьев. – Он подошел к помощнику так близко, чтобы можно было говорить шепотом, и смотрел в упор. – Выкладывайте из карманов все, что стырили.
– С чего это? – Кондратьев сделал невинные глаза. – Ничего я не тырил, товарищ сержант. Наговариваете на меня, чесслово.
Горшков почти уперся грудью в коренастую фигуру помощника.
– Я сейчас при понятых проведу обыск ваших карманов, – тихо пригрозил он.
– Ладно, ладно. – Кондратьев с недовольной физиономией пошарил в верхнем кармане гимнастерки и бросил на стол серебряную цепочку. – Больше ничего. Тут и брать-то нечего, голь заводская. А вы, товарищ сержант, ну прямо как жид, которому для русского человека жалко какой-то дряни.









































