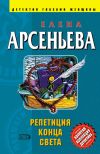Текст книги "Племенной скот"

Автор книги: Наталья Лебедева
Жанр: Любовно-фантастические романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Ну! – сердито сказал старик, приподнимая левую бровь. – Чем похвастаете?
– В каком смысле? – удивился Иван.
– Как в каком? Ну должна же быть в государстве хоть одна диковинка иль нет?
– Нет, – Иван смущенно развел руками. – У нас без диковинок. По-обычному…
– А! Скукота тогда у вас! – Царь раздраженно махнул рукой и откинулся на спинку кресла, показывая, что в таком случае ему с Иваном не о чем и разговаривать. – Ну разве что от бедности… Тогда уж можно вам скукоту простить. Хотя, смотрю, на свадьбу не поскупились.
Иван хотел возразить, что не от бедности вовсе нет у них диковинок, но слов не нашел, а тем временем его собеседник продолжил, краем глаза поглядывая на других правителей, сидевших тут же, – слышат ли:
– А вот у меня таки есть диковинка!
Иван смолчал, но вот другой его сосед, моложавый и высокий, спросил, ехидно прищурившись:
– И какая же?
Толстяк только этого и ждал и даже облокотился на стол, чтобы слова его вернее достигли ушей соседа:
– Жар-птица. Вся, брат, из золота, клюв и глазки – из драгоценных камней, лапки – серебряные. И ночью светло от ее, как днем. А перо из хвоста у ней дернешь – и перо станет светить. Только вот, зараза, новое не отрастет. А еще поет она на разные голоса. И по-человечьи тоже поет.
– Прям слова? – Высокий царь был полон недоверия.
– И словами может. И песня у нее каждый раз разная, – победным жестом толстяк оттолкнул от себя тарелку с недоеденным угощением, и та закружилась по столу, сшибая по пути рюмки. Сам же царь снова откинулся в кресле. Он так раздувался от гордости, что Ивану казалось: ему скоро станет тесно между подлокотниками.
– Птица что! – махнул рукой высокий. – Вот я слышал, что конь есть где-то – в Козино, что ль, у царя тамошнего. Вот так чудо-конь! Вот полезное чудо! Говорят, сел на него, пришпорил, и – фьюить! – где тебе надо оказался вот хоть в полчаса. Даже, говорят, там, куда и за год не доедешь! А ты – птица! Что твоя птица супротив того коня!
– Так а красота? – Толстый не терялся, а все поглядывал на собеседника со снисхождением. – Коню-то с чудо-птицей не тягаться!
– Так конь-то тоже, говорят, красоты неописуемой: и пар из ноздрей, и сбруя узорчатая, и грива огнем горит – будто сполохи в ней играют, и стать у него!.. И, однако же, польза!
– А у тебя и того нет! – Толстый запыхтел и ткнул вилкой, которой собирался подцепить кусок мяса, в направлении своего язвительного соседа. Но тот тоже не растерялся и, перегнувшись к обладателю птицы через стол, спросил:
– А знать бы мне, где такие диковинки берут, уж я бы себе сторговал! Чай, побогаче тебя буду! Вот ты – где ты птицу добыл? Или украл для тебя кто?
– Скажешь – украл! Места надо знать! Вот ты не знаешь, а я знаю…
Тут толстяк умолк на полуслове – и так и остался: с открытым ртом, с поднятой для убедительности рукой. Он смотрел на дверь, и его долговязый собеседник смотрел на дверь, и все гости, один за одним, словно их дергали за ниточки, поворачивали головы к двери. Взглянул и Иван.
Взглянул – и обмер.
Василиса была чудо как хороша. В свете свечей ее платье мерцало золотом и серебром: в жизни своей Иван не видел такой роскошной парчи. Платье было широким, под ним угадывались несколько слоев тонкой ткани, и все это рождало странное ощущение от Василисиной фигуры: она была и объемной, притягивающей взгляды, и одновременно хрупкой. На голове ее была диадема, украшенная волшебным камнем. Прозрачный и чистый, он сиял, словно звезда, разбрасывая вокруг холодные, льдистые отблески. В толстую Василисину косу вплетены были золотые и серебряные нити, и уголки плотной, блестящей ленты выглядывали из-под косы, точно рожки полумесяца.
Зал замер. Гости перестали жевать. Все смотрели только на нее. По лицу соседских царей Иван понял, что они забыли все: и коней, и птиц – и теперь только это чудо станут почитать величайшим на свете. Он встал и поспешил к невесте, стремясь скорее вызволить ее из ловушки пристальных взглядов.
Пока они рука об руку шли к столу, слуги, подсуетившись, принесли будущей царевне кресло. Иван шел и видел, как одобрительно кивает ему головой отец, сидевший все это время рядом, но за целый день ни разу не обративший на него внимания. Его переполняла гордость.
Иван никак не мог насмотреться на свою невесту. Сейчас, в праздничном, почти волшебном убранстве да на фоне остальных гостей Василиса казалась еще красивее. Она двигалась плавно, словно танцевала. Голос ее был нежным. Она не подвякивала в конце каждого слова, как Анна, не басила и не причмокивала, как Татьяна, и слово к слову подбирала ладно, словно читала по книге.
Да и в другом она оказалась лучше: Иван видел рядом с нею братниных невест и не мог понять, как раньше они могли казаться ему симпатичными. Анна сидела, потупив глаза, сложив на коленях костлявые руки. Каждое движение давалась ей с трудом: то она задевала острым локтем соседа, то поворачивала голову как раз в тот момент, когда слуги подносили ей новое яство, и едва не опрокидывала услужливо поданную тарелку. Татьяна же осоловела от выпитого вина и растекалась по столу квашней. Глаза ее сонно хлопали и жмурились, на губах гуляла рассеянная улыбка, на тонком белом рукаве желтело жирное пятно.
Иван наклонился к Василисе и тихонько сказал ей на ухо:
– Да ты у меня прям царская дочь!
– Не поверишь, – ответила она, и от ее бархатного шепота у Ивана по спине побежали мурашки, – я царевна и есть. Самая что ни на есть настоящая!
Иван не успел удивиться или задать другой вопрос: батюшка-царь, бесцеремонно вклинившись между гостями, уселся напротив и радостно сказал:
– Ну, Ванька, ты молодец! Вот это я понимаю: это – невеста! Всех братьёв переплюнул с такой-то невестой.
Василиса, покраснев от смущения, опустила глаза, а потом сказала:
– Ну что вы, Афанасий Михайлович… Не стоит так.
– Стоит, стоит! – уверенно заявил царь, наливая себе водки. – Еще как стоит! Ну? Когда свадьбу думаете играть?
– Как скажешь, – Иван почтительно склонил перед отцом голову. – Хоть завтра!
И при мысли, что уже завтра он сможет назвать чудесную красавицу своей, у него кольнуло сердце. Но отец возразил:
– Нет, Вань. Завтра никак нельзя. Опять же пир надо, столы накрыть, палаты убрать. А казна-то пустовата – вот ведь беда. Вон, Елисей Петрович, – он кивнул на толстого царя, – три шкуры с меня за выделанные шкуры дерет!
– Да если они стоят дорого?! В убыток себе, что ли, торговать я буду?! – Толстяк от возмущения стал говорить с набитым ртом, и в сторону царя полетели пережеванные кусочки мяса.
– Ладно уж, уймись, Елисей! – досадливо поморщился царь. – Потом поговорим, после. Ты ешь-пей сейчас. Вот, – продолжил он шепотом, наклонившись к Василисе и Ивану, – уже на пир его позвал. Думал, под шумок да под закусочку, да ради праздничка помягчает. А он ни в какую! А кожи нужны: и на армию, и себе одежу пошить…
И, подперев щеку рукой, царь загрустил. Иван улыбнулся: в такие моменты царь был похож на ребенка несмотря на все свои морщины.
– А вы, – наклонившись над столом, Василиса тоже зашептала, – не думали у себя кожевенное производство открыть?
– Так нет у нас в Маслово кожевенников.
– А вы их приманите.
– Это как? – Царь заинтересованно поднял голову.
– Вы вот скажите: люди ваши дань платят? Или, там, мзду, ясак… В общем, деньги в казну.
– Платят. А как же? А как же иначе армию содержать, думных бояр, двор тож? Это ж государство! – Царь приосанился.
– Ну вот. А вы и объявите, что кожевенникам, которые тут будут селиться, налога платить не надо, и что, напротив, землю вы им дадите под постройку домов, да тесу на избы. Да вы знаете, как они к вам повалят? У Елисея вашего Петровича скоро ни одного не останется, все у вас будут. Вы только велите им селиться не в городе, а у стен, своей слободой. Так и город-то ваш прирастать будет. А стену крепостную потом перенесете.
– Ну девка! Ну девка! – Царь от восторга даже подпрыгивать стал на месте. – Вот царицей кому быть, не то что этой квашне! А давай мы Даньку с Танькой разведем, а тебя за него отдадим, а? Чтоб за царство я спокоен был, а?
– Нет, не надо, Афанасий Михайлович, – Василиса тихонько улыбнулась, – я уж лучше с Иванушкой останусь.
– И то верно, – царь поспешно согласился, понимая, что погорячился. – Чего по женихам-то скакать? Не шалава, чай! А теперь вот скажи мне, – в глазах царя зажегся огонек, и Иван понял, что отец теперь не отстанет, – вот ярмарка наша хиреет. Все купцы-торговцы едут в Перхурово, а к нам только те, кто похуже. И что мне теперь делать?
Царь придвинулся к Василисе совсем уж близко, и рука его, сминая драгоценную парчу, цепко ухватила руку красавицы, а грудь примяла жареных рябчиков, горой лежащих на блюде посреди стола. Ивану неприятно было смотреть на отца. Он видел, что Василисе тоже неприятно, но он бессилен был что-то сделать.
Тихий разговор о торговле и внутренних делах государства скоро перестал его занимать: Иван был третьим сыном, и к делам государственного управления его не допускали. Сначала царевич сидел, скучая, а потом, пораженный внезапной идеей и немного успокоившись по поводу намерений отца, потихоньку вышел из зала. Длинный коридор встретил его прохладой и свежестью. Иван поспешил прочь, побежал по многочисленным переходам, вверх и вниз по лестницам – и наконец достиг комнаты невесты.
Здесь было темно. Лишь тлели, совсем не давая света, угли в печи. Иван раздул их, подбросил дров и засветил пару свечей. То, ради чего он пришел сюда, обнаружилось на лавке: крохотный, едва заметный сверток темно-зеленого лягушачьего цвета.
Царевич взял его, повертел в руках. От случайного нажатия сверток, щелкнув, раскрылся сам, и из узкой, похожей на пасть какой-нибудь гадины, щели полезла тонкая лягушачья кожа.
Иван дотронулся до нее: кожа была бархатистой и теплой, словно даже без своей хозяйки оставалась живой, и это внушило ему еще большее отвращение. Он отбросил ее от себя. Кожа распласталась на полу, из-под неряшливой буро-зеленой кучи выпросталась вдруг пустая, незаполненная плотью рука с узкими, похожими на щупальца пальцами. Вокруг плясали по половицам отблески огня из неплотно прикрытой топки. Взяв кочергу, Иван подцепил ею шкурку. Он еще какое-то время смотрел на нее, поворачивая то одной, то другой стороной, и все не решался сделать то, за чем пришел. Однако вскоре на лестнице послышались торопливые шаги: кто-то спускался. Иван вздрогнул. Быстрым движением он пихнул кочергу в печь. Кожа затрещала, вспыхнула, съежилась. Тонкая рука взметнулась на мгновение вверх, будто прося пощады. Послышался сдавленный крик. Иван обернулся: в дверях стояла Василиса. Прикрыв рот рукой, она смотрела на Ивана.
– Прости, – сказал он и вышел из комнаты. Ему было плохо, он чувствовал себя виноватым, но в тот момент точно знал, что все сделал правильно, и надеялся, что Василиса тоже когда-нибудь это поймет.
Он лег в кровать, укрылся по горло одеялом, как укрывался только в детстве, и почти сразу уснул. Ничто не мучило и не тревожило его в эту ночь. Он был уверен, что внизу, в маленькой уютной комнате спит сейчас обычная, живая женщина, ничего общего не имеющая с нечистью.
Наутро, умывшись и плотно позавтракав роскошными остатками вчерашнего пира, Иван оделся в лучшую свою одежду и отправился к Василисе. Где-то в глубине души он все-таки чувствовал себя виноватым за вчерашнее, а потому не стал входить без спросу, а вежливо постучал и склонил голову, надеясь услышать: «Входи!» Но в комнате было поразительно тихо: Иван не услышал ни звука, ни шороха. Он постучал еще и еще раз. Ничего. Тревога закралась в его сердце. Царевич вдруг подумал, не сбежала ли, обидевшись, невеста, – и распахнул дверь.
Василиса была там. Она лежала поперек кровати в своем роскошном парчовом платье. Ноги ее свисали почти до пола, голова неестественно запрокинулась, дыхание было шумным и хриплым.
Иван бросился к невесте, обнял, уложил на кровати поудобнее, сунул ей под голову подушку и, выхватив из ножен кинжал, принялся кромсать драгоценную ткань, чтобы дать Василисе дышать.
Ткань поддавалась с трудом, топорщилась колкими нитями вышивки. Разрывая ее, Иван то и дело касался невесты и чувствовал нехороший, вязкий жар, текущий от ее тела.
Когда платье было разрезано и отброшено в сторону, Василиса вроде бы вздохнула с облегчением, но тут же снова задышала плохо: часто и сипло. Лихорадочный румянец на ее щеках становился ярче, а руки, казалось, истончались прямо на глазах, высыхали и темнели, становясь похожими на птичьи лапки. На левой руке вспыхивало мертвенно-зеленым давешнее прямоугольное пятно, но Иван, памятуя о легкомысленно сожженной шкурке, не осмелился его тронуть.
Он бросился за знахарками. Сперва появилась в комнате живущая при дворце бабушка-лечея. Она поила Василису отварами, каждый раз нашептывая над ложкой заговор. Потом появилась запыхавшаяся Чмыхало – она выгнала всех из комнаты и долго-долго бренчала и стучала там чем-то непонятным: Иван подслушивал у двери. Казалось, что слышится из комнаты тихий Василисин голос, и он обрадовался, что невеста очнулась, однако, выйдя, Чмыхало лишь покачала головой, и стало понятно, что дело плохо.
– Совсем плохо? – спросил Иван.
– Пока да, – ответила знахарка.
– А потом?
– Потом видно будет. Ты вот что, – и она обернулась посмотреть, не подслушивает ли кто, – ты ввечеру останься с ней один. Всех – смотри, всех! – из комнаты выстави, и чтобы в коридоре да под окнами не было никого. И гостей жди необычных. Потому что и невеста у тебя необычная. Сделаешь все, что тебе велят, – останется жива.
– А что же с ней случилось?
– А ты будто не знаешь, – Чмыхало нахмурилась.
– Так, выходит, это я виноват? – Сердце Ивана противно и тоскливо заныло.
– Выходит, ты. Кто же еще? – И Чмыхало отодвинула его, освобождая себе дорогу. – Пройти дай. Меня больные ждут.
Иван выгнал всех, а сам остался сидеть у Василисиной постели, сжимая ее иссохшую от жара руку. Он выпаивал ее оставленным Чмыхало отваром, а сам все смотрел в выходившее на запад окно и мучительно ждал, когда солнце опустится за горизонт. Наконец диск его стал красным, коснулся верхушки тына, и небо заиграло множеством оттенков, сквозь которые то там, то здесь проглядывала давешняя яркая голубизна. Потом небо позеленело и, наконец, начало темнеть.
Зажглись в вышине яркие звезды, лай собак, прежде не различимый в общем шуме, стал эхом разноситься по окрестным полям. Ночные сторожа достали свои колотушки и принялись обходить город, пугая воров.
Иван прислушивался к редким отчетливым звукам ночи, а более всего – к дыханию Василисы. Порой оно становилось бесшумным и еле слышным, и тогда он, пугаясь, подносил руку к ее губам и ловил ладонью сухой горячий выдох. Иногда же, напротив, она начинала хрипеть, словно ей не хватало воздуха, и тогда Иван хватался за отвар, трясущейся рукой наливал его в ложку, подносил к Василисиным губам, приподнимал ее голову свободной рукой, стараясь, чтобы отвар не стекал по подбородку, а весь попадал в рот. Этот набор мелких, суетливых движений успокаивал его, как будто он и вправду делал для нее что-то важное и значимое.
Наконец какой-то незнакомый шум послышался во дворе, и тут же кто-то осторожно постучал в окно. Иван открыл и увидел странную женщину с молодым лицом и седыми волосами. Та деловито заглянула в комнату, убедилась, что Василиса находится внутри, и, не говоря ни слова, распахнула створки окна как можно шире и втолкнула через него настоящую ведьминскую ступу.
Иван оцепенело молчал.
– Окно закрой и ставни закрой, – проговорила ведьма. Она подсела к Василисе и поставила возле нее на постели черную коробочку, от которой тянулись темные гибкие нити, каких Иван прежде не видел. Спустя секунду нити эти впились в Василисины руки на сгибах, как впиваются в жертву жала насекомых.
Иван глядел на это со страхом и омерзением, однако, боясь за жизнь невесты и помня слова Чмыхало, приказал себе молчать и ждать.
Коробочка то пищала комаром, то жужжала пчелой, то ревела, как медведка, но очень тихо. Ведьма сидела рядом и ничего не делала, выводя Ивана из терпения. Он все порывался ринуться к Василисе, но натыкался на взгляд, холодный и острый, будто пика исполнительного стражника.
Впрочем, через некоторое время он заметил, что лихорадочный румянец его невесты меркнет и что оживают ее руки. Потом Василиса начала кашлять: сначала тихо, потом громче. И вот, когда выдох получился особенно мучительным и резким, она очнулась: открыла глаза, с трудом разлепила пересохшие губы, посмотрела вокруг мутным, бессмысленным взглядом и словно бы не узнала Ивана.
– Коня давай, – ведьма обернулась к царевичу. – Чего стоишь? Иди, говорю, седлай коня да подведи к крыльцу.
– Зачем? – не понимая, спросил он.
– Увозить ее надо.
– Не надо… – В Ивановом голосе звучала мольба.
– Тогда умрет, – отрезала ведьма. – И коня выбирай какого похуже: не верну, слышишь? Некогда мне будет.
Иван хотел возразить, но не посмел. Спотыкаясь и спеша, бросился он в конюшню. Здесь тускло горел под закопченной балкой масляный фонарь; как только Иван вошел, из сена, наваленного в пустующем стойле, выпростался сонный конюх. Увидев царевича, он испуганно кивнул и снова забился в угол.
Иван осмотрелся, размышляя, какую же лошадь выбрать. Стойл в конюшне было четырнадцать. Два из них пустовали, три были заняты старичками, бывшими любимчиками царя, в почете доживавшими свой век, в остальных стояли молодые кони.
Сначала Иван направился к старичкам, подумав, что отец приказать-то приказал оставить их в конюшне, но сам лично не навещает, так что и пропажи не заметит. Но потом он вспомнил, как тяжело, спотыкаясь, едва переставляя ноги, плетутся старички на прогулке, и представил, как, с трудом цепляясь за седло и раскачиваясь из стороны в сторону, поедет на такой лошади обессилевшая Василиса.
Огладив седую морду дремлющего Вихря, Иван пошел дальше. Он миновал своего любимчика Бурку – слишком горячего и норовистого, миновал Недотрогу, способную на подлость, миновал и других коней, а остановился у Красавицы, любимой матушкой. Красавица была покорной, сильной, ласковой и очень осторожно носила на себе грузную неповоротливую царицу. Матушка любила ее и страшно переживала, когда однажды лошадь занемогла: пока Красавицу лечили, царица все причитала: мол, некому будет возить ее, а кобылка, мол, такова, что, нагрузи на нее сумки с хрусталем да стеклом, довезет не разбивши.
Ничтоже сумняшеся Иван вывел лошадь из стойла и начал седлать…
…А когда Василиса выехала за ворота и стражник закрыл за ней тяжелую дверь, заново заложив ее окованным брусом, когда погас, затерялся среди звезд красный огонек ведьминой ступы, и Иван остался один – город вокруг показался ему непрочным и ненастоящим, словно декорация в вертепе: ткни пальцем, и осыпется позолота, и появится на крашеном небосводе уродливая дыра, и скособочится, завалится казавшийся крепким бревенчатый дом.
Сердце Ивана болело. Он думал о Василисе, о сожженной шкурке, о страшной болезни и ненадежном исцелении, и при каждом вдохе от горла по груди растекалась жгучая, почти нежная и невыносимая в своей нежности боль.
2. Игоша
Не всегда она была лягушкой, и шкурку носила не всегда. Еще в начале весны ей казалось, что мир у ее ног, и нет человека счастливее. Тогда, в апреле, Василиса шла по московской улице, и в лицо ей бил теплый влажный ветер. Яркое солнце светило в глаза, кожу пощипывало от прилипающего загара. Василиса улыбалась, шла медленно, нога за ногу, и с любопытством разглядывала каждую витрину: такое, почти детское, было у нее настроение.
Плохое началось с волчьего оскала, с мудрой и не злобной, но отчего-то настораживающей морды. Волк стоял в витрине магазина «Сафари» рядом с поразительной красоты златогривым вороным конем и уменьшенной копией трехголового змея. «Полный спектр моделей, разнообразие функций, индивидуальный подход к каждому клиенту», – гласила реклама.
Василиса подошла поближе и принялась читать табличку, белевшую между лапой волка и копытом коня.
Транспорт-гид
для верховой езды
в ассортименте.
Стандартные функции:
скорость до 500 км/ч,
встроенный диагност-парамедик,
система связи,
система предупреждения опасности,
автоматическое оружие,
вместительное багажное отделение.
Модель отличается повышенной
прочностью и надежностью.
Дополнительные функции…
Василисе пришлось поднять голову: продавец магазина, прежде скучавший, заметил ее и, кажется, узнал. Он принялся призывно махать рукой, приглашая зайти, но она жестом отказалась и, наклонив голову, принялась дочитывать:
Дополнительные функции:
голосовое управление,
усовершенствованный интеллект,
подробная карта местности,
более 100 видов автоморока.
Гид владеет разговорной речью,
знает местные обычаи,
историю и законы аборигенов.
Продавец все не унимался. Увидев, что клиентка не уходит, он залез в витрину и принялся нажимать кнопки на волчьем загривке. Василиса не обратила на это внимания: она вздрогнула лишь тогда, когда волк поднял голову и посмотрел на нее заинтересованно и грустно. Столько тоски и боли было в этом искусственном взгляде, что Василиса невольно отпрянула от витрины.
– Заходите! – крикнул продавец, и толстое стекло пропустило слабый отзвук слова.
– Меня ждут, – одними губами ответила Василиса.
Ее и правда ждали. Юлька, школьная еще подруга, скучала за столиком крохотного кафе. Кофе в ее чашке почти уже не осталось.
– Давно ждешь? Прости, – сказала Василиса, садясь напротив. – Привет.
– Привет, – ответила Юлька. – Ничего. Где была?
– Смотрела сафари-гидов. Очень красивые.
Юлька поморщилась и отвела глаза.
– Ты что? – спросила, удивившись, Васка.
– Красивые, конечно, – Юлька вздохнула. – Только вот зачем они? Неужели ты думаешь, что их сделали для обычных прогулок?
– Нет, почему? – Василиса искренно удивилась. – Можно гулять, можно охотиться, исследовать, узнавать новое, смотреть мир…
– А еще воровать детей.
– Да ты что, кому это надо? Это же варварство какое-то!
– Ага… – Юлька издевательски кивнула.
– Нет, Юль, ты перегибаешь. Никто не ворует. Случаи воровства единичны. К тому же они осуждаются.
– Вслух осуждаются, – отрезала Юлька. – Только вслух и осуждаются.
Василиса хотела ответить, но тут официант принес меню, и девушки замолчали.
И этот разговор, и ощущение радостной детской свободы до него, и шарики детского дня рождения, которые она увидела по дороге домой, напомнили Василисе о маме.
Вернувшись в Кремль, она не пошла к себе, а отыскала один из торжественных залов. В нем висел давно написанный портрет. На портрете худенькая женщина с мальчишеской стрижкой, с темными бровями – слишком темными для таких светлых волос, кареглазая, с прямым и слегка великоватым носом обнимала троих детей. Два мальчика – трех и четырех лет – стояли возле, а годовалая девочка в кружевном платье и с розовой атласной лентой на волосах сидела у женщины на руках.
– Привет, мам! – шепнула Василиса и потянулась рукой вверх. До портрета она не достала, коснулась лишь рамы и почувствовала под пальцами острые иголочки слежавшейся пыли. Портрет висел тут на почетном месте, но, с другой стороны, залом пользовались редко, и оттого он оказался забыт и заброшен.
Глядя на портрет, на выпуклые мазки масляной краски, на неразборчивую подпись художника и на глаза, поблескивающие как живые, Василиса почувствовала, как подступают слезы и как накатывает слабость – спутница одиночества и бессилия. Ей хотелось, чтобы мама обняла ее, хотелось хотя бы вспомнить, как это было, когда ей был всего год от роду. Но ощущение не приходило: даже слабое, даже придуманное.
Василиса отправилась к себе. Она надела ослепительно-белый халат, расставила на столе пробирки, открыла в компьютере рабочий журнал и хотела взяться за работу, но работа не шла, и она сидела в лаборатории, бездумно щелкая кнопкой фоторамки. Маминых фотографий было всего ничего, на них она была совсем юной – и детей нигде не обнимала. Только на одной играла в кубики с совсем маленьким Борькой. Василиса почувствовала укол ревности: хотелось, чтобы мама играла с ней, чтобы ей улыбалась и к ней тянула руку… Видео было только с родительской свадьбы, но мама казалась на этих кадрах какой-то несчастной, и Василиса не любила их смотреть. Наверное, дело было в том, что свадьба была слишком официальной. Людей было много, а близких – мало. Маминых родителей не было даже видно, место рядом с молодоженами занимали президенты Китая, Бразилии, Индии, США и Объединенной Европы. Сегодня, тоскуя по маме, по этой восхитительной незнакомке, по ее любви, которой Василиса не помнила, по разговорам с ней, которых никогда не было, она посмотрела и свадьбу. Потом запустила комп и по Сети вошла в Хламовник. Хламовником – а иногда Чердаком – называли у них дома сервер, на котором лежал всякий хлам, сбрасывавшийся с личных компов. Старые фотографии и видео, счета и билеты, и раскраски, и пройденные игры, и аттестаты зрелости…
Василиса с тоской смотрела на всю эту ужасающую, бессистемную мешанину папок. Потом набрала мамино имя. Поиск выдал совсем немного файлов. Пара счетов за отель – когда мама летала в отпуск одна; аттестат, вузовский диплом и свидетельства о рождении, браке и смерти.
Василиса открыла каждое из них. И вдруг, в свидетельстве о смерти, с удивлением увидела дату. Да, она всегда знала, что мама умерла седьмого апреля, они отмечали этот день траурным молчанием, и папа, как правило, рассказывал о ней что-то хорошее – но год! Год в свидетельстве стоял две тысячи сто восемьдесят первый. А Василиса родилась в восемьдесят втором. Выходит, она не могла сидеть на маминых коленях? Выходит, мама и не обнимала ее никогда – поэтому она и не может вспомнить, как это было, не может поймать даже отзвука воспоминания. Выходит, это была вовсе не ее мама?
Василисе стало страшно. Она всматривалась в текст документа, но цифры плыли в разные стороны, словно отшатываясь друг от друга в испуге. «Да нет, – говорила она себе, – не может быть! Ты просто плохо смотрела. Приняла тройку за единицу – от волнения и усталости». Но нет: это была единица. Рядом с восьмеркой, после сочетания «двадцать один». И у Василисы не было этому объяснения.
Она долго сидела перед мерцающим в воздухе монитором и вытирала вспотевшие от волнения ладони о белоснежный халат. Ей хотелось съежиться, забраться к маме на коленки и прижаться к ней, замерев, как на том портрете. Но потом она вспомнила, что не было маминых коленей, и позирования художнику не было, и самой мамы – не было. А что было? Что было вместо? Или кроме? Или… И вообще – было ли хоть что-то? Или она никогда не сидела на маминых коленях, и мамины губы не касались ее лба, и…
Василиса набрала в поисковике дату своего рождения. Потом подумала и расширила поиск, прибавив по месяцу туда и сюда.
Поисковик выдал кучу непотребного хлама. Василиса разбиралась в нем терпеливо и тщательно. Сначала удалила из кучи все счета, потом отложила в сторону отцовские документы, лежащие под паролями, – решила, что там может быть что-то интересное.
Василиса просмотрела все фотографии и семейное видео. Там не было ни той, портретной, мамы, ни какой-либо другой. Были Борька и Глеб, и она была с отцом, а мамы – не было.
Она пролистала все текстовые файлы, все таблицы… Пусто. Две папки остались в поисковике: те, подзамочные, документы отца и нечто, озаглавленное «приколы». Василиса знала о любви отца тащить из Интернета смешные (а иногда просто пошлые) картинки и видео, сохранять сборники анекдотов и всяческих ляпов. Но она все же открыла и эту папку. Взгляд ее скользил по названиям: «Кот из преисподней», «Школьные сочинения», «Маруся», «Кузница кадров», «Гейзеры», «Маруся_2»… и так далее. Она хотела было закрыть папку и приняться за взлом второй, как вдруг обратила внимание, что слово «Маруся» повторяется здесь слишком уж часто, а напротив первой из Марусь стоит дата ее рождения.
Василиса открыла документ. Это было видео. Сначала ей показалось, что видео плохого качества: на экране было темно, и только по центру ворочалось нечто, похожее на бледного осьминога, все в складках и тонких выростах внезапно появляющихся и так же внезапно исчезающих конечностей. Приглядевшись, Василиса поняла, что дело в тусклом, белесо-сером цвете, который лился из крохотного, шириной в две ладони, окошка, и в густом пару, клубящемся в воздухе. А посреди этого пара, на широкой лавке, в окружении шаек и веников, на холщовой простыне лежала женщина. Камера снимала ее со стороны ног, широкая рубаха ее была задрана; женщина выгибалась от боли и время от времени взмахивала руками, а потом впивалась пальцами в холст. Иногда появлялась в кадре какая-то грузная, неряшливая баба и что-то говорила, беззвучно шлепая мясистыми губами: кажется, ругалась на роженицу. Василиса полезла было в настройки звука, но потом поняла, что звук удален.
Колыхался пар, и свет из окна то тускнел, то становился ярче: там, на улице, то и дело наплывали на солнце влажные весенние облака. Время шло мучительно и беззвучно, и Василиса сидела, уставившись в экран, но только раз увидела часть женского лица: высокий лоб и широко раскрытый от боли глаз. Маруся, тужась, приподнялась и, обессилев, упала на лавку вновь, а потом ее закрыла от камеры фигура повитухи. Когда подошел момент рождения, Василиса отвернулась: ей почему-то стало страшно. Она считала про себя минуты, и тут вдруг тишину комнаты прорезал пронзительный детский плач. Василиса вздрогнула: ей показалось, что кто-то выстрелил в нее, и она умерла, и этот высокий, звенящий и стонущий звук – знак перехода в иной мир. Но, обернувшись, она увидела, что повитуха держит небрежно обернутого пеленкой младенца, а Маруся тянет к нему дрожащие от усталости руки. Теперь, когда мучительные звуки родов прекратились, звуковая дорожка ожила.
– Нячё! Нормальная девка, – бормотала повитуха, бесцеремонно перекидывая младенца с ладони на ладонь. – Руки-ноги есть, красена, орёт – будет толк с ей.
– Дай, дай, – шептала Маруся, приходя в исступление.
– Дай на, – повитуха пихнула ей ребенка, словно ненужную вещь.
Маруся взяла дочку, положила на грудь, обняла ладонью крохотную головку, а другой рукой начала нежно поглаживать по спине. Ребенок хныкнул еще раз, завозился, стал водить носом по материной рубахе, почуяв запах близкого молока. Маруся, охнув, приподнялась и устроилась полулежа, неуклюже привалившись спиною к бревенчатой стене. Из широкого разреза она достала белую пышную грудь с ярким, почти черным кружком соска, и дала ее ребенку. Девочка начала нетерпеливо и бессмысленно елозить по груди ртом, потом приспособилась и довольно зачмокала.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.