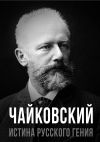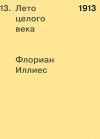Текст книги "Подмосковные вечера. История Вана Клиберна. Как человек и его музыка остановили холодную войну"

Автор книги: Найджел Клифф
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сталин, фанатичный потребитель культуры, который тридцать раз смотрел «Лебединое озеро» Чайковского, считал музыку полезным инструментом идеологии.
Чтобы изгнать из страны последствия взаимодействия с западными союзниками во время войны, Сталин начал кампанию по ликвидации следов иностранного влияния в советском обществе. Особенно это касалось влияния США, которые из уличных громкоговорителей называли «поджигателем войны и империалистическим угнетателем»[30]30
Tzouliadis Tim. The Forsaken. – London: Little, Brown, 2008. – P. 259.
[Закрыть]. Художественная жизнь в таких условиях также оказалось очень уязвимой, а из всех видов советского искусства первой пострадала классическая музыка.
Высокое искусство выжило в русской революции благодаря ведущей роли интеллигенции, которая объявила, что искусство принадлежит народу. Ленин представлял себе концертные залы, набитые рабочими, которые будут становиться лучше под влиянием классических произведений. Сталин, фанатичный потребитель культуры, который тридцать раз смотрел «Лебединое озеро» Чайковского, считал музыку полезным инструментом идеологии. В 1936 году диктатор заманил в Россию Сергея Прокофьева, который провел почти два десятилетия в изгнании, в Америке и Европе. Казалось, теперь он повернулся лицом к нему и к Дмитрию Шостаковичу, который стал соперником Прокофьева в борьбе за звание величайшего советского композитора. Но в феврале 1948 года Центральный Комитет Коммунистической партии издал постановление, которое содержало нападки на этих и других ведущих композиторов[31]31
Эти события начались в январе 1948 года, после того как Сталин резко отрицательно отозвался об опере Вано Мурадели «Великая дружба». Осуждения оперы продолжились на многочисленных собраниях, в постановлении ЦК КПСС от 10 февраля и на Первом Всесоюзном съезде советских композиторов, который проходил 19–28 апреля. См. Tomoff Kiril. Creative Union: The Professional Organization of Soviet Composers, 1939–1953. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006. – P. 122–151; SkansPer. The 1948 Formalism Campaign // Ian MacDonald, The New Shostakovich. – London: Pimlico, 2006. – P. 322–334; Schwarz Boris. Music and Musical Life in Soviet Russia, 1917–1970. – London: Barrie and Jenkins, 1972. —P. 213–228.
[Закрыть]. Они обвинялись в проявлениях буржуазных тенденций. В советском лексиконе, где многие слова приобрели значения, противоположные обычным, слово «буржуазный» означало «авангард западного происхождения». В паре с ним использовался термин «формализм», что означало творчество, не стесненное никакими ограничениями. Такая «вырожденческая музыка» отвергалась как трудная для понимания и, следовательно, бесполезная для развития пролетарской культуры. На ее место ставился социалистический реализм, который был призван изображать не настоящую жизнь, а скорее жизнь в некоем идеальном пролетарском раю. На практике такой подход выродился в написание множества плохих и тяжеловесных подражаний Чайковскому, приправленных напевными мелодиями и «зовущими на подвиги» героическими темами. Гонорары композиторам платило государство; от него же они получали определенные привилегии. В силу этого до тех пор, пока композиторы повиновались указаниям партии, их материальное положение никак не соотносилось с их талантами.
Это стало совершенно очевидно, когда выступавшие на Первом всесоюзном съезде советских композиторов заклеймили музыку «товарища Прокофьева» как «хрюканье и царапание» и высмеяли творчество «товарища Шостаковича» за «зашифрованность, нервозность, обращение к миру уродливых, отталкивающих, патологических явлений»[32]32
Sixsmith Martin. The Secret Rebel // Guardian. – 2006. – July 15.
[Закрыть]. Оба композитора были названы «врагами русской музыки»[33]33
Tomoff Kiril. Creative Union: The Professional Organization of Soviet Composers, 1939–1953. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006. – P. 123.
[Закрыть].
В сталинской России это угрожало не только карьере, но, возможно, и жизни. Прокофьев обнаружил, что многие из его произведений запрещены, а остальные не исполняются из-за страха вызвать официальное неудовольствие. Погрязший в долгах композитор уединился на даче, чтобы сохранить энергию для творчества. Жившая отдельно от Прокофьева жена Лина, испанка, была арестована по обвинению в шпионаже и помещена на Лубянку, в желтое здание тюрьмы в неоклассическом стиле, находившейся в самом сердце советского полицейского государства. После девяти месяцев пыток ее приговорили к двадцати годам лагерей строгого режима. Так она оказалась в ГУЛАГе, печально известной сети принудительных трудовых лагерей, разбросанных по всей территории Советского Союза. Приговор, основанный на выбитых признательных показаниях, был не более чем бюрократической формальностью; достаточно сказать, что в те дни существовал даже специальный термин для обозначения супругов и детей осужденных – «член семьи изменника Родины».
Я… начал говорить языком, непонятным народу… я знаю, что партия права, что партия желает мне хорошего. Я искренне благодарен за критику…
Что касается Шостаковича, то он еще раньше, в 1936 году, был ошельмован и подвергнут остракизму, причем настолько страшному, что в течение нескольких месяцев его жизнь буквально висела на волоске. Новые атаки он встретил с ужасающим смирением.
«Опять, – писал он в открытом письме, – я уклонился в сторону формализма и начал говорить языком, непонятным народу… я знаю, что партия права, что партия желает мне хорошего. Я искренне благодарен за критику»[34]34
Письмо в журнал «Советская музыка», 1948. Цит. по: Rasmussen Karl Aage. Sviatoslav Richter: Pianist: Trans. Russell Dees. – Boston: Northeastern University Press, 2010. – P. 124.
[Закрыть].
Несмотря на это, музыку Шостаковича бойкотировали, его семью лишили всех льгот, а сам был уволен с работы в Ленинградской консерватории, где композиторы тайно обвиняли друг друга в формализме в надежде отвести схожие обвинения в адрес их собственных работ. Переходивший от спокойствия к вспыльчивости, от оправданий к раздражительности Шостакович синхронизировал часы в своей квартире, одержимо занимался уборкой, проверял эффективность работы почтовой службы, отправляя открытки самому себе…
В системе, где слово одного человека является законом, судьба другого человека может меняться с головокружительной скоростью. В 1949 году Сталин решил, что нужно направить Шостаковича в качестве делегата на Всеамериканскую конференцию в защиту мира (Cultural and Scientific Conference for World Piece), которая должна была состояться в марте в Нью-Йорке. Эта встреча была одним из самых смелых и успешных мероприятий Коминформа (Информационного бюро коммунистических и рабочих партий), который Сталин основал за два года до этого как щедро финансируемый канал координации международной политической борьбы. Конгресс проходил в залах гостиницы Waldorf-Astoria, выполненных в стиле ар-деко. Среди делегатов были американские либералы, в том числе композиторы Леонард Бернстайн и Аарон Копленд, которые высказались в пользу мирного сотрудничества. Но другие либералы организовали пикет, один из участников которого размахивал плакатом «Шостакович! Прыгай в окно!», намекая на недавний случай побега из генконсульства учительницы советской школы в Нью-Йорке[35]35
Klefstad Terry. Shostakovich and the Peace Conference // Music&Politics 6. – 2012. – No. 2.
[Закрыть].
Шостаковича представляли как выдающегося музыканта, свидетеля величия советской культуры, но роскошные условия проживания не могли компенсировать унижения, от которого он очень страдал. Когда на официальной пресс-конференции музыкант встал, по его лицу пробежал тик[36]36
Wilson Elizabeth. Shostakovich: A Life Remembered. – London: Faber, 1994.-P.462.
[Закрыть]. Опустив глаза, скрытые за толстыми стеклами очков в проволочной оправе, он начал читать подготовленное заявление, обвиняя западных «разжигателей ненависти» в «подготовке мирового общественного мнения к переходу от холодной войны к прямому противостоянию»[37]37
NYT. – 1949. – March 28.
[Закрыть]. В зале находился родившийся в России композитор Николай Набоков, который, как и его двоюродный брат Владимир, бежал от революции и принял американское гражданство. Набоков наблюдал, как Шостакович дрожащим голосом читал документ. Когда композитору оставалось дочитать совсем немного, он перешел на мягкий «радиобаритон» и хотел уже закончить свою речь, но тут Набоков решил показать фальшь происходившего[38]38
Nabokov Nicolas. Old Friends and New Music. – London: Hamish Hamilton, 1951. – P. 204.
[Закрыть]. Вскочив на ноги, он громко спросил, поддерживает ли композитор действия советских властей, которые недавно поливали грязью его великого соотечественника Игоря Стравинского. Шостакович преклонялся перед Стравинским как композитором, хотя и не всегда высоко ценил его как человека. Но тут он был вынужден как попугай повторить официальную точку зрения. Для Набокова это стало достаточным доказательством того, что Шостакович был не свободным человеком, а послушным орудием своего правительства[39]39
Saunders Frances Stonor. Who Paid the Piper? The CIA and the Cul tural Cold War. – London: Granta, 1999. – P. 196.
[Закрыть].
Позже в том же году в своей оратории «Песнь о лесах» Шостакович превознес Сталина как «великого преобразователя природы» и таким образом вторично себя реабилитировал. Набоков тем временем стал генеральным секретарем базировавшегося в Париже Конгресса за свободу культуры. Эта организация, созданная ЦРУ, тайно финансировала умеренно левых европейских интеллектуалов в противовес крайне левым европейским интеллектуалам, которые утверждали, что культура и коммунизм подходят друг к другу лучше, чем культура и либеральная демократия. Среди многочисленных проектов Конгресса важную роль играли музыкальные события, в том числе организованный в Париже фестиваль «Шедевры XX века», призванный подхватить эстафетную палочку модернизма, которую обронили Советы. Главным событием фестиваля стал балет «Весна священная» Игоря Стравинского, которого Набоков нашел в Лос-Анджелесе и привез в Париж.
«Это ведь Римский-Корсаков, – объяснил сотрудник фонотеки, – а мы не должны передавать ничего русского».
Музыка больше не была мостом между Востоком и Западом; наоборот, обе стороны манипулировали ею, подчеркивая свои различия. Культурная пропасть стала еще шире, когда Советы в августе 1949 года провели испытание своей первой атомной бомбы, Китай через несколько месяцев после этого события попал в руки коммунистов Мао Цзэдуна, а американская армия летом следующего года начала военную кампанию в Корее. Тогда же Америка стала жертвой истерии о «красной угрозе», раздутой сенатором Джо Маккарти, который стремился отыскать коммунистов и им сочувствующих во всех сферах общественной жизни, в том числе в классической музыке[40]40
В разное время велись расследования относительно Элмера Бернстайна, Леонарда Бернстайна, Аарона Копланда, Лины Хорн и Димитриса Митропулоса.
[Закрыть]. В такой удушающей атмосфере все русское оказалось за пределами дозволенного. Пример: один из продюсеров на радиостанции «Голос Америки», вещавшей на зарубежные страны, попросил фонотеку подобрать запись популярного произведения под названием «Песня индийского гостя», но обнаружил, что ненавистники «красных» запретили выпускать это произведение в эфир. «Это ведь Римский-Корсаков, – объяснил сотрудник фонотеки, – а мы не должны передавать ничего русского»[41]41
Saunders Frances Stonor. Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War. – London: Granta, 1999. – P. 196.
[Закрыть].
Коротко стриженным американским пианистам, которые достигли совершеннолетия в 1950-х годах, нравились стальные тона и тугие ритмы современной музыки. Началась новая волна популярности немецких композиторов: бесспорными хозяевами сцены стали Бах, Моцарт, Бетховен и Шуберт. Что же касается русской музыки и всего романтического репертуара с его культом вдохновенного виртуоза (в том числе венгра Листа и поляка Шопена), то все это внезапно оказалось столь же немодным, как напудренные парики и дуэль на пистолетах на восходе солнца. Для семнадцатилетнего музыканта с копной светлых волос, который осенью 1951 года приехал в Нью-Йорк, это стало настоящим потрясением.
2. Класс № 412
По коридору Джульярдской музыкальной школы двигалась высокая куча ярких тряпок. Двигалась она к лифту, возле которого стояла легендарная Розина Левина. Внутри переплетения ярких нитей с трудом можно было разглядеть костлявое существо с огромными руками, которыми оно постоянно размахивало, курносым носом и вьющимися рыжевато-белокурыми локонами, взлетавшими едва ли не до потолка. Рост у ребеночка был шесть футов четыре дюйма (193 сантиметра), а с волосами, наверное, и еще выше. Розине с ее пятью футами двумя дюймами (157 сантиметров) пришлось вытянуть шею, чтобы найти среди волос веснушчатое мальчишеское лицо. Сияющее лицо наклонилось с явным намерением что-то сказать.
– Дорогая, – объявил Ван с сильнейшим техасским акцентом, – я приехал к вам ко всем… учиться![42]42
Существует несколько версий этой знаменитой фразы: «Ah’ve come to study with ya’l, honey» (Lipman Jeaneane Dowis. Rosina: A Memoir // The American Scholar. – 1996. – 65, no. 3. – P. 373); «Honey, I’m here to study with you» [VCL, 48]; «Honey, Ah’m goin’ to study with you» (The All-American Virtuoso // Time. – 1958. – May 19).
[Закрыть]
Ирландец Джо, лифтер школы, едва не поперхнулся: никто еще так не обращался к одному из самых уважаемых преподавателей фортепиано в Нью-Йорке. Семидесятилетнюю уроженку России мадам Левину в равной степени любили и боялись. Как заметил один наблюдательный человек, в ней своеволие Екатерины Великой сочеталось с грубостью извозчика[43]43
Schonberg Harold. Цит. no: Wallace Robert K. A Century of MusicMaking: The Lives of Josef and Rosina Lhevinne, – Bloomington: Indiana University Press, 1976. – P. 268.
[Закрыть]. В Джульярдской школе говорили, что если вам удалось протащить ваши пьески через класс № 412, то вы сможете сыграть их в любой точке мира.
Розина внимательно всмотрелась в лицо говорящего. Нет, она не видела раньше этого мальчишку, но голос был ей знаком: протяжный, медоточивый, он звучал одновременно серьезно и озорно[44]44
Это одна из историй, которые существуют в нескольких вариантах – видимо, специально для того, чтобы сводить с ума биографов. Розина рассказывала Абраму Чазинсу об этом телефонном звонке еще для его книги 1959 года. С другой стороны, Ван, рассказывая в 1993 году эту же историю Ховарду Райху, отмечал, что он участвовал в этом разговоре лично, и Райх помещает этот разговор перед вступительными экзаменами в Джульярде. На них Розина, предположительно, услышала игру Вана и решила взять его к себе. Маловероятно, что Вану назначили преподавателя до того, как его прослушали и приняли в школу. Версии Райха также противоречит информация Джинин Довиз, и, как можно прочитать ниже, в книге Райха, сообщение Йозефа Райффа, который утверждает, что это он был назначен преподавателем Вана, когда тот пришел в школу. Историю о нечаянной встрече у лифта Розина рассказывала и Чазинсу, и Роберту Уоллесу – и обоим сказала, что ученики убедили ее прослушать Вана и что это прослушивание было частным делом. Последнее подтверждается письмом, которое Рилдия Би написала Розине вскоре после Дня благодарения 1951 года. В письме она отметила: «Ван был бы ужасно разочарован, если бы вы не взяли его в свой класс». Подобное замечание было бы лишним, если бы к приезду в начале семестра Рилдия Би уже знала, что Ван был зачислен к Розине. В своих заметках к интервью Розина пишет о Ване: «Когда ему было 17 лет… он приехал в Н.-Й., двое моих учеников познакомили его со мной, и он сказал, что хочет учиться у меня». Похоже, что Ван объединил в своей памяти три эпизода: школьное прослушивание, телефонный звонок и частное прослушивание у Розины – возможно, чтобы сделать из этой путаницы более связную и непротиворечивую сцену. Я приложил все усилия, чтобы загладить противоречия между версиями. См. [VC, 41–42]; [VCL, 47–48]; Dowis Lipman Jeaneane. Rosina: A Memoir // The American Scholar. – 1996. – 65, no. 3. – P. 373; Wallace Robert К. A Century of Music-Making: The Lives of Josef and Rosina Lhevinne. – Bloomington: Indiana University Press, 1976. – P. 270; Rildia Bee O’Bryan Cliburn, letter to Rosina Lhevinne, n.d. [December 1951], Folder 19, Box 2, [RLP]; Rosina Lhevinne notes for an interview, Folder 17B, Box 29, [RLP].
[Закрыть]. Да, это он звонил ей пару дней назад из отеля Buckingham, где он остановился с матерью. Три года подряд эта парочка приезжала на летние каникулы из Техаса в школу, куда будет поступать Ван, чтобы подобрать ему «правильного» преподавателя. (Ван посещал Джульярд летом 1947, 1948 годов, занимался у Эрнеста Хатчесона, и в 1951 году, занимался у Карла Фридберга.) В конце концов Рилдия Би написала в Джульярд, что они сделали окончательный выбор: Розина Левина. И теперь, когда они получили регистрационную карточку о приеме в школу, обнаружилось, что Ван приписан к классу другого преподавателя! Их унизили, огорошили, предали!
Розина объяснила, что в классы, которые она ведет, всегда был большой конкурс и что, к сожалению, они уже полностью укомплектованы. Она не слышала, как Ван играл на прослушиваниях, это должен был делать один из ее ассистентов. «Может быть, – предположила она в том телефонном разговоре, – я смогу взять вас в следующем году…»
– Но я хочу учиться у вас, миссис Левина, – в трубке снова зазвучал голос, интонации которого подчеркивали и «закругляли» каждое слово. – Даже если вы сможете уделять мне только десять минут в неделю, я все равно буду считать себя вашим учеником. Тем не менее, – и вот тут голос задержался перед решительным шагом, – если вы определенно не можете взять меня, то я пойду к другому учителю и останусь с этим учителем до окончания курса. Но я хочу, чтобы вы знали, миссис Левина: я очень верный ученик.
– Тс-с-с, – прошептала Рилдия Би из другой комнаты маленького гостиничного номера. Харви, как обычно, остался дома в Техасе.
– Нет, мама, – твердо сказал Ван, положив трубку. – Она очень милая дама, но я хочу, чтобы она знала: когда я что-то начинаю, то довожу дело до конца.
К счастью, у Розины уже было двое студентов из Техаса. Джинин Довиз, аккуратной и сообразительной брюнетке из городка Грейпвайн, было восемнадцать лет, но она уже два года занималась в Джульярдской школе. Ее друг, Джеймс Мэтис из Далласа, тоже восемнадцати лет, только что присоединился к классу Левиной. Вместе они замолвили слово за Вана – точнее, убедили мадам хотя бы послушать, как он играет.
Каждый из этих людей истово верил в то, что его ждет ослепительная сольная карьера, и почти все они были обречены на жестокое разочарование.
Джульярдская школа занимала пару зданий из белого камня на Западной 122-й улице, между Клермонт-авеню и Бродвеем в квартале Морнингсайд-Хайтс Верхнего Манхэттена. Одно из зданий представляло собой красивый особняк в эдвардианском стиле – он остался от старого Института музыкального искусства. Второе здание с плавными линиями в духе ар-деко было построено теми же архитекторами, что и Empire State Building. Новый дом появился в то время, когда институт слился со школой, основанной после долгих перипетий на средства, которые завещал торговец текстилем Огастас Джульярд. В те годы в переплетении коридоров, лестниц и залов, окрашенных в салатные тона, теснилось шестьсот творческих личностей. Каждый из этих людей истово верил в то, что его ждет ослепительная сольная карьера, и почти все они были обречены на жестокое разочарование. Доминировали здесь пианисты (их насчитывалось около двухсот человек), но были и скрипачи, виолончелисты, исполнители на медных и деревянных духовых инструментах, на ударных, певцы, композиторы, дирижеры. В этом году среди студентов появились танцоры, которых музыканты в основном определяли по запаху. Подобно монахам в кельях, музыкальные послушники на десять часов в день запирались в репетиционных студиях. Они объединялись, чтобы противостоять соперникам. Они пугали первокурсников страшными рассказами о бритвенных лезвиях, которые вставляют между клавишами фортепиано для повышения точности игры. Социальная жизнь в школе была насыщенной, но напряженной. Студентов объединяла сектантская преданность школе и своему искусству, а разделяли ревность и стремление играть лучше соперника, чтобы попасть на прослушивание. Некоторых такая конкуренция ломала, другие сознательно грелись в лучах собственной исключительности, наполнявшей их уютные мирки.
Что касается преподавателей, то это были в основном выпускники школы, окончившие ее много лет назад. Репутация учителей зависела от того, сколько талантливых учеников они привлекли в школу, и потому преподаватели бесцеремонно конкурировали между собой. Заполучив к себе учеников, они были крайне недовольны тем, что те играют для их коллег или разговаривают со студентами из класса другого преподавателя. Иерархия учителей находила свое отражение в латунных табличках, которые украшали двери аудиторий – по ним можно было судить о том, сколько продержался тут тот или иной преподаватель. Табличка с именем Розины Левиной начиналась с даты: «1924 год» – именно тогда она и ее муж Иосиф начали работать на факультете. Оба они с золотыми медалями окончили в 1890-х годах Московскую консерваторию. Иосиф окончил курс фортепиано лучшим в группе, опередив своих однокашников Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. Он получил престижную Большую Золотую медаль за композицию. В годы Первой мировой войны они оказались заперты в Германии, а с началом русской революции, потеряв все свои сбережения, перебрались в США. Здесь Иосиф с сенсационным успехом дебютировал в Carnegie Hall. Формально они преподавали вдвоем, но основные тяготы работы несла на себе Розина – муж обычно находился в разъездах, занимаясь исполнительской деятельностью и флиртом разной степени тяжести. В 1944 году Иосиф скончался, пережив на один год своего однокашника и друга Сергея
Рахманинова, и Розина осталась последней ниточкой, соединявшей Америку с золотым веком русского романтизма. В свои семьдесят лет она бесспорно была среди преподавателей Джульярда самой яркой звездой.
Наверное, Ван больше, чем любой другой молодой американец, уважал русскую традиционную фортепьянную школу, славившуюся своими виртуозами, которые извлекали звуки из клавиатуры с какой-то религиозной страстью. По его мнению, романтичная русская музыка была настолько изысканно и болезненно красива, что не могла быть ничем иным, а только дыханием Бога. Кроме Рилдии, он мог себе представить в роли преподавателя только Розину Левину. Именно поэтому он оказался на четвертом этаже в знаменитом классе с двойными стенками и пробковым полом. Он готов был показать все, на что способен, чтобы завоевать ее расположение – а это было очень трудно сделать.
Розина села в свое кресло с высокой спинкой и зеленой обивкой. Ван поднял большие тонкие руки. Розина заметила, что они были огромными, как у Иосифа, – достаточно большими, чтобы охватить 12–13 клавиш, от «до» до «ля». Пальцы заканчивались узкими фалангами, которые хорошо ложились на клавиатуру, и не только ложились. Левая рука замечательно выдавала «фанфары», открывавшие Двенадцатую венгерскую рапсодию Листа – эту бурю резких аккордов, которые отказывались исполнять даже большие мастера. Глубокое, угрожающее tremolando, те же фанфары правой рукой, еще один пассаж tremolo… Легчайшие аккорды, слетающие с пальцев правой руки, в то время как левая выводит задумчивую мелодию… Обе руки летают по клавиатуре, словно ножки балерины, едва касающиеся пола… Вот момент умиротворенности: голова откинута назад, глаза закрыты, лоб морщится от утонченной красоты произведения, его душа с каждой нотой воспаряет все выше и выше… Задолго до конца прослушивания у Розины уже был готов ответ. Необычный мальчик не только играл с поразительными самообладанием и мощью: он также создавал нечто удивительно благородное, чувственное и сердечное. Более того, у него был тот масштабный, широкий подход к исполнению, которого она не видела уже много лет, и тот грандиозный стиль, который невероятно напоминал стиль лихих виртуозов времен ее молодости.
Игра Клиберна задела русские струны, скрытые в глубине ее души. Розина Левина нашла ему место в своем классе.
* * *
Во времена Великой депрессии немало многоквартирных домов в Морнингсайд-Хайтс выродились в дешевые отели с убогими однокомнатными номерами, которые отпугивали даже студентов. Впоследствии расположенный поблизости Колумбийский университет развернул программу облагораживания этих зданий, скупая их целиком и превращая в семейное жилье. Дом № 15 по Клермонт-авеню, красивое десятиэтажное здание в трех кварталах от Джульярдской школы, также попал под эту программу. Пятикомнатная квартира, которую арендовали мистер Аллен Спайсер и его супруга, имела большую площадь [SH]. К комнате, которую они сдавали, примыкала отдельная ванная. Но главным плюсом квартиры был огромный, богато украшенный рояль фирмы Chickering, который стоял в гостиной.
Аллен Спайсер, плотный, коротко стриженный человек, работал в отделе дорожного движения нью-йоркской телефонной компании. Его пухленькая седая жена Хейзел была секретарем директора в одной из средних школ Бронкса. Конечно, им нужен был дополнительный доход, но миссис Спайсер не хотела брать насебя ответственность за такого молодого квартиранта, как Ван. Рилдия очаровательно легко отмахнулась от ее сомнений и попросила у хозяйки разрешения пару часов в день практиковаться на ее инструменте. Госпожа Спайсер неохотно согласилась на тех условиях, что ей не будут играть гаммы. Ван въехал в арендованную комнату, и Рилдия в первый раз оставила своего единственного ребенка без присмотра…
Ван очень любил своих родителей, но во многом его отъезд из дома стал попыткой к бегству. Не случайно позднее он признавался, что его техасская юность была «сущим адом». Да, там можно было заниматься музыкой, но ценой того, что другие дети считали тебя маменькиным сынком, если не сказать хуже[45]45
The All-American Virtuoso // Time. – 1958. – May 19.
[Закрыть]. Уже в раннем подростковом возрасте Ван вымахал в полный рост, американский размер его обуви почти равнялся его возрасту, а курчавые волосы превратились в копну, с которой ничего нельзя было поделать. Происходило это в то время, когда парикмахерские с общими залами для мужчин и женщин считались средоточием мерзостей, а эпитет «длинноволосый», обозначающий художника или интеллектуала, был синонимом слов «слабак», «неженка», «баба». Неудивительно, что Ван был постоянной мишенью для шуток одноклассников. Углубляясь в исполнение музыки, он изливал свои переживания на этот счет в старомодных по форме стихах. Одно из его стихотворений было опубликовано в «Национальной антологии школьной поэзии» в 1950 году. Это был безрадостный опус под названием «The Void» – «Впустую». Ван не был гением интеллекта – его IQ, равный 119, был приличным, но не запредельно высоким [ТМ1]. Он немало попотел в пыльных кирпичных зданиях Килгора перед летними экзаменами и наконец в шестнадцать лет окончил среднюю школу, став, по общей оценке, двенадцатым из 103 выпускников.
Ван получил наивысшие оценки по таким параметрам, как «развитие личности», «взаимоотношения с людьми», «посещаемость занятий», «отношения с одноклассниками», «шансы на успех» и «характер». Но в графе «задатки лидера» у него стояла оценка «удовлетворительно», и неудивительно, что он стремился как можно быстрее уехать из этого городка…
Там, где даже скрипачи, проходя по коридору, отрабатывали прижатие к грифу двух или трех струн, он… не выделялся преданностью своему ремеслу
Как и любой подросток, оказавшийся в первый раз вдали от дома, Ван, что называется, сорвался с цепи. Его комната выглядела как свинарник. Каждый день Рилдия Би посылала ему Kilgore News Herald, и непрочитанные экземпляры местной газетки вместе с другим мусором образовали такие горы, что едва ли не перекрывали вход в комнату. Иногда его охватывала тяга к порядку, и он всю ночь не спал, разбирая эти завалы. «Посмотрите, как у меня чисто! Я больше никогда не допущу в комнате беспорядка!» – примерно такие обещания он много раз давал Хейзел Спайсер по утрам, но никогда их не выполнял. Ему было ужасно трудно писать домой; после нескольких недель молчания он обычно звонил по телефону, чтобы выслушать все обвинения в свой адрес. Несмотря на строгие наставления родителей, он пытался курить и пробовать алкоголь. «А можно мне немного рома?» – спросил он однажды у изумленных Спайсеров, решивших выпить после обеда ром с колой. Но самое большое облегчение после нескольких лет жизни в Техасе ему доставила атмосфера невероятной элитарности, царившая в Джульярде. Там, где даже скрипачи, проходя по коридору, отрабатывали прижатие к грифу двух или трех струн, он больше не выделялся преданностью своему ремеслу.
Тем не менее Ван по-прежнему выделялся. Трудно не выделяться, когда твои светлые волосы «а-ля Помпадур» развеваются выше голов всех остальных студентов, а заразительный смех эхом разносится по коридору. Он обнимал своими огромными, как весла, руками каждого, кто к нему приближался: большинству это нравилось, но некоторых раздражало. Юная студентка-вокалистка Леонтина Прайс поразилась, когда он, студент Левиной, заговорил с ней в кафе – обычно это место использовалось как главная арена для саморекламы, а студенты общались только со «своими»[46]46
Интервью Питеру Розену (reels 38 and 39, Van Cliburn – Concert Pianist elements, [VCA]). Это важное собрание включает в себя много долгих интервью, взятых для документального фильма Розена 1994 года. Впервые фильм был показан на канале А&Е Network’s Biography.
[Закрыть]. Нельзя забывать и о «техасскости» Клиберна – она проявлялась у него сильнее, чем у студентов из Далласа. Она сохранялась, несмотря на многолетние уроки речи и сценического мастерства, которые он брал у своей соседки, супруги Лео Саттеру-айта Аллена, сын которой учился у Рилдии [VC, 18]. Типичный студент Джульярда был сыном еврейских интеллектуалов из Восточной Европы, выросшим в мире полированной музейной мебели, пьес Чехова и занятий английским языком. Ван со своими яркими узорчатыми рубашками с мягкими отложными воротниками, южным акцентом, непритязательным юмором и бесхитростной любовью к ближнему выпадал из этого мира. «Ой, ну разве это не прекрасно?» – удивленно качал он головой, когда ему что-то нравилось[47]47
Марк Шубарт, цит. по [SH].
[Закрыть]. Студенты, которые считали себя интеллектуалами, разговаривали с ним свысока. Но больше всего их удивляли его пристрастия в музыке. Чайковский, Рахманинов, Лист… Герои Клиберна были так откровенно немодны, что из-за этого его самого всерьез и за музыканта-то не принимали.
Это причиняло ему боль – причем больше потому, что бросало тень на его любимую музыку. Себя же, в силу воспитания и характера, он оценивал весьма скромно.
…исполнял джазовые и эстрадные композиции, бил по клавиатуре в воображаемых боксерских перчатках и вообще морочил головы одноклассникам…
Поскольку к Вану относились как к провинциалу, он начал играть роль enfant terrible; исполнял джазовые и эстрадные композиции, бил по клавиатуре в воображаемых боксерских перчатках и вообще морочил головы одноклассникам, которые полагали, что таким образом он демонстрирует свои низменные музыкальные вкусы. К ужасу Спайсеров, он начал приходить домой под утро и оставлять для Хейзел записки примерно такого содержания:
«Привет, дорогая! Наконец-то я дома! Ура! Разбуди меня утром, и я тебе все расскажу.
С любовью, Ван». Впрочем, вскоре Спайсерам удалось раскрыть тайну его поздних возвращений.
Когда ночью сторож в Джульярде выгонял группу Розины из студии, Ван шел с одноклассниками до станции метро на 110-й улице. Но, вместо того чтобы идти пить вместе со всеми пиво, он садился на поезд Первой линии с его визжащими тормозами и плетеными сиденьями, доезжал до 57-й улицы и спускался вниз по черной лестнице, находившейся за высоким каменным зданием. Пройдя мимо мусорных баков, он открывал тяжелую раздвижную дверь и входил в подвальное помещение без окон, которое напоминало фабричный цех: оно было занято трубами и освещалось люминесцентными лампами. Здесь, среди грубо покрашенных стен, проходили его ночные бдения. В помещении стояло несколько десятков девятифутовых концертных роялей.
Здесь находился подвал Steinway Hall[48]48
Бывший дом № ИЗ на Западной 75-й улице. Когда здание продали компании Manhattan Life Insurance Company, его номер сменили на 111.
[Закрыть], где пианисты – партнеры компании Steinway могли выбрать инструмент для своего следующего выступления. К их услугам была целая «флотилия» роялей, которая включала в том числе и знаменитый CD-18, любимый инструмент Рахманинова. Ночью, когда специалисты в белых халатах завершали настройку и полировку, на черных красавцах можно было поиграть для практики. Некоторые студенты использовали подвал как музыкальный клуб, где можно было посплетничать и послушать игру друг друга. Но Ван обычно занимался последним: ему хотелось сосредоточиться и побыть одному, пока весь мир спит. Утром он постоянно опаздывал на занятия, которые начинались в девять часов. Это выводило из себя Розину и раздражало его одноклассников. Последние решили, что он любит поспать, и даже собирались купить ему будильник «Биг Бен». Иногда по дороге в школу Ван покупал конфеты или цветы, чтобы вручить их Розине вместе со своими оправданиями, и потому опаздывал еще больше.
Равным образом потрясало его сверстников и то обстоятельство, что по три раза в неделю он ездил на метро на 57-ю улицу в баптистскую церковь «Голгофа». Сооруженная в истинно нью-йоркском стиле церковь примыкала к «собственному» небоскребу, так что над ее готическим порталом возвышался десяток этажей, занятых квартирами, да еще и высокая башня. Арки просцениума и галереи придавали церкви вид театра на Бродвее, но встречали здесь тепло, молились истово, так что и в повседневной жизни Нью-Йорка, этого царства мамоны, можно было почувствовать присутствие живого Бога. Подруга Вана техаска Джинин Довиз подозрительно относилась к его увлечениям и верованиям. Но он постоянно приглашал ее пообедать, а бесплатная еда – это не то, от чего будет воротить нос бедная студентка. Постепенно эта девушка и Джимми Мэтис, другой техасский ученик Розины, стали лучшими друзьями Вана. У Джимми были короткие темные волосы, чувственное холодное лицо и… склонность делать драму из ничего.
«Ну, я не хочу сказать, что…» – начинал он тоном школьного завуча перед каждым едким замечанием, когда они втроем обедали в столовой Aki на Западной 119-й улице, где можно было взять полный обед всего за 99 центов и бесконечно обсуждать невероятные преимущества Техаса перед всем остальным миром[49]49
Роберт Уайт, интервью автору книги, 28 февраля 2015 года.
[Закрыть]. Когда друзья оказывались вдалеке друг от друга, Ван буквально каждый час звонил им по телефону. У Спайсера была телефонная линия, которую ему оплачивала компания, но, посоветовавшись со своей совестью, он решил, что было бы неправильно давать звонить по ней Вану, и установил для него отдельную линию. Совесть поблагодарила его, когда Ван стал получать ошеломляюще большие счета…
Ван часто покупал «студенческие» билеты по 25 центов на вечерние концерты в Carnegie Hall. Они продавались в «Доме музыки» Джозефа Пэтелсона (Joseph Patelson Music House) на 56-й улице, в небольшом подвальчике, известном «в миру» как магазин, в котором за полцены можно было приобрести старые ноты. Иногда Ван и двое его друзей приезжали в центр, на Бродвей, выстаивали очередь и покупали по 75 центов билеты на стоячие места в Metropolitan Opera. Однажды на вечернем концерте в «Метрополитен» некая богатая леди [ТМ2] пригласила Вана занять свободное место рядом с собой, и с тех пор он покупал билеты на стоячие места, но сидел в партере. Время от времени он ходил в джаз-клубы на 52-й улице или в расположенный в центре города клуб Village Vanguard, где иногда пела Элла Фитцджеральд или играли Арт Тэйтум и Оскар Питерсон. Некоторые говорили, что импровизация и спонтанность джаза изменяют характер американской классической музыки, но Ван не принимал такие взгляды всерьез; ему нравились и «фортепиано для коктейля», и песни времен Второй мировой войны.