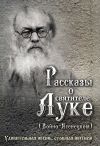Автор книги: Николай Бердяев
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Глубинное «я» человека связано с духовностью. Дух есть начало синтезирующее, поддерживающее единство личности. Человек должен все время совершать творческий акт в отношении к самому себе. В этом творческом акте происходит самосозидание личности. Это есть постоянная борьба с множественностью ложных «я» в человеке. В человеке хаос шевелится, он связан с хаосом, скрытым за космосом. Из хаоса этого рождаются призрачные, ложные «я». Каждая страсть, которой одержим человек, может создавать «я», которое не есть настоящее «я», которое есть Es. В борьбе за личность, за подлинное, за глубинное «я» происходит процесс распадения – это есть вечно подстерегающая опасность – и процесс синтеза, интеграции. Человек более нуждается в психосинтезе, чем в психоанализе, который сам по себе может привести к разложению и распаду личности.
Духовность, идущая из глубины, и есть сила, образующая и поддерживающая личность в человеке. Кровь, наследственность, раса имеют лишь феноменальное значение, как и вообще биологический индивидуум. Дух, свобода, личность имеют нуменальное значение. Социологи утверждают, что человеческая личность формируется обществом, социальными отношениями, что организованное общество есть источник высшей нравственности. Но извне идущее социальное воздействие на человека требует приспособления к социальной обыденности, к требованиям государства, нации, установившимся нравам. Это ввергает человека в атмосферу полезной лжи, охраняющей и обеспечивающей. Пафос истины и правды ведет человека к конфликту с обществом. Наиболее духовно значительное в человеке идет совсем не от социальных влияний, не от социальной среды, идет изнутри, а не извне.
Примат общества, господство общества над человеком ведет к превращению религии в орудие племени и государства и к отрицанию свободы духа. Римская религия была основана на сильных социальных чувствах, но она духовно была самым низким типом религии. Историческое христианство было искажено социальными влияниями и приспособлениями. Социальная муштровка человека вела к равнодушию к истине и правде. Всякая система социального монизма враждебна свободе духа. Конфликт духа и организованного общества с его законничеством есть вечный конфликт. Но ошибочно было бы понять это как индивидуализм и асоциальность. Наоборот, нужно настаивать на том, что есть внутренняя социальность, что человек есть социальное существо и что реализовать себя вполне он может лишь в обществе. Но лучшее, более справедливое, более человечное общество может быть создано лишь из духовной социальности человека, из экзистенциального источника, а не из объективации.
Общество обоготворенное есть в метафизическом смысле реакционное начало. Возможен прорыв духовности в социальную жизнь, и все лучшее в социальной жизни исходит из этого источника. Духовность несет с собой освобождение, оно несет с собой человечность. Господство же объективированного общества несет с собой порабощение. Нужно оставить совершенно ложную идею второй половины XIX века, что человек есть создание социальной среды. Наоборот, социальная среда есть создание человека. Это не значит, что социальная среда не действует на человека, она очень действует. Но рабья социальная среда, порабощающая человека, есть порождение рабьего состояния человека, рабьих душ. Если нет Бога, то я раб мира. Существование Бога есть существование моей независимости от мира, от общества, от государства.
Достоевский говорит, что человек иногда верит в Бога из гордости. Это выражение парадоксально, но социальный смысл его в том, что человек не соглашается поклоняться миру, обществу, людям и поклоняется Богу как единственному источнику своей независимости и свободы от власти мира. Хорошая гордость в том, чтобы не желать поклоняться никому и ничему, кроме Бога. Духовность, которая всегда связана с Богом, есть обретение внутренней силы, сопротивляемость власти мира и общества над человеком. Безумие думать, что я становлюсь беден оттого, что существует Бог, что Бог есть отчуждение моего собственного богатства (Фейербах). Нет, я становлюсь безмерно богат оттого, что существует Бог. Я очень беден, если существую только я сам, и нет ничего выше меня, больше, чем я. И весь мир страшно беден и плосок, если он довлеет себе, если нет Тайны за ним.
Кроме духовности, о которой говорят мистические книги, описывающие путь души к Богу, опыт общения с Богом, есть еще совсем другой тип духовности, который можно назвать профетическим. Профетизм есть боговдохновенность, слушание внутреннего голоса Бога о судьбах мира, человечества и народа, о грядущем. Человек профетического вдохновения одинок, он часто побивается камнями тем народом, которому он служит, но он духовно-социален, обращен к обществу. Путь человеческого профетического вдохновения не есть путь методического восхождения, это путь внутреннего озарения. Профетическая духовность совсем иная, чем духовность, выработанная в мистических школах Индии и Греции, это духовность типа древнееврейского, иранского и христианского. Но христианство соединяет в себе оба типа духовности.
Духовность связана или с эсхатологией индивидуальностей, или с эсхатологией всемирно-исторической. Изначально христианство унаследовало древнееврейский мессианизм, обращенный к судьбам истории, и греческую мистику, обращенную к завоеванию индивидуального бессмертия в мистериях. Поэтому мы увидим, что в христианском учении о бессмертии есть два наслоения (индивидуальное бессмертие души и воскресение мертвых во плоти), которые не так легко привести к единству. Но всегда духовность есть подготовка и залог бессмертия. Натуральный состав человека сам по себе не бессмертен, бессмертным он становится в силу овладения духом, началом, в котором соприкасается человеческое и божественное. Любовь есть главная духовная сила, которая побеждает смерть и завоевывает бессмертие, она сильнее смерти. Любовь связана с личностью и требует бессмертия для личности.
Нигрен в книге, о которой было уже говорено, видит в «агапэ» сущность христианства и связывает ее с коллективностью, т. е. церковью. В «эросе» поднимается человек до Бога, в «агапэ» нисходит Бог до человека. Бог любит потому, что он любит, а не вследствие качеств любимого. Но ведь такова и настоящая человеческая любовь. Нельзя вложить в схему «эроса» и «агапэ» самое таинственное явление мировой жизни – любовь. Для Нигрена мистика и гнозис стоят под знаком «эроса» и потому отрицаются. Этим очень обедняется христианство. Во всех своих формах духовность есть борьба за вечность. Настоящая человечность требует борьбы за вечность, ибо самое бесчеловечное начало есть смерть.
Духовность в религиозной терминологии есть раскрытие в мире и человеке Св. Духа. Но Св. Дух не раскрывается еще вполне, не изливается еще в полноте на жизнь мира. Возможна новая духовность, духовность богочеловеческая, в которой человек обнаружит себя в своей творческой силе более, чем доныне себя обнаружил. Творчество, свобода, любовь будут более всего характеризовать новую духовность. Она должна ответить на муку мира, на непереносимые страдания человека. Старая духовность сейчас не дает ответа. Но перед излияниями света неизбежно сгущение тьмы. Перед новым напряжением духовности возможно видимое ослабление духовности. Перед новой богочеловечностью возможны взрывы бесчеловечности, обозначающие богооставленность человека. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого еще не дошла до конца, до предела, но иногда соприкасается с пределом и концом, и человек поставлен над бездной. Ожидание новой духовности есть ожидание нового откровения Св. Духа в человеке и через человека. Это не может быть пассивным ожиданием, это может быть лишь активным состоянием человека. Если бы человек был обречен в трепете и пассивности ожидать события сверху, то духовность не была бы богочеловеческой и божественная человечность не была бы возможна. Параклетизм не раз обнаруживал себя в христианской истории. Но времена и сроки еще не наступили. Много есть оснований думать, что эти времена и сроки наступают.
Глава Х
Красота
Красота есть характеристика высшего качественного состояния бытия, высшего достижения существования, а не раздельная сторона существования. Можно сказать, что красота не есть лишь категория эстетическая, но есть и категория метафизическая. Если что-нибудь воспринимается человеком целостно, то именно красота. Мы говорим: прекрасная душа, прекрасная жизнь, прекрасный поступок и т. д. Это не есть лишь эстетическая оценка, это целостная оценка. Все гармоническое в жизни есть красота. Во всяком соответствии есть элемент красоты. Красота есть конечная цель мировой и человеческой жизни. Добро есть средство, есть путь, и оно возникло в противоположении злу (познание добра и зла). Красота лежит по ту сторону познания добра и зла. Добро же по ту сторону различения добра и зла, когда зло уже забыто, и есть красота. В красоте не может быть нравственного уродства, свойственного злу. Красота зла есть иллюзия и обман. Царство Божье можно мыслить лишь как царство красоты. Преображение мира есть явление красоты. И всякая красота в мире есть или воспоминание о рае, или пророчество о мире преображенном. Переживание всякого гармоничного состояния есть переживание красоты. Красота есть предельный идеал, из которого изгнана всякая дисгармония, всякое уродство, всякая низость.
Нужно очень различать красоту и красивость. Красивость есть обманная красота. Красивость относится лишь к миру феноменальному, в красоте же есть начало нуменальное. Но в красоте есть своя диалектика, и лучше всего о ней говорит Достоевский. Он думал, что красота спасет мир. Но он же говорит: «Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Как понять это? Ведь про красоту можно сказать, что она есть перерыв в борьбе и как бы приобщение к миру божественному. Но красота творится и раскрывается в мире затемненном, охваченном страстной борьбой. И в душах людей она может быть вовлечена в столкновение противоположных начал. В трагедии может быть величайшая красота. Сам Достоевский – трагический писатель. Трагедия есть столкновение противоположных начал, она не изображает гармонической жизни. Но учение Аристотеля о катарсисе говорит о переживании красоты через трагедию. Трагическая красота глубже других ее форм, в ней есть божественный свет.
Внешне гармоническая красота может быть обманной и лживой, прикрывающей уродство. Красота может переходить в свою противоположность, как и всякое начало, оторванное от источника света. Поэтому одинаково верно можно сказать, что она есть гармония и отдых от мучительной борьбы и она может стать «полем битвы» Бога и дьявола. Дьявол хочет пользоваться красотой для своих целей. Красота есть великая радость в нашем мучительном мире, и красота природы, и красота искусства. Бесспорно, эстетические оценки не заключают в себе той мучительности, которая есть в оценках моральных. И, может, именно поэтому дьявол хочет воспользоваться красотой для своих целей. Красота может стать демонической не по своей сущности, не потому, что она есть, она может быть лишь использована в борьбе полярно противоположных сил.
Возможна обманная красота, обманная красота иных женщин, обманная красота иных произведений искусства. Демоническое начало не в красоте и не в творчестве, а во внутреннем состоянии и направленности человека. Любят говорить о демоническом начале в творчестве Леонардо, напр. в его Иоанне Крестителе и Джиоконде. Но демоническое, которое, может быть, было в самом Леонардо, сгорело в его творческом акте, в котором совершалось преображение и через который достигается вечность. Почва, на которой легко появляются демонические уклоны, есть эстетство, которое признает лишь эстетические ценности и ими подменяет все другие, напр. ценности истины и добра. Но великие творцы никогда не были эстетами. Эстетство есть не творческое состояние, это есть состояние пассивности. Эстет живет окружениями, он вращается в мире вторичном, а не первичном. Он никогда не ищет правды и не любит правды, как неприятного напоминания. Демонические уклоны, которые на этой почве рождаются, не глубокие. Я, впрочем, склонен думать, что эстеты не любят и красоты, ибо у них нет притяжения к божественной высоте. Самые ядовитые плоды порождает эстетизм в жизни общественной, искажая все оценки. Это можно видеть по Ницше и К. Леонтьеву. Недопустимо враждовать против осуществления большей справедливости в социальной жизни по тем основаниям, что в несправедливом социальном строе прошлого было больше красоты. Исторический эстетизм и романтизм К. Леонтьева всегда есть ложь и неправда.
Интуитивное восприятие красоты природы, красоты человека, красоты художественного произведения есть творческое преодоление хаоса, разложения и уродства. Восприятие красоты есть прорыв за уродливую кору, покрывающую мир. Совершенно ложно ставится вопрос, когда в книгах по эстетике спрашивают, объективна или субъективна красота. Когда говорят, что красота субъективна, а не объективна, то этим хотят сказать, что она есть субъективная иллюзия, лишь субъективное состояние человека. Неверно сказать, что красота объективна. Но сказать, что красота субъективна, и значит сказать, что она реальна, ибо реальность в субъективности, в полной еще огня первичной жизни существования, а не в объективированном бытии, в котором огонь жизни уже охлажден.
Это приводит к сложному вопросу об отношении между творчеством и объективацией или отчуждением.[93]93
См. мою книгу «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация».
[Закрыть] Есть ли воплощение всякого творческого акта объективация? Есть ли красота, создаваемая творческими силами природы и творческими силами человека, непременно «классическая», «объективная» красота? Спор классицизма и романтизма с этим связан. Классицизм как будто бы требует объективной законченности, завершенности, т. е. совершенства продуктов творчества. То же может быть в явлениях природы, которые могут быть классическими, завершенными. Но природа может быть и романтической. Этим полны романы Вальтер Скотта. Классическая объективность есть достижение совершенства в конечном, как бы победа над бесформенной бесконечностью. Не случайно греки связывали совершенство с конечностью и боялись бесконечности, как хаоса. Романтизм же, который по-настоящему обнаруживает себя лишь в христианский период истории, устремленный к бесконечному, не верит в достижимость совершенства в конечном.
Классическое есть такое же вечное начало, как и романтическое. Человеческое творчество не может не стремиться к совершенству формы, как не может удовлетвориться ни на чем конечном, замкнутом в этом мире. Нуменальное, из которого и исходит творчество, должно всегда переходить за грани феноменального, конечное должно разбиваться устремлением к бесконечному. Отношения между формой и бесконечным содержанием жизни противоречивы и парадоксальны. Красоты нет без формы, бесформенность некрасива и может быть уродливой. Творческая сила жизни должна получать форму. Мы это видим и в процессах природы, в образовании космоса. Но форма может затвердевать, окостеневать, угашать творческий огонь жизни и охлаждать и ограничивать. И тогда творческий огонь должен вновь возгораться, разбивать омертвевшие формы, устремляться к бесконечному содержанию.[94]94
В связи с этим вопросом есть интересная мысль у Зиммеля. См. «Lebensanschauung».
[Закрыть] Это вечная борьба, которая не может не закончиться в пределах этого мира. Красота связана с формой, но красота связана также с творческой силой жизни, с устремлением к бесконечности.
Употребляя терминологию Ницше, Аполлон и Дионис должны быть соединены, это два вечных начала. Вечное начало формы и вечное начало бесконечной силы должны быть слиты. Вячеслав Иванов говорит, что Дионис сам по себе некрасив. Но без Диониса нет и красоты Аполлона. Те же силы действуют и в космической жизни. Но красота никогда не есть объективность сама по себе, требующая по отношению к себе лишь пассивности. Красота, даже когда она лишь созерцается, требует творческой активности субъекта. Красота не есть объективная предметность, она всегда есть преображение. И только творческое преображение есть реальность. Подлинно великое искусство не могло быть исключительно классическим или романтическим, не могло принадлежать борьбе направлений и никогда не могло быть вполне объективированным, ибо в нем остается вечная жизнь. Форма великого искусства не бывает омертвевшей в формализме, с ней связано бесконечное содержание, устремление в бесконечность. Так у Шекспира, у Гете, у Л. Толстого, у Достоевского, у Софокла, у Бетховена, у Рембрандта, у Микеланджело и др. Так и красота человеческого лица должна иметь форму, без того она не была бы красива, но за этой формой должна просвечивать устремленность к бесконечной жизни, без этого красота будет мертвой. И красота природы должна быть жизнью, а не только формой. Бенедето Кроче прав, когда связывает искусство прежде всего с выразительностью.[95]95
См. Benedetto Croce. Estétique comme science de l’expression.
[Закрыть] Не только есть направление в искусстве, именуемое экспрессионизмом, но и всякое искусство и всякая красота есть экспрессионизм. Красота есть выражение бесконечной жизни в конечной форме.
Существовало символическое направление в искусстве, которое принадлежит уже прошлому. Но существует вечный символизм искусства. Подлинно реалистическим было бы, если бы через искусство совершалось преображение мировой и человеческой жизни. Но в искусстве даются лишь знаки, упреждающие реальное преображение. Смысл искусства в том, что оно упреждает преображение мира. Искусство полно символов иного мира. Всякая достигнутая красота есть начавшееся преображение мира. В пределах искусства это преображение еще не достигается. Но искусство может переходить за установленные для него пределы как для раздельной сферы культуры. Так, русская литература XIX века на своих вершинах стремилась выйти за пределы искусства и перейти от творчества совершенных произведений к творчеству совершенной жизни. Р. Вагнер хотел через синтез музыки и поэзии преобразить всю жизнь. Символисты хотели перейти пределы искусства, перейти к тому, что выше искусства, но это не всегда им удавалось. При этом символическое чувство жизни могло вести к крайнему преувеличению самых незначительных событий своей жизни (напр., у А. Белого, у Блока и др.), могла быть ложная возвышенность и теряться чувство реальности. Но было и что-то значительное.
Романтизм, не удовлетворенный конечностью классического искусства и его замкнутостью в раздельной сфере культуры, часто не мог достигнуть того, к чему стремился. Но есть искусство, самое сильное из всех по своему воздействию на человеческую душу, которое по своей природе скорее романтическое, чем классическое, это – музыка. Музыка есть искусство динамическое, она в движении, во времени, а не в пространстве, в ней нет законченной формы пластического искусства, и она наиболее порождает эмоциональное движение в человеке, потрясая его душу. Правда, говорят о классической музыке в отличие от музыки романтической, но это лишь условное выражение. Наиболее классична музыка Баха, она хочет выразить музыку небесных сфер, а не трагедию человека, как музыка Бетховена. Но и музыка Баха уводит из этого мира в иной мир и не оставляет в здешнем достижении совершенной формы, как бывает в пластических искусствах. Не случайно музыка есть искусство, связанное с христианским периодом истории, с христианской устремленностью к переходу за пределы, к трансцендентному.
Для Греции же более всего характерна скульптура. Уже живопись более усложненное искусство, чем скульптура. В литературе же наиболее усложненная, но и наименее чистая форма есть роман, характерный для души XIX века. Начали стремиться не столько к красоте, сколько к правдивости. Это само по себе было завоеванием. Но это же привело к тому, что померк идеал красоты. В конце концов искусство начало отрекаться от красоты. Книги по эстетике перестали связывать эстетическую восприимчивость и эстетическую эмоцию с красотой. Это порождает глубокий кризис искусства. Это видно по таким течениям, как футуризм, кубизм, сюрреализм и т. п. Поэзия, искусство перестают быть воспоминанием о рае, они скорее говорят об аде. Настоящий ад есть одна из тем современной литературы (напр., Кафка). И раньше искусство изображало уродливое (Гойя, Гоголь), но уродство в искусстве было преображенным, сейчас же к этому преображению не стремятся. Попытки же вернуться к классицизму бессильны и реакционны. Кризис искусства есть кризис человека и отражает состояние мира. Мир переходит в жидкое состояние, он теряет свои формы, нет более твердых тел в мире. Исчезают твердые формы космоса в теориях и открытиях современной физики. Теряются твердые формы человеческой души в открытиях психоанализа и у философов отчаяния, страха и ужаса, теряются твердые формы социальной жизни в разложении старого мира и т. д. Искусству и литературе все труднее и труднее становится достигнуть твердой формы.
Кризис искусства, как и кризис всей культуры, подводит к эсхатологической теме. Ослаблено, надорвано и непосредственное чувство красоты космоса, ибо космоса больше нет. Он разрушен физическими науками и властью техники над современной душой. Машина становится между человеком и природой.[97]97
См. мой этюд «Человек и машина», журнал «Путь» № 38.
[Закрыть] Вступление в техническую по преимуществу эпоху имеет метафизическое значение. И в эту эпоху переворачивается человеческое отношение к красоте. Человек как бы теряет остатки воспоминания о рае. Он вступает в ночь, в которой не видно форм, но есть блеск звезд. Тут есть прикосновение к концу. Наибольшей устойчивостью в разлагающихся формах мира обладает церковный культ. И красота его по-прежнему сильно действует на эмоциональную жизнь человека. Это понятно. В нем наиболее сохраняется богочеловеческая связь. Но и в нем возможны процессы омертвения, если не будут найдены обновляющие формы, выражающие творческий религиозный процесс.
Лет тридцать тому назад я читал публичную лекцию «Гибель красоты». Я защищал пессимистический тезис об умалении красоты в мире. Красота гибнет и в человеческом быте, который становится все более и более некрасивым, лишенным стиля, и в искусстве, которое все более отрекается от красоты. Искусство хочет выразить горькую правду о человеке, и правда эта некрасива. Тут есть и большая заслуга современной литературы и искусства, которые много дают для познания жизни. Для созерцания пластической красоты люди обращаются к прежним эпохам. Век техники, век масс, век подавляющих количеств, век ускорения времени не оставляет места для красоты. Как будто бы торжество большей социальной справедливости делает жизнь некрасивой, во времена социальной несправедливости жизнь была красивее. Это и поразило более всего К. Леонтьева. Ницше весь был в восстании против некрасивости демократического века. И он обращался к Ренессансу, эпохе глубоко безнравственной, но творившей красоту.
Существует конфликт между красотой и добром, и выход из этого конфликта совсем не так прост, как кажется и эстетам, и моралистам. Соединение красоты с истиной есть целостное преображение, просветление жизни. Красота же, разорвавшая с истиной и добром, начинает разлагаться и в конце концов превращается в уродство. Нет прогрессивного возрастания красоты в истории культуры, но есть утончение и обострение эстетического сознания и эстетической чувствительности. Тут приходится признать правду эстетического пессимизма. Эстетизм свойствен не столько эпохам творческой красоты, сколько эпохам некрасивым. В эпохи наиболее сильного творчества красоты совсем не было наиболее обостренного эстетического сознания.
Людям очень свойственно впадать в эстетическую иллюзию. Мы восторгаемся красотой исторических развалин. Но в привлекающем нас прошлом развалин не было, развалины как раз современны. Мы восторгаемся красотой старинного храма. Но старинный храм современен. В прошлом этот храм был новым, только что построенным, а не старинным. И так во всем. В прошлом не было того прошлого, которое эстетика привлекает, в прошлом было настоящее. В уродстве настоящего нас утешает то, что прошлое стало старинным. Память есть творческая сила, преображающая сила, она совсем не есть пассивность. Мы все время наталкиваемся на парадоксальность времени. Современные молодые течения мысли и литература во Франции приходят к философии отчаяния, и последнее слово у них принадлежит небытию. Человек так хитер, что он может себя утешить и отчаянием. Наиболее влияют на эти течения Ницше и Гейдеггер, отчасти Киркегард и Л. Шестов, хотя и в другом направлении, чем эти последние, имевшие религиозную устремленность. Таковы Сартр, Батай, Камю. Охваченные чувством уродства и тошнотворности бытия, они пытаются найти выход в творчестве человека. Но человек для них есть ничтожество и кусок грязи. Как может он быть творцом, откуда найдет силы? Добро само по себе бессильно и не спасает. Но так же бессильно и так же не спасает само по себе творчество в искусстве. Человек поставлен перед бездной бытия, перед отчаянием в результате опыта разрыва между человеческим и божественным, в переживании богооставленности. Красота не только человечна, красота богочеловечна. Прохождение через путь исключительного самоутверждения и самодостаточности человека ведет и к гибели красоты. Тут есть неотвратимая диалектика, диалектика самой жизни, а не мысли. Тема красоты ведет к теме конца, к эсхатологии. Человек проходит крестный путь к концу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.