Текст книги "Литературные воспоминания"
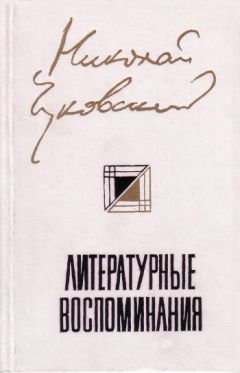
Автор книги: Николай Чуковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Когда мы вошли, кроме Горького в кабинете находился еще один человек, большинству из нас, в том числе и мне, незнакомый. Он сидел на тахте – в солдатской шинели, в обмотках, в солдатских сапогах. Шапка-ушанка с белым мехом лежала у него на коленях. Лицо у него было очень широкое, круглое, с узкими глазками и носом картошкой, и я принял его сначала за монгола. Горький познакомил нас. Это был Всеволод Иванов, недавно приехавший из Сибири и привезший свою первую книжку под названием «Рогульки».
Беседа с того и началась, что Горький стал нам рассказывать про Всеволода Иванова. Биография Всеволода Иванова оказалась весьма причудливой – он успел побывать и циркачом, и наборщиком и повоевать па многих фронтах. Все это нам очень понравилось, – в те времена была мода на пышные, пестрые, мужественные биографии. Никитин и Слонимский, например, изо всех сил старались выдумать себе биографии попричудливей, но у них это плохо получалось. Из всех профессий Всеволоду Иванову больше всего пригодилась профессия наборщика, потому что свою первую книжку «Рогульки» он набрал сам.
Пока Горький говорил, мы маленькую книжечку эту почтительно передавали из рук в руки. В ней были совсем небольшие рассказики, написанные темно и витиевато. Горький попросил книжечку себе и, восторгаясь, прочел один из рассказиков вслух. Мы восхитились. Витиеватость в рассказике была именно та самая, какой требовал Замятин от своих студистов у себя на семинаре. Горький предложил нам подружиться со Всеволодом Ивановым. И Всеволод Иванов был мгновенно принят в Серапионово братство.
Потом Горький перешел к разбору нашего творчества. Совсем не помню, каким образом Горький узнал о «Серапионовых братьях» и познакомился с тем, что они писали. Вероятно, связь первоначально установилась через Федина и Слонимского. Разбор творчества был краткий, но очень лестный для всех. Федина, Зощенко и Лунца Горький хвалил пространнее и горячее, чем остальных, но и остальные не были забыты; даже мои стихи удостоились совсем ими не заслуженного похвального отзыва. Затем Горький перешел к тому, что всех нас тогда интересовало больше всего, – к возможности печататься, к планам издания серапионовского сборника и книг отдельных серапионов. Помню, что при этом, наряду с Госиздатом, часто поминалось имя издателя Зиновия Исаевича Гржебина. Не раз было произнесено священное слово «гонорар», восхищавшее нас не столько тем, что сулило нам деньги, сколько тем, что приобщало нас к касте настоящих профессиональных литераторов.
Существует мнение, будто между Горьким и серапионами с самого начала установились отношения учителя и учеников. Мнение это не вполне справедливо. Такие отношения установились позже, постепенно, а вначале некоторые серапионы даже не понимали литературного значения Горького. Это был результат литературного воспитания. Ценили Горького за его политическую антиэмигрантскую позицию; дорожили им как добрым, могущественным человеком, способным оказать покровительство. Но как писателя знали его мало и понимали плохо. Я из всей его прозы знал тогда только «Детство» и «В людях» – и то не сам читал, а слышал отрывки, которые отец мой любил читать вслух за обедом. Некоторое впечатление на меня произвела лишь маленькая сценка, в которой изображался приказчик, съевший на пари десять фунтов ветчины, – и то только оттого, что я, постоянно в те годы голодный, позавидовал этому приказчику. Стихи его я, как и все в Доме искусств, считал банальными и смешными. Кроме стихотворения «Васька Буслаев», которое очень любил.
Язвительное стихотворение это я тоже слышал в чтении моего отца и вместе с отцом восхищался им.
Землю разукрасил бы – как девушку,
Обнял бы ее – как невесту свою,
Поднял бы, понес ее ко господу:
– Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да – накладно будет – самому дорога!
Убежден, что, скажем, Лунц и Каверин в 1921 году ценили и понимали Горького как писателя еще меньше, чем я. Лунц вообще не любил русскую прозу, он утверждал, что писать надо, как Конан Дойл, как Уэллс, как Киплинг, из русских прозаиков последних десятилетий более или менее признавал только Ремизова да Белого, и, конечно, Горький как писатель ничего не говорил его сердцу. Тогдашний Каверин, с его наивным шкловитянством, с сюжетным трюкачеством, с «остранением», с пристрастием к Гофману, еще меньше способен был понять Горького. Остальные тоже своими учителями считали Лескова, Ремизова, Белого, Бунина, Киплинга, Замятина, а никак не Горького. Учителем своим они признали Горького гораздо позже, а учились ли у него когда-нибудь действительно – не знаю.
С этого дня Всеволод Иванов стал настоящим серапионовым братом и посещал все серапионовские собрания. На ближайшем собрании в комнате Миши Слонимского он своим диковатым солдатским видом испугал серапионовых дам. Мила Сазонова, крупная, сильная, красивая девушка, шарахнулась в сторону, когда Иванов сел рядом с ней.
– Не бойтесь, я вас не потрогаю, – смущенно сказал Иванов.
Лунц, сидевший в кресле, захохотал, задрав ноги кверху, и долго еще повторял, вытирая слезы кулаками:
– Не бойтесь, я вас не потрогаю.
За Всеволодом Ивановым в серапионовской среде надолго установилась репутация неуклюжего увальня, деревенщины, по правде сказать, совершенно им не заслуженная. Этот тонкий душевно человек был такой же интеллигент, как и они, и обладал всеми теми же интеллигентскими пристрастиями, предрассудками и достоинствами, что и они сами. Однако его долго выдавали за какого-то особенного «человека из народа» и сочиняли про него, любя, соответствующие анекдоты.
Вот один из них.
В 1922 году серапионы чествовали в Доме искусств Мартина Андерсена-Нексе, впервые приехавшего в Советскую Россию. Присутствовал и я. Было нечто вроде банкета – без крепких напитков, разумеется. Датского языка из нас не знал никто, и разговаривать с почтенным гостем можно было только по-немецки. Естественно, разговором завладел Федин, лучше всех знавший немецкий язык. Тягаться с ним мог только Лунц, тоже недурно говоривший по-немецки. Слонимский и Никитин, покраснев от натуги, также произнесли несколько немецких фраз. Остальные были обречены на молчание. Но Всеволод Иванов тоже хотел принять участие в беседе. И, пожимая руку гостю, произнес:
– Und!
Единственное немецкое слово, которое знал.
Я не уверен, правда ли это. Сам я этого своими ушами не слышал. Но Лунц клялся, что правда.
Последним в Серапионово братство был принят Николай Семенович Тихонов. Произошло это не раньше ноября 1921 года.
На нашем горизонте Тихонов появился впервые, по-видимому, в самом конце двадцатого года. «Открыл» его Всеволод Рождественский и, «открыв», стал водить в Дом искусств.
У Всеволода Рождественского в то время было несколько особое положение – акмеист по убранству стиха, всеми корнями связанный с «Цехом поэтов», он был изгнан из «Цеха» и находился в дурных отношениях с гумилевцами. Однако лагерь будущих серапионов был ему совершенно чужд, относился к нему презрительно, насмешливо, и он, естественно, не мог прильнуть к нему. Но, не примыкая ни к одному из лагерей, он пользовался большим успехом как поэт. У него была своя собственная свита, состоявшая преимущественно из разных дам и барышень. И впервые Тихонов предстал перед нами именно как человек из свиты Рождественского.
На стихах Тихонова той зимы можно заметить влияние поэтики Рождественского.
С конца апреля по середину октября 1921 года меня не было в Петрограде, я вместе с родителями жил в Псковской губернии. Вернувшись после полугодового отсутствия, я нашел родной и знакомый мне петербургский литературный мир значительно изменившимся. За это время не стало и Блока, и Гумилева. Изменилось значение многих людей, появились новые люди.
Среди новых людей нужно назвать прежде всего Сергея Колбасьева – того морячка, которого Гумилев привез с собой из Севастополя. Я уже писал, что это был человек, издавший в Севастополе книгу стихов Гумилева «Шатер».
Теперь расскажу о нем немного больше. В течение всей гражданской войны он сражался на стороне красных, хотя происхождения он был отнюдь не пролетарского. Отец его принадлежал к старой дворянской военной семье, и Сергей Колбасьев бережно хранил медаль, полученную его предком за участие в Отечественной войне 1812 года. Мать его, Эмилия Петровна, урожденная Каруана, была итальянка из купеческой семьи, занимавшаяся вывозом хлеба через Одессу и Николаев. Она давно овдовела и находилась не то в родстве, не то в свойстве с Рейснерами, и, таким образом, Колбасьев, через знаменитую красавицу тех лет Ларису Рейснер, приходившуюся ему чем-то вроде кузины, оказался в близких отношениях с высшим командованием Красного Флота.
Это был худощавый, довольно высокий молодой человек с черными итальянскими глазами, быстро и много говоривший. Он был прост, приветлив, одержим литературой и необычайно легко сходился с людьми. Я вернулся в Петроград в октябре 1921 года, увидел его впервые и уже через неделю был с ним в самых коротких дружеских отношениях. На нем лежала тогда еще некоторая тень таинственности, – его привез и привел в Дом искусств Гумилев перед самой своей гибелью. Колбасьев был переполнен рассказами, анекдотами, пословицами из морской жизни, и все это – то трагическое, то смешное, часто непристойное – он щедро обрушивал на восхищенных слушателей. Стихи он писал тоже только о море. Впрочем, стихи его у нас большого успеха не имели.
Его дружба с Гумилевым и сам гумилевский покрой его первых стихов открывал перед ним двери «Цеха поэтов». И действительно, Георгий Иванов, Адамович, Оцуп отнеслись к нему весьма благосклонно. Но в «Цех поэтов» Колбасьев не пошел. Осенью 1921 года он избрал себе нового бога вместо Гумилева и шел туда, куда вел его новый бог. Этот новый бог был Николай Тихонов.
За полгода, что меня не было в Петрограде, Тихонов стал богом не для одного только Колбасьева. Его первые баллады, вошедшие потом в его первую книгу «Орда», потрясли весь наш мирок. Между ним и Рождественским не было уже ничего общего, связь их порвалась бесповоротно.
Тихонов захватил в нашем кругу место Познера, уехавшего весной. Но баллады Тихонова с самого начала имели успех гораздо больший, чем баллады Познера. Их лохматой, неуклюжей мощью восхищались все. Георгий Иванов говорил про него сквозь зубы, что это «сильный, но необработанный талант». Но особенно восхищались им серапионы. К балладам Тихонова отнеслись они с шумным восторгом и без конца заставляли его читать их. И он читал и только басовато похохатывал, слушая их упоенные восклицания.
Колбасьев забыл Гумилева и всей душой предался Тихонову. Он повсюду ходил за ним, был с ним неразлучен и сам писал стихи теперь не как Гумилев, а как Тихонов, но только гораздо слабее. Он всей душой любил Тихонова, и Тихонов позволял ему себя любить, как полгода назад позволял любить себя Рождественскому.
В ту осень серапионы был на взлете, Тихонова тянуло к серапионам. Тяготение это было естественно, потому что тогдашнее творчество его было очень близко к тому, что делали серапионы. И в ноябре решался вопрос о приеме в братство двух новых членов – Тихонова и Колбасьева.
Происходило это почему-то не в комнатенке Миши Слонимского, а в одной из парадных комнат Дома искусств. Всех не членов братства попросили выйти. Мы вышли в соседнюю комнату: я, Тихонов и Колбасьев. Ждали минут двадцать. Несомненно, за дверью происходили споры, но я о них не знаю ничего.
Потом вышел Каверин и объявил, что Тихонов принят, а Колбасьев – нет.
С тех пор в Серапионово братство не был больше принят ни один человек. Организация эта сформировалась окончательно.
Может возникнуть вопрос – сколько времени существовало Серапионово братство? Ответить на него не легко. Сборник под названием «Серапионовы братья» вышел только дважды, один раз в Петрограде, другой раз в Берлине, в 1921 и 1922 гг. Регулярные собрания с чтением друг другу своих произведений продолжались не позже, чем до 1923 года. Организационных собраний после того, на котором приняли Тихонова, больше по-видимому, не было совсем. Оставались только серапионовские «годовщины», справлявшиеся ежегодно 1 февраля. На одной такой «годовщине» десятого февраля 1931 года был и я. Происходила она на квартире у Тихонова, Зверинская, 2, и состояла в дружеской попойке. Не сомневаюсь, что только в этом заключался и смысл всех остальных «годовщин».
Однако, несмотря на это отсутствие организационных форм, «Серапионовы братья» продолжали существовать как единая, сплоченная, ни с кем не сливающаяся, очень деятельная организация по крайней мере до середины тридцатых годов.
Интерес их друг к другу как писателям слабел. Чем дольше шло время, тем больше они друг от друга литературно обособлялись. Но очень еще долго были они нужны друг другу для тех житейско-литературных битв, которые им приходилось вести.
Прежде всего это была энергичнейшая дружная борьба за возможность печататься, за овладение типографскими машинами. Все важнейшие издательские предприятия в Ленинграде двадцатых годов основывались при участии серапионов и в той или иной мере контролировались ими. Крупнейшими деятелями издательства «Прибой» были Миша Слонимский и Зоя Гацкевич – к этому времени уже Зоя Никитина, так как она вышла замуж за серапионова брата Николая Никитина. В Госиздате серапионы тоже играли немалую роль, и именно благодаря им были созданы и альманах «Ковш», и журнал «Звезда». Руководителями «Звезды» вплоть до 1941 года фактически были Слонимский и Тихонов. Но главной их цитаделью в течение долгого времени было Издательство писателей в Ленинграде. Возглавлял его Федин, наиболее влиятельными членами полновластного Редакционного Совета были Тихонов, Слонимский, Груздев, а бессменным секретарем – все та же Зоя Никитина.
Единство серапионов не раз помогало им в истории их отношений с другими группами литераторов. Прежде всего это сказалось внутри так называемого «старого» Союза писателей, возглавлявшегося Федором Сологубом. Они были приняты туда нехотя и сначала заняли самое скромное положение среди разных полупочтенных старцев, чрезвычайно себя уважавших. Но за какой-нибудь год они перевернули в Союзе все и, в сущности, стали его руководством.
«Старый» Союз писателей в Ленинграде был их главной цитаделью вплоть до создания «нового» Союза после ликвидации РАПП. Они установили дружественные и деловые связи с родственными им писателями в Москве, – сначала с Пильняком и Лидиным, потом с Леоновым и, наконец, с Павленко. Годы с двадцать седьмого по тридцать второй прошли для них в напряженной борьбе с РАПП, которую они вели умело, гибко и осторожно. Никогда не идя на рожон и используя борьбу рапповских главарей между собою, они ловко отводили от себя удары и, в то время когда кругом трещали кости, отделывались пустяками. В самый разгул авербаховщины они умудрились ходить в «левых попутчиках» и в «союзниках». РАПП требовал от них «перестройки», и они охотно и изящно «перестраивались», хотя, по правде говоря, ни в какой «перестройке» не было надобности, потому что они с самого начала были прежде всего советскими писателями. И в борьбе с РАПП они оказались победителями и пережили его.
Распались «Серапионовы братья» не в один какой-нибудь день, а постепенно, по мере того как с возрастом слабели дружеские связи.
1921 год был переломным годом в жизни страны. Кончилась гражданская война, Советская власть окончательно установилась почти на всей территории бывшей Российской империи. Продразверстка была заменена продналогом, произошли коренные изменения в отношениях между рабочим классом и крестьянством, городом и деревней. Контрреволюция, потерпевшая поражение на фронтах, стала прибегать к новым методам борьбы и пропаганды. Начался нэп, разрешена была частная торговля. Открылись кое-какие маленькие частные издательства.
1921 год был переломным годом и для нашего петроградского литературного круга. Во-первых, в этом году заметно изменился его состав. Умер Блок, погиб Гумилев. Георгий Иванов, Адамович, Оцуп, Одоевцева поняли, что оставаться им в Петрограде опасно, стали свертывать свою деятельность и готовиться к эмиграции. Уехал за границу Познер, появился Колбасьев. В этом году основались «Серапионовы братья», в Петроград приехал из Сибири Всеволод Иванов, прогремели первые баллады Николая Тихонова. Из Крыма возвратился в Петроград Мандельштам, из Москвы переехал в Петроград Ходасевич, и оба они сразу заняли заметные места в петроградской литературе.
Некоторые из антисоветски настроенных старых литераторов с возникновением нэпа возымели надежду, что им удастся воссоздать в Советской России антисоветскую печать. В журнальчике Волковысского и Харитона «Вестник Дома Литераторов» была помещена любопытная заметка, подписанная Петром Губером, бывшим сотрудником «Речи». Чтобы привлечь внимание к этой заметке, ее оттиснули на полосе вверх ногами, перевернутой. Озаглавлена была эта заметка «нэп и неп». В заметке объяснялось, что нэп – это Новая Экономическая Политика, а неп – независимая печать, и высказывалось упование, что вместе с нэпом придет и неп. Как известно, этому упованию не суждено было сбыться. Напротив, антисоветски настроенные литераторы с 1921 года сильно поутихли, и зато заметную роль в литературной жизни Петрограда стали играть пролеткультовцы: Садофьев, Кириллов, Панфилов.
Трехлетие 1918 – 1920 и семилетие 1922 – 1928 – это две весьма разные эпохи в жизни страны и в жизни литературы. В 1921 году были перемешаны черты обеих эпох, и потому он особняком стоит в памяти. Все ощущали тогда, что происходит перемена, и потому это был год всеобщих опасений и надежд. И конечно, никто не мог тогда предвидеть, каким из этих опасений и надежд суждено сбыться, а какие останутся втуне.
Холомки
В 1921 году наша семья с мая по октябрь прожила в Холомках. Холомки – это было имение князей Гагариных в Псковской губернии, на берегу Шелони, в 25 верстах от уездного города Порхова. Пахотные земли Гагариных были поделены между крестьянами, а усадьба Холомков была объединена с соседней усадьбой имения Новосильцевых «Вельское Устье» и превращена в совхоз. Главной драгоценностью совхоза был новосильцовский яблоневый сад – семь десятин великолепнейших старых яблонь, все ранет и белый налив. Остальные хозяйственные статьи совхоза были ничтожны – кое-какие огородишки да четыре тощие запаршивевшие лошади и две коровы. Лошадей и коров пасла шепелявая дурочка-пастушка, безобразная, немолодая, одетая в мешковину и до того грязная и вонючая, что к ней страшно было подойти. У пастушки этой почему-то были золотые зубы. Почему – не помню, вероятно, она была из опустившихся «бывших» – бывшая кухарка, бывшая лавочница, а может быть, и чиновница. Во всем уезде ни у кого, кроме нее, не было золотых зубов, и крестьяне, встречаясь с ней, не отрываясь смотрели ей в рот, как на чудо. Она постоянно опасалась, что кто-нибудь выбьет ей зубы с целью грабежа, и часто говорила об этом.
Для моего отца поездка в Псковскую губернию летом 1921 года была выходом из чрезвычайно тяжелого материального положения. В 1920 году родилась моя сестра Мура – четвертый ребенок в семье, – и отцу, единственному нашему кормильцу, решительно нечем было кормить нас в голодном Петрограде. Оставался только один выход – уехать в деревню и жить там, меняя вещи на продукты.
Беда заключалась в том, что никаких вещей у нас не было. К двадцать первому году мы уже все обносились до предела. Но отец нашел выход – с запиской от знакомых работников Петросовета он обратился на один из петроградских металлургических заводов и получил там мешок гвоздей и четыре стальные косы. Мешок с гвоздями притащил домой на спине я, – никогда в жизни мне не приходилось тащить ничего более тяжелого. Это было богатство – деревня погибала без гвоздей и кос. В Холомках мешок гвоздей и четыре косы мы обменяли на четыре мешка ржи. И жили там, пока не съели эту рожь, – до середины октября.
Холомки были открытием художника Добужинского. Он был знаком с Гагариными еще до революции, списался с ними и первым уехал к ним, увезя с собой всю семью. Гагарины продолжали жить в своем помещичьем доме благодаря неизреченной доброте А. В. Луначарского, который выдал им охранную грамоту. Семья Гагариных в это время состояла из трех человек – старой княгини, княжны Софьи Андреевны, женщины лет тридцати двух, и князя Петра Андреевича, семнадцатилетнего мальчика, моего ровесника. Старый князь уже умер, а старшие сыновья были в бегах за границей. Двухэтажный каменный дом их на берегу Шелони был построен перед самой войной и скорее напоминал виллу, чем помещичий дом. В доме сохранилась отличная библиотека Гагариных, и княжна Софья Андреевна, числясь библиотекаршей и получая зарплату из Порхова, выдавала книжки желающим.
Гагаринскую землю крестьяне запахали, но к ним самим относились добродушно и дружелюбно. Бывало, в какую избу ни зайдешь с Петей Гагариным – усаживают за стол, жарят глазунью с луком. Эти глазуньи, которых я так давно не пробовал, потрясали меня до глубины души. Петю крестьяне называли не иначе как «вашим сиятельством». Возможно, в благодушной этой почтительности был и расчет – ведь всего год назад в Пордовском уезде владычествовали банды Булак-Балаховича и окончательной уверенности в прочности Советской власти у крестьян не было.
Когда мы приехали в Холомки, там уже жил Евгений Иванович Замятин, тоже вызванный туда Добужинским – подкормиться. У Евгения Ивановича была и особая причина приезда, – он был влюблен в Софью Андреевну Гагарину, и между ними тянулся долгий и, по-видимому, трудный для обоих роман.
Вслед за нами стали приезжать привлеченные пищей все новые художники и литераторы. Из художников я помню двоих – Николая Эрнестовича Радлова с женой Эльзой и дочкой Мапой и Владимира Алексеевича Милашевского. Милашевский был тогда еще совсем молодой человек с уже большой и сложной биографией, как у многих молодых людей того времени. Он был на редкость здоров и силен, хохотлив, шумен и подвижен. Всего за несколько месяцев перед тем он вернулся из Сибири, где провел несколько бурных лет, воюя попеременно на стороне белых и красных. Политикой он нисколько не интересовался и относился к тому, что происходило в России, с презрительным равнодушием ландскнехта. Его назначили комендантом яблоневого сада совхоза, и он выполнял свои обязанности с удивительной ретивостью. Когда яблони начали поспевать, он построил себе между яблонь шалаш и сидел там днем и ночью, наблюдая за тем, чтобы деревенские мальчишки не крали яблок. Против мальчишек он вел правильную войну, устраивал ловушки, засады, с бешеным увлечением гонялся за ними, крича и перепрыгивая через заборы. Он утверждал, что крестьян надо сечь, и совершенно серьезно проповедовал восстановление телесных наказаний. Это не мешало ему установить самые дружеские отношения с местным населением, особенно с женской его половиной. Скоро он стал веселой грозой деревенских девок и баб. Впрочем, бесконечные его похождения не мешали ему всей душой отдаваться рисованию и живописи. Всюду таскал он с собой альбомчик и беспрестанно делал стремительные зарисовки. Как художник он был лаконичен и точен – особенно в портретах. Набросав портрет или пейзаж, он принимался громко восхищаться своей работой, так как обладал неистощимым самодовольством. Его наброски действительно были очень хороши, в них как живая отразилась деревня неповторимого двадцать первого года. Некоторые из них сохранились у меня до сих пор, – и это, может быть, лучшее и наиболее самобытное из всего, что он сделал за свою жизнь.
Литераторов понаехало в Холомки куда больше, чем художников. Появился Ходасевич с женой и пасынком, М. Л. Лозинский со своей лучшей ученицей Оношкович-Яцыной, Леткова-Султанова с сыном Юрием. Вслед за ними появилась и молодежь – Сергей Нельдихен, Миша Зощенко, Миша Слонимский, Лева Лунц и Муся Алонкина. Всех их вместить гагаринский дом не мог, и потому новоприбывших поселили в бывшем новосильцовском доме – Вельском Устье.
Новосильцовский дом стоял в двух верстах от Холомков – длинная деревянная двухэтажная постройка с просторными комнатами, паркетом и полным отсутствием мебели; мебель к этому времепи уже успели развезти по своим избам окрестные крестьяне. От Холомков к Вельскому Устью вела длинная березовая аллея. Дом Новосильцовых одним фасадом был обращен в яблоневый сад, другим – к бесконечным полям, где блестели изгибы Шелони и чернели деревни. Между домом и рекой стояла церковь, построенная в XVIII веке. По ту сторону реки, за мостом, возле кладбища, стояли три домишка, в которых жили священник, дьякон и псаломщик.
Новоприбывшие разместились в пустом доме кто как мог: на топчанах и просто на полу. Нельдихен устроился на террасе с перебитыми стеклами в длиннейшем ящике из-под яиц. Заглянул я как-то в этот ящик, смотрю, лежит он там на спине, на стружках, выставив вверх острые колени, в гоголевской крылатке, в галстуке бабочкой и ухмыляется своей обычной ухмылкой – дурацкой и плутоватой. Н. Э. Радлов решил преобразить внутренность новосильцовского дома и принялся расписывать его голые стены огромными фресками. Мы с жадным вниманием следили за его работой, быстро продвигавшейся вперед – каждый день появлялась новая фреска. На этих уморительно смешных фресках изображены были мы сами – и Нельдихен в крылатке, и изысканный Лозинский, и Добужинский, и мой отец, и стремительный Лева Лунц, и Гагарины, и Замятин, и маленький Ходасевич с челкой на лбу, в пенсне, с брезгливой улыбкой на крохотном личике.
В сторожке рядом с домом жили Вихровы – семья бывшего кучера Новосильцовых. В семье были две дочери – Женя и Тоня. Женя, старшая, лет двадцати трех, высокая, с удивительной осанкой, была почти совсем глуха. Рассказывали, что оглохла она в результате нервного потрясения после неудачного замужества. Когда летом 1917 года генерал Корнилов сделал попытку подтянуть к Петрограду войска и раздавить революцию, одна из его дивизий, так называемая «дикая», простояла три дня в окрестностях Вельского Устья. За эти три дня один офицер дикой дивизии, по фамилии Лещинский, успел жениться на Жене Вихровой. Венчались рядом, в церкви, при огромном стечении народа, потом сыграли пышную свадьбу, на которой пировали бесчисленные родственники Вихровых из окрестных деревень. Наутро после брачной ночи дивизия ушла, а вместе с ней ушел и Лещинский. С тех пор Женя Вихрова ничего больше не слышала о своем муже, – он даже письма ей не прислал ни разу. И она оглохла.
Глухоту свою она тщательно скрывала, и с лица ее не сходило выражение величавого замкнутого достоинства. Она казалась загадочной. По вечерам в домике Вихровых собирались Радлов, Милашевский, Ходасевич и я и играли с обеими сестрами в «почту амура». Женя очень нравилась Ходасевичу, и он не отходил от нее. Он читал ей стихи и без конца ей рассказывал о своих ссорах с Брюсовым, с Андреем Белым, о своих отношениях с издательством «Гриф» и журналом «Весы». Она слушала его молча, с загадочной полуулыбкой на величавом лице. Это его поощряло, и он говорил, говорил, хилый, беспокойный, торопливый, пронзительно умный, едва доходивший ей до плеча. Она, конечно, ничего не слышала, а если бы и слышала, ничего не поняла бы. Мы с Тоней понимали друг друга гораздо лучше.
Жене Вихровой посвящено написанное в то лето стихотворение Ходасевича, которое называется: «К Лиде». Начинается оно так:
Высоких слов она не знает,
Но грудь бела и высока,
И сладострастно воздыхает
Из-под кисейного платка.
Сестер Вихровых имел он в виду, когда писал в конце одного из своих стихотворений:
И к девушкам, румяным розам,
Склонясь усталою главой,
Дышу на них туберкулезом,
И Петербургом, и Невой.
Как тот угрюмый неудачник
С печатью бога на челе,
Я тоже – только первый дачник
На расцветающей земле.
Эта «печать бога на челе» требует пояснений. У Ходасевича на лбу была неизлечимая экзема, которую он прикрывал челкой. Он считал ее той печатью, которой бог отметил Каина – угрюмого неудачника – в знак его отверженности. Впоследствии, уже за границей, в одном из своих стихотворений, вошедших в книгу «Европейская ночь», он написал о себе:
Неузнанный проходит Каин
С экземою между бровей.
До Холомков, в Петрограде, я видел Ходасевича всего два-три раза. Мне очень нравились его стихи. Он только зимой 1920/21 года перебрался из Москвы в Петроград и не успел срастись с петроградским литературным кругом. Впрочем, он уже бывал и в Доме искусств, и у Горького. Здесь, в Холомках, он почувствовал во мне поклонника и отнесся ко мне очень благосклонно. У него был трудный литературный путь, и почитателями он не был избалован.
Как видно на примере с Вихровыми, между приехавшими из Петрограда и местными жителями установились самые тесные отношения. Нельдихен и Лунц подружились с дьяконом и его взрослой дочерью. Они каждое утро отправлялись в лес за грибами. Дьякон открыто ухаживал за Мусей Алонкиной и, встречаясь с ней, кокетливо бросал свой носовой платок в ее румяное личико с черными бровками. Миша Слонимский, давний Мусин поклонник, ревновал, но смирился и, вслед за Мусей, покорно ходил с дьяконом за грибами. По вечерам все собирались в новосильцовском доме. Открывались все двери, зажигались керосиновые лампы, местный агроном с лицом Козьмы Пруткова играл на гармони, и устраивалась грандиозная кадриль. В первой паре шел Замятин с княжной Софьей Андреевной, за ними задравший рясу дьякон с Мусей Алонкиной, за ними князь Петя с поповной Лидой, дочерью священника отца Сергия, за ними Милашевский с Женей Вихровой, затем Нельдихен с дочкой дьякона, М. Л. Лозинский с Оношкович-Яцыной, Зощенко с учительницей из деревни Захонье. Всем распоряжался тонкий, стройный, изысканно-изящный Радлов, громко возглашавший:
– Шанже во дам! Гран ронд!
И пары двигались среди выбитых окон, мигающих огней, мелькающих теней, между чудовищными фресками, украшавшими стены.
Это было первое мирное лето после семи лет войны. Никто не знал, надолго ли эта передышка, не возобновится ли война вот-вот опять, и все же все чувствовали огромное облегчение, предавались мечтам и надеждам. Продразверстку заменили продналогом, демобилизованные красноармейцы возвращались в свои деревни, бывшие конники с увлечением рассказывали о прошлогоднем польском походе, крестьяне впервые с уверенностью пахали доставшиеся им от помещиков земли, по вечерам на берегах Шолони молодежь жгла костры и прыгала через них, готовясь к свадьбам, по нищим разоренным деревням победно гремели песни. Да и погода стояла на редкость солнечная, яркая, теплая. В Поволжье летом 1921 года солнце сожгло весь хлеб, вызвав чудовищный голод, но для вечно мокрой, дождливой, болотистой Псковской губернии затянувшаяся ясная и сухая погода была благодатью. Подымались хлеба, цвела картошка, и окрепшая Советская власть все увереннее распоряжалась на земле.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































