Читать книгу "Генералиссимус Суворов"
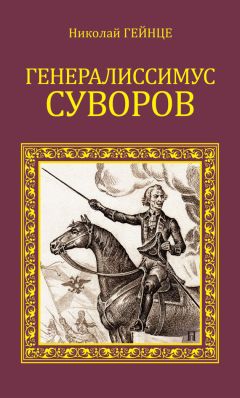
Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XVIII. В роще
Глаша стояла перед Александром Васильевичем бледная, исхудавшая. Она до того изменилась, что Суворов с трудом узнал ее, или, вернее, ему показалось, что перед ним стоит тень Глаши – привидение.
Он отступил шага на два назад. Глаша действительно была неузнаваема. Из сравнительно полной, здоровой девушки она сделалась буквально обтянутым кожей скелетом. Ее лицо приобрело какую-то мертвенную восковую прозрачность, и лишь синие глаза сделались еще больше, как бы выкатились из орбит и приобрели какое-то светлое, страдальческое выражение.
– Глаша… ты? – наконец, оправившись от первого впечатления встречи, мог произнести Александр Васильевич.
– Я… А что… не узнали? – горько улыбнулась девушка.
– Не узнал, действительно, не узнал… Что с тобой?.. Отчего ты такая сделалась?
– Не место здесь, барин, голубчик, рассказывать… Вишь все солдаты шныряют… Нет ли где схорониться… Затем и пришла сюда, чтобы всю душу перед смертью выложить…
– Пойдем… – сказал Суворов.
Они пошли рядом по лагерю к выходу на дорогу, ведущую в Петергоф. Появление этой пары не ускользнуло от внимания солдат.
– Ишь, наш капрал-то какую-то кралю подцепил! – послышались замечания в группах рядовых.
– Уж и краля, худа как щепка, в чем только душа держится… – раздались возражения.
– Тихоня наш капрал, тихоня, а бабу завел.
– Может, сродственница?..
– Держи карман, сродственница… Знаем мы этих сродственниц…
Все эти разговоры шли вполголоса и не долетали до шедших по лагерю Суворова и Глаши.
Дойдя до Петергофа, они свернули в рощу и, дойдя до первой полянки, остановились. Первый, собственно, остановился Александр Васильевич.
Он видел, что его спутница тяжело дышала и, видимо, изнемогала от усталости.
– Присядем, – сказал Суворов.
Глаша скорее упала, чем села на траву. Рядом с ней поместился и Александр Васильевич. Они незаметно зашли в самое отдаленное место окружавшей петергофский сад рощи. Кругом все было тихо. Эта тишина была тишина леса, составленная из бесчисленных звуков природы. Легкий ветерок шелестил верхушки деревьев, в траве стрекотали насекомые, в чаще листвы с ветки на ветку перепархивали птички, весело чирикая, и все эти звуки сливались в один, казалось беззвучный аккорд и составляли то понятие, которое называется тишиной леса.
Александр Васильевич и Глаша некоторое время молчали.
– Что с тобой, Глаша? – нарушил молчание Суворов.
Молодая девушка сидела, опустив голову. При этом вопросе она подняла ее.
– Что со мной, батюшка, Александр Васильевич, что со мной, вы спрашиваете?.. Да то, чего я не пожелаю и злому врагу.
Она заплакала.
– Да что же? Из-за чего ты вдруг стала такою странною? Ко мне так переменилась?
– К вам переменилась? – усмехнулась Глаша.
– Да, ко мне. Бывало, мне казалось, что ты нарочно мне все навстречу попадаешься, заговаривать старалась, ко мне в комнату ходила. Затем вдруг точно тебя кто от меня откинул. Чураться стала, будто нечистого. Как раз это было перед лагерями. Из лагеря я раза два-три в Питер наведывался, тебя не видел, не хотела, значит, видеть меня. Обнял я тебя тогда в последний раз, может, обиделась, тогда прости, я это невольно, по чувству.
Молодой Суворов говорил мешаясь и торопясь, как бы стараясь поскорее все высказать, что было у него на уме.
Глаша сидела и слушала с горькой улыбкой на побелевших губах. Она ответила не тотчас же после того, как он умолк. Казалось, она собиралась с мыслями…
– Обняли… обидели, – наконец начала она, и в ее голосе дрожали слезы. – Милый, желанный, Александр Васильевич, может, и жизнь свою отдать готова, чтобы вы обняли меня да расцеловали, только поняла я вдруг тогда, что не след вам до меня дотрагиваться… что я нестоящая, пропащая.
Глаша замолчала. Слезы градом катились из ее глаз.
– Что старое вспоминать… Теперь ведь ты другая, – заметил растроганный Суворов.
– Старое, – сквозь слезы заговорила Глаша. – Это старое все будет новое. От этого старого не отделаешься, с ним и в могилу пойдешь. Пятно несмываемое… За что, за что я погубила себя?..
Она снова горько зарыдала.
– Полно, полно, Глаша, уж и погубила, – подвинулся к ней ближе Александр Васильевич.
– Я ведь тоже не простая, – всхлипывая, продолжала молодая девушка, – папенька мой дьяконом был. Я, может, могла бы за благородного замуж выйти. Ведь могла бы?
Она остановилась и вопросительно посмотрела на него полными слез глазами.
– Конечно, могла, отчего же бы не могла, – отвечал Суворов, чтобы не раздражать ее противоречием.
Так, по крайней мере, думал он, но оказалось противное.
– Вот видите, вот видите, – заволновалась она. – А я себя погубила, ни за что погубила… Сгинула… Пропащая стала, пропащая.
– Но почему у тебя появились такие мысли? Кажется, была ты весела. Пела, бывало, как птичка.
– А помните вы мне книжек дали?
– Помню. Как же. Ты в последний раз у меня их забыла, так за ними не пришла. А я, признаться, ждал, – пробовал пошутить Суворов, но шутка его как-то оборвалась.
– Ждали. Не стоила я, чтобы вы меня ждали. Прочла я их, эти книжки, потому и не пришла.
– Это я в толк не возьму. Что же в этих книжках написано?
– Ах, как там хорошо написано про любовь. Когда девушка всю душу готова положить за своего милого. Когда один взгляд его ласковый заставляет ее сердце биться в сладкой истоме, когда она в объятиях его трепещет, как птичка в клетке, и жутко-то ей, и приятно. Какое это наслаждение – отдаться впервые любимому человеку. Но она, та, о которой там написано, была честная, чистая душа. И как она любила его… как любила.
Лицо Глаши, когда она говорила эту длинную тираду, оживилось, глаза заблестели, на щеках появился румянец. Она была положительной красавицей. Молодой Суворов невольно залюбовался на нее и слушал, затаив дыхание.
Этих немногих слов, этой бессвязной передачи романа, при страстности и убежденности речи, было достаточно, чтобы Александр Васильевич понял, что он был не прав, думая, как говорил он когда-то Глаше, что любовь – баловство.
– Ну, а что же он? – спросил он, заинтересовавшись рассказом.
– Он? Он тоже очень любил ее и не мог устоять. Они слюбились, но потом повенчались и были счастливы.
– Это хорошо, это бывает в жизни.
– Бывает, бывает, есть такие счастливицы.
Наступило молчание.
– Но я не пойму все-таки одного, – начал, после некоторой паузы, Суворов. – Почему же этот рассказ тебя так расстроил?
– Не понимаете, – вздохнула Глаша. – Вы и правы. Разве я имею право любить!
– Я это не говорю… Кто же может отнять у тебя это право?
– Конечно, но кто же меня полюбит… такую. Оно, может статься, пожалуй, и полюбят, на часок, на другой, за красоту, за статность, за тело мое. Об этом я и раздумалась… И стало мне противно это мое тело. Стала изводить я его постом и молитвою и всем, чем могла. Вот и дошла. Какова? Красива стала?
Она с горькой усмешкой оглядела Александра Васильевича. Тот молчал.
– А особенно тяжело мне стало, когда увидела я, что человек, которого я вдруг ни с того ни с сего всей душой полюбила – сама сознаюсь, хороводить его стала, заигрывать – поддался, а сперва и приступу не было. Поняла я, что опять красота моя телесная службу мне сослужила. Как, подумала я, отдаться мне ему, моему касатику, мне, нечистой, опозоренной. Точно по голове меня тогда обухом ударили. Убежала я от него и хоронится стала. Ан бес-то силен – сюда пришла.
Она замолчала и опустила голову.
– Вот что, – воскликнул взволнованно Суворов. – Так это ты меня полюбила, а потом и стала избегать меня… Но ведь я тебя тоже люблю. И какое мне дело до твоего прошлого. Зачем, зачем ты и себя, и меня мучила!
– Так нужно было. Теперь я все-таки чище, честнее. Да и жить мне не долго осталось. Напоследок хоть на тебя, мой касатик, порадоваться. Так ты и впрямь любишь меня, ненаглядный мой?
– Люблю, люблю…
Он подвинулся к ней еще ближе. Она обвила его шею своими руками. Губы их слились в долгом горячем поцелуе.
– Дорогой, желанный… хоть напоследок-то дождалась я настоящей любви… чувствую, что умру скоро, но теперь… пусть…
– Молчи, молчи. Ни слова о смерти. Теперь жить надо и для себя… и для меня, и…
Она не дала ему договорить.
– Милый, желанный!
И снова Александр Васильевич ощутил на своих губах жгучий поцелуй ее горячих, пересохших губ. Он крепко сжал ее в своих объятиях и почувствовал опьяняюще страстный трепет ее исхудавшего тела.
Солнце уже склонялось к западу. Вся роща окуталась какой-то таинственной дымкой, предвестницей росы.
Суворов и Глаша тихо шли по тропинке, ведшей в расположенную под Петергофом деревеньку. Там Александр Васильевич надеялся найти возницу, который бы доставил Глашу в Петербург.
При самом входе в деревеньку из ворот крайней избы выехала тележка, запряженная сытой и сильной лошадью. В ней сидел седой, как лунь, старик.
– Дедушка, а дедушка, – окликнул его Суворов.
Тот придержал лошадь.
– Ась, служивый…
– Куда путь держишь?
– В Питер.
– Не подвезешь ли девушку?
– Отчего не подвезти. Пускай садится…
Александр Васильевич одной рукой помог Глаше усесться в телегу, а другой сунул в руку старика несколько монет.
– За провоз, дедушка.
– Спасибо, служивый, и так бы подвез. Не велика тяжесть. А, впрочем, внучке на гостинцы.
– До свиданья, Глаша. Сюда не ходи. Сам буду урываться и наведываться. Береги себя.
Глаша только махнула рукой.
Тележка, подхваченная сильной лошадью, покатила по деревенской улице. Суворов некоторое время стоял и смотрел ей вслед. В первый раз эта, даже временная, разлука с женщиной произвела на него впечатление. Ему казалось, что что-то оторвалось у него у сердца. Он даже сделал жест негодования на самого себя и скорыми шагами отправился в лагерь.
По мере приближения к нему снова волна служебных обязанностей охватила его, и в ней утонули пережитые им впечатления сегодняшнего дня. Он стал обдумывать, все ли исправно во вверенном ему капральстве. Ответ получался утвердительным. Незаметно он достиг своей палатки, где он жил с несколькими товарищами. Последних в ней не было.
Александр Васильевич на свободе присел к столу и стал читать. Занимаясь, он нет-нет да и вспоминал о Глаше, о проведенных с нею в роще часах, о том, как она доехала, но вскоре усилием воли он заставил себя сосредоточиться на книге, которая лежала перед ним, и читал до «зари», по прибытии которой и лег спать.
Снов он не видел никогда.
Утро прошло в занятиях, и лагерно-военная жизнь для Александра Васильевича Суворова, прерванная неожиданным романтическим эпизодом, вошла снова в свою обычную колею. Укромное местечко петергофской рощи не сделалось Капуей для воина.
Через неделю, однако, выдался день, когда была возможность отпроситься на побывку в Петербург. Суворов воспользовался этим случаем.
Его встретила Марья Петровна, собравшаяся куда-то уходить.
– Что Глаша? – спросил он ее, даже не поздоровавшись как следует.
– Ничего, дома, – глянула на него подозрительно попадья, – чахнет, девка, да и только. Куда-то надысь сбежала… Целый день пропадала… Повеселела было… А теперь снова за-кручинилась… Уж я думаю, ей за прежнее рукомесло приняться, может, отвыкать от их жизни трудно.
– Что вы вздор говорите, Марья Петровна! – вспыхнул Александр Васильевич. – Девушка исправилась, а вы ее в тот же омут толкаете.
– Кто ее толкает? Никто! Ее же жалеючи раздумываю. Вы ее не видели, так посмотрите. Краше в гроб кладут. А то толкаете.
Обидевшаяся Марья Петровна вышла из сеней. Суворов прошел к себе.
– Глафира Ефимовна, а Глафира Ефимовна! – крикнул он через стену.
– Сейчас приду, – послышался ответ.
Через несколько минут на пороге его комнаты появилась Глаша. Марья Петровна была права. Со дня свидания в Петергофе она, кажется, еще более похудела, если только это было возможно.
– Вот, я урвался, Глашечка, – обнял ее Александр Васильевич.
– Ничего, ничего… А уж как я рада, как рада… – целовала она его в лоб, губы, щеки.
– Здоровье-то как?
– Здоровье, что здоровье… Я счастлива… Тебя вижу… Что мне думать о здоровье… Хоть час, да наш…
Она усадила его на постель и обвила руками за шею.
– Милый, желанный…
XIX. Роман Суворова
Завязавший роман Суворова с Глашей, если только этот любовный эпизод можно назвать романом, нимало не отразился ни на служебных, ни на научных занятиях молодого капрала.
Александр Васильевич с самого раннего детства принадлежал к людям, не мешающим дела с бездельем. Он держался мудрого русского правила: делу – время, потехе – час. В число потех включал он и отношения с женщинами.
Но и самая служба, как мы видели, не имела для него значения навязанного судьбою тяжелого труда; она не представлялась ему рядом скучных, формальных, мелочных обязанностей. Он ей учился, учился с увлечением, с радостью; знакомился с нею во всех подробностях, для него даже необязательных; нес на себе обязанности солдата в служебных положениях, важных и неважных, легких и трудных. Для него это было нужно, как нужны были научные занятия; перед ним в неопределенной дали светилась едва видимая точка, дойти до которой он задался во что бы то ни стало.
Эта отдаленная цель показалась бы для других абсурдом, бредом больного воображения, до того достижение ее было несбыточно для юного дворянчика-солдата, без связей и покровительства, без большого состояния, безвестного, неказистого, хилого. Но Суворов чувствовал в себе достаточно сил для того, чтобы добиваться этой, якобы несбыточной, мечты, определил к тому средства, обдумывал программу.
В программу входили развитие ума и укрепление тела, что он уже делал; входило в него и изучение солдатской среды, решение – освоиться с нею вполне без оглядок и компромиссов. К этой части программы он, как мы знаем, приступил тотчас, как попал в полк, и стал, действительно, заправским солдатом.
Мысль – изучить солдата во внешнем его быте до мельчайших подробностей обычаев и привычек и во внутренней его жизни до тайных изгибов его верований, чувств, понятий, – есть в сущности мысль простая для того, кто задался такой целью, как Суворов.
Вся трудность заключалась в исполнении; требовалось постоянство и выдержка необычайная, нужна была воля, ни перед чем не преклоняющаяся. Александр Васильевич с детства обладал этими условиями и потому цель достиг. Быть может даже, что он ушел дальше, чем сам предполагал.
Едва ли перед глазами 20-летнего Суворова обрисовывался определенными очертаниями идеал, во всем схожий с будущим, действительным Суворовым зрелых лет. Он мог хотеть изучить солдата, исследовать этот малый атом великого тела для того, чтобы уметь владеть этим телом. Ему нужно было средство для достижения цели, которую он видел в Юлие Цезаре и других, но претвориться в солдата, сделаться таким, чтобы от него «отдавало солдатом» всюду и всегда, – этого он желать не мог. Не было к тому и никакой надобности для человека высшего сословия, образованного и развитого; не могло быть и желания.
Вышло, однако, не так, его втянула в себя солдатская среда. В русской солдатской среде много привлекательного. Здравый смысл в связи с беззаботным юмором; мужество и храбрость спокойные, естественные, без поз и театральных эффектов, но с подбором самого искреннего добродушия; умение безропотно довольствоваться малым, выносить невзгоды и беды так же просто, как обыденные, мелочные неудобства.
Суворов был вполне русский человек – погрузившись в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести на себе ее сильного влияния. Он сроднился с ней навсегда; все, на что он находил себе отголосок в ее натуре, выросло в нем и окрепло или же усвоилось и укоренилось. В бытность свою солдатом он изучал во всей подробности воинские уставы и постановления, бывал постоянно на строевых учениях и ходил в караул.
В нем не было ни тени дилетантского верхоглядства или резонерства; все было для него достойно внимания и строгого исполнения. Он ничего не делал наполовину или кое-как, все заканчивал. Всякую обязанность свою или служебное требование он исполнял с величайшей точностью, граничившей с педантством.
Его уму присущ был дух критики, но он дал ему волю лишь впоследствии. В описываемое нами время он учился – и критике места не было.
Такого разбора солдат не может быть заурядным служакой, и действительно, Суворов был образцом для всех.
Между тем это не могло достаться ему легко. В полку застиг его критический возраст, когда здоровье требует особенного о себе попечения. Но Суворов и тут вышел победителем, продолжая начатую дома закалку своей натуры.
Это был целый прикладной курс гигиены, обдуманный и с большим терпением исполняемый. Александр Васильевич положительно укрепил свое здоровье и, будучи с виду тщедушным и хилым, лучше иных здоровяков переносил усталость, голод, ненастья и всякого рода лишения[10]10
Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. Т. I.
[Закрыть].
Еще раза два за короткое оставшееся лагерное время Александр Васильевич был в Петербурге и виделся с Глашей. Марья Петровна, видимо догадавшаяся об отношениях, завязавшихся между племянницей и молодым жильцом, ни словом, ни намеком, однако, не выдала этого и только как-то особенно любовно стала на них обоих поглядывать. Вдова-попадья была очень довольна своим открытием.
«Хороший малый, добрый, приветливый, ласковый, серьезный, – мысленно восхваляла она Суворова, – и не такой бы, прости Господи, шлюхе чета. А впрочем, видно, ей такая планида, все лучше хорошему человеку достанется, чем так зря, нивесть кому. Только что он в ней нашел. Когда она пришла сюда, еще была девка девкой, и телом, и дородством брала. Тогда он на нее, кажись, не обращал никакого внимания. А теперь выдра выдрой стала, в чем только душа держится, а он ее-то, дохлую, и облюбовал».
Так размышляла сама с собой Марья Петровна, и на заданный ею себе вопрос не находила ответа. «Приворожила, шельма, наверняка приворожила».
На этом решении Марья Петровна успокоилась.
«А бог с ним, пусть их любятся», – в конце концов решила она.
Ее чуждому всякой глубины мысли уму, конечно, могло показаться более чем странным, что роман Александра Васильевича начался чуть ли не с умирающей девушкой. Здоровье было главным условием любви в том смысле, в каком понимала ее Марья Петровна, в каком понимает ее, с одной стороны, впрочем, и русский народ, выражая в одной из своих пословиц мысли, что «муж любит жену здоровую».
С другой стороны, этот же народ знает любовь «как синоним жалости», знает, однако, если можно так выразиться, в своей бессознательной мудрости, не вдаваясь в психологию этого определения, но лишь заменяя порой слово «люблю» словом «жалею». Эта-то именно любовь-жалость и наполнила сердце молодого Суворова при виде Глаши в Петергофе во время беседы с нею с глазу на глаз в роще. Это чувство не имело ничего общего с тем, повинуясь которому он на петербургской квартире заключил Глашу, неожиданно для нее, да, пожалуй, неожиданно для самого себя, в объятия. Этот порыв скорее чувственности, чем чувства, он мог легко побороть в себе и хотя и вспоминал о предмете своего вожделения, но лишь на досуге, в то время, когда не был занят ничем другим. Эта чувственность проснулась в нем и там, в роще, проснулась согретая чувством жалости к этой раскаявшейся и бичующей себя девушке, раскаявшейся и бичующей вследствие любви к нему.
Польщенное самолюбие тоже было для того немалым импульсом и сделало в его глазах хотя и исхудавшую, подурневшую Глашу еще более привлекательной.
Вызывающая вспышка страсти надломленного организма молодой женщины, носящей уже смерть в груди, носит в себе необычайную жгучую притягивающую силу, способную захватить даже пожившего человека, а не только почти неиспорченного юношу, каким был Суворов. Вот ответ на вопрос, который не могла разрешить себе Марья Петровна.
Глаша между тем не поправлялась, она с какой-то дикостью отдавалась наслаждениям любви, как бы спеша взять их от жизни, не нынче завтра готовой угаснуть, и делала Александра Васильевича своим невольным убийцей.
Надо отдать справедливость, что несколько времени после возвращения из лагеря он опомнился первый и, будем откровенны, опомнился главным образом потому, что почувствовал, что такая жизнь действует роковым образом на его здоровье.
Но было уже поздно, не относительного его, к счастью России, а относительно Глаши.
Молодая девушка слегла. При других обстоятельствах Марья Петровна отправила бы ее в больницу, но теперь, ввиду того что в Глаше принимал участие Александр Васильевич, она положила ее в большой комнате, где и была устроена покойная постель. Сделано это было, конечно, не без совещания с Суворовым.
– Глафира-то у нас плоха, – встретила она раз возвращавшегося из казарм Александра Васильевича.
– А что? Как плоха? – с тревогой в голосе уставился он на Марью Петровну.
– Как плоха? Да как бывают плохи… Кончается.
– Что вы за вздор говорите. Как кончается? Я ее вчера видел. Она была ничего.
– То-то ничего, вчера, может, и ничего. А нынче с утра головы поднять не может. Лежит пласт пластом.
– Что вы? – испуганно воскликнул Суворов.
– Да взгляните. – Она ввела его в первую большую комнату. – Я уж ее на время сюда пристроила. В кухне-то, да в маленькой душно.
– Конечно… конечно, но почему же на время, пусть лежит здесь, пока не поправится.
– А я смекала в больницу отправить. Где уж ей поправиться.
Суворов вздрогнул.
– Что вы, что вы… Зачем это даже думать. В больницу – ни за что! Я не пущу… Там вот как раз уморят.
– Что морить-то.
– Ни за что в больницу… слышите!
– Дорого будет здесь-то, лекаря надо, опять же лекарство.
– Об этом не заботьтесь! Я за все заплачу. Я недавно получил от отца деньги.
– Как вам угодно. Коли заботитесь о сироте, не чужой считаете. Бог вам за это пошлет, – заметила Марья Петровна.
Весь этот разговор происходил шепотом, у порога отворенной двери большой комнаты.
В самой комнате, куда вошли Суворов и Марья Петровна, царил полумрак. Нагорелая сальная свеча, стоявшая на столе, невдалеке от кровати, бросала на последнюю какой-то красноватый отблеск. Глаша лежала разметавшись, и обострившиеся, как у покойницы, черты лица носили какое-то страдальческое выражение, закрытые глаза оттенялись темной полосой длинных ресниц, пересохшие губы были полуоткрыты.
«Она действительно… кончается», – мелькнуло в голове Александра Васильевича.
Холодный пот выступил на его лбу.
– Глаша, Глаша, – подошел он на цыпочках к больной и наклонился над ней.
Она с трудом полуоткрыла глаза и молчала.
– Глаша… это я, – продолжал он в том предположении, что она его не узнала.
– Ты… – чуть слышно шевельнула она губами и высвободила из-под одеяла правую руку.
Он взял ее за руку. Рука эта горела огнем и была совершенно влажная. Суворов почувствовал слабое пожатие руки и отвечал тем же. Марья Петровна стояла несколько вдали и слезливо моргала глазами.
– Пить, – прошептала больная.
Марья Петровна взяла кружку с теплым сбитнем и подала Александру Васильевичу. Тот взял ее левой рукой и, не выпуская правой из руки больной, поднес кружку к ее губам. Она с усилием поднялась и жадно прильнула к кружке. Сделав несколько глотков, она вдруг страшно закашлялась. Глухие хрипы в груди красноречиво говорили об окончательном поражении легких. Кровавая пена, появившаяся на губах, дорисовала картину злейшей чахотки, в которой находилась молодая девушка. Припадок кашля прекратился. Голова больной бессильно упала на подушки, глаза снова закрылись.
– Бегите за лекарем, – тревожно прошептал Александр Васильевич и, осторожно высвободив свою руку из рук больной, вышел из комнаты вместе с Марьей Петровной.
Они вместе прошли в его комнату, где Суворов сунул в руки попадьи несколько монет.
– Скорее, скорее за лекарем. Это было надо раньше, – схватился он за голову.
– Да мне и невдомек, худеет да кашляет. Я ее и молоком, и травами поила. Не я причина, – обиделась Марья Петровна.
– Знаю, знаю. Идите, идите, – почти простонал Суворов.
Марья Петровна вышла. Александр Васильевич бросился на свою постель, лицом в кожаную подушку, и зарыдал. Даже закаленная им самим его натура не выдержала.









































