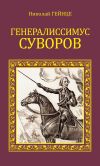Читать книгу "Герой конца века"

Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
VII
Нежданный гость
В то время, когда Савин и Маргарита Николаевна Строева благодушествовали в Рудневе, Настя, или, как мы ее будем называть теперь, вследствие ее полубарского положения, Настасья Лукьяновна Червякова вела деятельную жизнь в Серединском.
Имение и хозяйство в нем было действительно страшно запущено, и Настасья Лукьяновна ретиво принялась за его исправление, всюду поспевала сама и ее властный голос раздавался то в саду, то в амбарах, то на покосе, то на гумне.
– Ну и глазастая эта у нас «барская барыня», – говорили наемные рабочие и работницы, жившие в дворовых избах, и крестьяне села, подряжавшиеся на работу.
– Сметливая, любому мужику, либо дотошному помещику впору…
– Да и краля, братцы, писаная, ведь уродится же такая из простых крестьян… Подлинно барский кусочек… За красоту ей да за тело и честь.
– Баба вальяжная… Да не в этом суть, башка у ней ровно как мужицкая… До всего доходит, все знает… Для барина во как старается… Страсть.
– Любит…
– Любит… Ишь сказал… Ты в городе не живал, а я годов пять в самом Питере выжил… Пронзительные, братец, там тоже бабы…
– Ну?..
– Вот те и ну… А вот того самого ума в них нетути… Да и любовь-то тоже городская, питерская.
– Ась…
– Питерская, говорю, городская… Ишь Настасья-то норовит, коли любит, все барину-то в карман, да в карман, а те, питерские, коли полюбят, так все из кармана и тащут.
– Облегчают, значит.
– Уж подлинно, что облегчают.
– Эта, значит, еще не дошла.
– То-то оно, что не дошла… А может и честь есть, да совесть хрестьянская.
– Может и так.
Как-то раз под вечер на аллее, ведущей к дому, показался запряженный парой лошадей открытый тарантасик из тех, в которых выезжают на ближайшую станцию железной дороги серединские крестьяне, занимающиеся извозом.
Настасья Лукьяновна в это время была во дворе и отдавала свои последние приказания скотнице.
С крайним удивлением она увидала приближающийся экипаж.
– Кого это Бог несет? – недоумевала она.
– Не становой, нет… Становой был недавно… Землемер… Этот должен быть еще через неделю…
В это время тарантасик въехал на двор и остановился у подъезда, на крыльце которого уже стояла Настя, все еще не решившая вопроса, кто мог быть этот нежданный и негаданный гость.
Тем временем из тарантасика выскочил небольшого роста человек в коричневом, довольно потертом летнем пальто и военной фуражке.
Он был совершенно незнаком Настасье Лукьяновне, но зато хорошо знаком нам с тобой, дорогой читатель.
Перед Настей стоял Эразм Эразмович Строев.
Он подошел к ней и почтительно снял фуражку.
– Вы сами Настасья Лукьяновна Червякова и будете?
– Точно так-с…
– Очень приятно… Позвольте пожать вашу ручку…
Настя как-то машинально подала руку, все продолжая смотреть на странного посетителя.
– Вы это откуда же меня знаете? – наконец спросила она.
– Слухом земля полнится… Да и сами рассудите, как мне вас не знать, коли у меня до вас дело есть…
– До меня дело?.. – побледнела Настасья Лукьяновна.
– До вас, до вас самих…
– А сами-то кто вы будете?
– Отставной капитан Эразм Эразмович Строев… – расшаркался приезжий.
– Какое же дело?
– Ах, вы, королевна моя, владелица здешних мест!.. Да разве так принимают гостей… Али взашей меня хотите выгнать, так не делайте этого, потому самим себе вред нанесете, большой вред…
– Зачем взашей, помилуйте…
– А коли не взашей… так в дом пустите путника. Накормите, напоите да спать уложите… А наутро уже и спрашивайте: что ты, добрый молодец, мне поведаешь…
– Живу-то я здесь одна, так боязно… пужаюсь…
– Чего же боязно, не волк я, не съем, да для такого кушанья и зубов нет… Гожусь я вам в отцы, королевна моя, так чего же меня пужаться…
– Милости просим… – после некоторого колебания, сказала Настасья Лукьяновна.
Она пропустила в дверь Эразма Эразмовича и затем вошла сама.
Девочка лет пятнадцати, белокурая и голубоглазая Оля, сняла с гостя пальто, и он остался в том сюртуке, в котором мы видели его в Петербурге, но вместо одной орденской ленточки в петлице сюртука висел на ленте георгиевский крест.
Настасья Лукьяновна распорядилась о чае и закуске, и кстати шепнула Оле, чтобы она приказала двум работницам и работнику Вавиле – это был рослый, здоровый, хотя и пожилой мужик, приходить ночевать в дом.
Вскоре в столовой за накрытым столом, на котором кипел самовар и стояли всевозможные деревенские яства, графин с настоянной травами водкой и несколько бутылок домашней наливки, сидел Эразм Эразмович Строев и молча отдавал дань плодам искусства и забот молодой хозяйки.
– А я сюда прямиком из Тулы… – проговорил он, утолив первый голод.
– Из Тулы? – встрепенулась Настасья Лукьяновна.
– Прямохонько, кралечка, прямохонько… Как узнал, что вы здесь, в Серединском, проживаете, так я, айда, в Калугу.
– Вам что же от меня угодно?
– О том речь после трапезы, кралечка, после трапезы…
– А вы не видели в Туле Николая Герасимовича?
– Не лицезрел, не удостоился, да его в Туле и нет, а проживает он в Рудневе, как бы в крепости… На острове, так сказать, любви, купаясь в море блаженства… – заплетающимся уже языком говорил Эразм Эразмович.
– В Рудневе… любви… блаженстве… – повторила упавшим голосом Настасья Лукьяновна.
Сердце ее болезненно сжалось.
Хотя она почти ничего до сих пор и не понимала из того, что говорил ей ее собеседник, но чувствовала, что он явился сюда для нее не добрым вестником.
Гость между тем продолжал пить рюмку за рюмкой и уже в конце, как он выражался, «трапезы», еле ворочал языком.
Молодая женщина понимала, что после такой трапезы разговора с ним быть никакого не может.
Он действительно болтал какие-то бессвязные речи, произнося угрозы и даже ругательства по адресу Николая Герасимовича и какой-то неизвестной Настасье Лукьяновне «Маргаритки».
Наконец, опрокинув в себя чуть ли не двадцатую рюмку водки, – огромный деревенский графин был опорожнен почти напо ловину, – он промычал:
– Ну, теперь… буде… Спать…
Он хотел приподняться, но снова грузно опустился на стул. Голова его свесилась на грудь и, не спускавшая с него испуганных, недоумевающих глаз Настя, увидала, что он засыпает.
Позвав двух работниц, она приказала им отвести гостя в отведенную ему комнату и положить на постель.
Обе бабы схватили Эразма Эразмовича под руки и почти буквально волоком потащили из столовой.
Он спал крепким сном.
– Ишь назюзюкался… дорвался… – говорили бабы. – И откуда его сюда нелегкая принесла?
Им обеим было известно, что Настасья Лукьяновна совершенно не знала этого приезжего.
Молодая женщина осталась сидеть в столовой в глубокой задумчивости.
Ее вывели из нее вернувшиеся работницы.
– Ну, что?.. – спросила она.
– Уложили, дрыхнет, как боров, прости, Господи… Да откуда он взялся, Настасья Лукьяновна? – отвечала одна из баб.
– Я и сама не ведаю… Говорит, из Тулы…
– По поручению, знать, Николая Герасимовича.
– Кажется, нет, его не разберешь.
– Коли нет, так и гнали бы в шею…
– Пусть выспится, может и добьемся от него толку.
Работницы вышли.
Настасья Лукьяновна отправилась в свою комнату, но не могла заснуть всю ночь. Страшное подозрение, что Савин выгнал ее из Руднева, чтобы заменить другой, росло и росло в ее душе.
«Блаженствует на острове любви…» – припомнила она слова пьяного гостя.
Ее всю охватывала дрожь негодования.
VIII
Исповедь мужа
С нетерпением ожидала Настасья Лукьяновна утра, а с ним и разъяснения мучивших ее сомнений, за эту бессонную ночь превратившихся почти в полную уверенность в коварной и низкой измене любимого человека.
Какая-то странная перемена произошла в молодой женщине, даже черты лица ее изменились, они за эту ночь как-то резко обострились, в глазах появилось несвойственное им ранее злобное выражение и какой-то стальной блеск.
Встав со светом, она в обычный час вышла в столовую, где уже кипел на диво вычищенный, блестевший как золото, самовар.
Одновременно с ней Оля внесла и поставила на стол горячие булки, которые так мастерски пекла серединская стряпуха.
– Посмотри, не проснулся ли? – сказала Оле Настасья Лукьяновна.
Та с полуслова поняла, о ком идет речь, и быстро вышла из комнаты.
Через несколько минут она вернулась:
– Спит…
– Спит?
– Так одетый и спит, и крестик болтается… – наивно сообщила девочка.
Молодая женщина сдвинула брови и снова задумалась.
– Может, побудить к чаю? – спросила после некоторого молчания Оля.
– Нет, пусть выспится…
Налитая чашка чаю стояла перед Настасьей Лукьяновной, сидевшей подпершись о стол рукой и думавшей свою невеселую думу.
Она не дотронулась до чаю и по прошествии получаса вновь послала Олю справиться, не проснулся ли вчерашний гость. Девочка вернулась с тем же известием.
– Спит, храпит на всю комнату.
Так продолжалось несколько раз, с некоторыми более или менее продолжительными перерывами, и, наконец, Оля возвратилась и с искренней радостью доложила:
– Проснулись, умываться просят.
Девочка была очень привязана к Настасье Лукьяновне и видела, что последнюю огорчает, что гость долго не просыпается.
– Скорей вели взять подогреть самовар, а сама подай ему умыться и скажи, что, мол, просят в столовую чай кушать.
Оля выбежала из комнаты, а через минуту вошедшая работница взяла со стола самовар.
Чашка с чаем Настасьи Лукьяновны так и осталась нетронутой.
К тому времени, как Эразм Эразмович вышел в столовую умытый и причесанный, в вычищенном платье и сапогах, самовар уже кипел снова на столе.
– Здравствуйте, как почивали?.. – приветствовал он Настасью Лукьяновну.
– Благодарю вас… Прошу садиться… Вы с лимоном или со сливками?.. У нас густые, прекрасные.
– Ни с чем… – категорически объявил Строев, садясь на стул.
– Пустой… Как же это пустой… Может с вареньем, я прикажу…
– Не пью чаю.
– Так кофею?
– Не пью…
– Молока?
– В рот не беру.
– Что же вы кушаете?
– А вот, если вы вчерашний початый графинчик на стол поставить прикажете, рюмочку выпью… Отменная это у вас настойка… На чем только не расчухал…
– На тысячелистнике, но как же это с утра?
– Военная привычка.
– Вы же хотели… о деле-то.
– Не извольте беспокоиться, до вечера меня никакая настойка не сморит… После ужина только… тут же на боковую – походная привычка: где пьешь, там и спишь… хе, хе, хе…
Настасья Лукьяновна приказала подать водку и закусить.
– Черного хлеба с солью, по утрам больше ничего… Солдат.
Оля вышла и вскоре вернулась с подносом, на котором стоял графин с «настойкой на тысячелистнике», тарелка с черным хлебом и солонка с солью, и поставила все это перед Эразмом Эразмовичем.
– Дозволите-с? – обратился он к Насте, протягивая руку к графину.
– Кушайте на здоровье.
Дрожащей рукой наполнил Строев рюмку и медленно поднес ее ко рту, опрокинул ее в него, крякнул и круто посолив кусок хлеба, тоже отправил его в рот.
– Теперь и к делу… – начал он и вдруг остановился. Настасья Лукьяновна вся превратилась в слух.
– Дозвольте еще, чтобы не хромать… – совершенно неожиданно для нее, протянул он снова руку к графину.
– Пожалуйста! – нетерпеливо сказала она.
– Еще опрокидонт… – произнес Эразм Эразмович, налив другую рюмку и снова опрокидывая ее в горло… – Отменная настойка…
Он снова закусил хлебом с солью.
– Ты, девочка, выйди… – вдруг обратился он к стоявшей у притолоки двери Оле. – Молода еще все знать – скоро состаришься… Разговор будет у нас с Настасьей Лукьяновной, тебя не касающийся.
Девочка растерянно вперила свой взгляд на Настасью Лукьяновну.
– Выйди, Оля… – повторила ей последняя. Девочка, не сказав ни слова, вышла.
– Дело-то выходит у нас с вами, кралечка моя, казусное, как и приступить к нему не придумаешь.
Строев замолчал и задумался.
Настя положительно пронизывала его глазами, точно хотела прочесть в его голове таящиеся мысли.
– Оба мы, можно сказать, потерпели от одного человека – от моей жены.
Он остановился.
– От вашей жены? – переспросила, не ожидавшая такого оборота дела, молодая женщина.
– От нее самой, от прелестницы Маргариты.
– Маргариты?.. – повторила Настя.
Она вспомнила его вчерашние бессвязные речи, в которых он наряду с именем Николая Герасимовича поминал какую-то Маргаритку.
«Так это его жена!» – подумала она.
– От прелестницы Маргариты… – повторил в свою очередь Эразм Эразмович. – Прелестницей называю я ее не без основания, так как краше лицом и телом едва ли во всем подлунном мире найдется женщина. Вы вот красивы, слов нет, а она лучше.
– Лучше! – произнесла Настасья Лукьяновна.
– Не в пример лучше, но зато сердце у нее змеиное.
– Змеиное?
– Хуже-с змеи. Змея коли ужалит, ну, умрет человек, а эта на манер тарантула… ужалит, и начнет человек плясать, пляшет, пляшет, пока не дойдет до потери человеческого образа, как ваш покорнейший слуга. Хорошо-с? В зеркало на себя смотреть боюсь – вот какой. А был человеком. Лет пять-шесть тому назад служил в гвардии… в Петербурге, перед очами, так сказать. Денег вволю, на войне турок бил – на это время я в армию переходил – Георгия заслужил, на виду был у начальства, карьера. Стар, скажете. Нет, не стар, мне всего тридцать три года, а весь седой. Опыт старит, потому-то вчера я сказал вам, что в отцы гожусь. Стариком совсем стал, разбитый, расслабленный. А все она – тарантула, укусила, и пошел плясать, выплясался. Теперь вот таков, видите. Пью. В отставку из-за нее вышел. Дозвольте третью… – вдруг неожиданно прервал он свой рассказ и потянулся к графину.
– Кушайте, кушайте.
Эразм Эразмович выпил, не забыв перед тем провозгласить:
– Еще опрокидонт.
– Иду это я, золотая моя, лет шесть тому назад по Невскому проспекту, улица есть такая в Питере. Вы не бывали?
– Нет.
– И слава Богу. Иду это я и вспомнил, что кузина моя графиня Черноусова, – у меня родня все знатная, заслуженная, отец мой покойный, царство ему небесное, полный генерал был, а мать при дворе большую роль играла. Матушку-то я в гроб уложил из-за нее, из-за Маргариты. Но не в том дело, вспомнил, говорю я, что кузина пари у меня выиграла – нужно ей коробку конфет покупать. А тут, как раз иду мимо кондитерской. Дай, думаю, зайду. Зашел и ахнул. Новенькая продавщица за прилавком стоит. Других-то я знал. «Что, – говорит, – прикажете?» А у меня даже и язык к гортани прилип, смотрю на нее во все глаза и ни слова. Улыбается и повторяет: «Что прикажете?» Выбрал я бомбоньерку, нарочно долго выбирал и велел положить конфет, а сам с нее все глаз не свожу. Красоты она неописанной. Глаза во… – Строещ сложил в кружок указательный и большой палец правой руки, – и все в масле. Лет так шестнадцать, семнадцать, не более, сложена – восторг.
Отвез я кузине в тот же день конфеты, а вечером опять в кондитерскую за другими, и таким манером каждый день раза по два. Познакомился, оказалось зовут ее Маргаритой Николаевной. Ухаживать стал, в любви признался. Все это в каких-нибудь две недели. «Что ж, – говорит, – я не прочь за вас замуж выйти». Сразу-то я ошалел. Из кондитерской да замуж, за Строева. Хотел я отделаться шуткой, да взглянул на нее – так она на меня строго смотрит. «А ведь не жениться, расстаться надо», – мелькнуло в моей голове. Сердце похолодело даже при одной мысли о разлуке. «Прошу, – говорю, – вашей руки». Улыбнулась. Отца уже тогда в живых не было, я к матери, старуха слышать не хочет. Наследства лишу, все отдам братьям, а их четверо. «Лишайте, – говорю, – а счастья себя я не лишу. У меня свое состояние». – «Погибель ты себе готовишь, а не счастье», – сказала матушка и даже лишилась чувств от расстройства. Младший я у нее сын был, любимый. Как меня ни убеждали и мать, и братья, не помогло. Стоит у меня Маргарита перед глазами: вынь да положь. В отставку подал и женился. Недели с две мы с ней счастливо прожили, тихо, а потом и пошло, наряды не наряды, выезды не выезды, за границу покатили, да года в полтора-два триста тысяч – все, что у меня было, она и ухнула. Были мы в Париже, когда последний франк истратился. Она тут у меня и сбежала с одним армянином, да и айда на Кавказ. Что со мной было… я не помню, только передавали, что на людей бросаться стал, в уме повредился. Отправили меня за счет русского посольства в сумасшедший дом. В Россию к матери отписали все как есть. Не выдержала старушка, паралич ее разбил, и, пока меня в Париже в разум приводили, умерла.
Несколько крупных слезинок выкатилось из глаз Строева. Он вынул платок и отер глаза.
– Приехал я на счет посольства в Россию без гроша денег. Да спасибо матушке, угрозу не исполнила, пятнадцать тысяч мне отказала, но только с тем, чтобы лежали они в банке до тех пор, пока мне стукнет пятьдесят лет, проценты же мне выдают аккуратно два раза в год, а всего две с половиною тысячи. И умно сделала матушка, потому опять бы с моей Маргариткой может быть на полгода сошелся и все прожил. А теперь, хоть с голоду не умру, да и на пропой есть. Кстати, я еще выпью, – взял он графин, уже не прося дозволения, налил рюмку и быстро опорожнил ее без закуски.
– О супруге моей драгоценной узнал я, что она в Тифлисе с этим самым армянином живет. Я туда, потому хоть глазком взглянуть – тянет. Прибыл. Оказалось, уж и от него она сбежала с богачом Зариновым за границу. Ну, туда не близкий путь, не поехал, уехал в Киев, люблю этот город, там и поселился. В Петербурге у меня приятели остались. Переписываемся. Прошу сообщить, если моя супруга на стогнах Невской столицы окажется. Получаю раз письмо. Прибыла, пишут, и Заринов с ней, дела у него расстроены, как слышно, очень… векселя опротестованы. Хотел сейчас же поехать в Петербург, да деньги все на исходе были, все пропил, пью я, как вышел из больницы в Париже, а прежде водки так совсем не пил. До получки процентов еще месяца два надо было пробиться. В Киевском отделении банка я мог получить по сообщению. А тут еще письмо. Заринов с ума сошел, и супружница моя его сама в сумасшедший дом определила. Важно, думаю, славно. Ай да Маргариточка! Как получил деньги, сейчас в Петербург. Прибыл, ан уж она с новым живет, с Николаем Герасимовичем Савиным.
– С ним!.. – бледная, как полотно, дрогнувшим голосом воскликнула Настасья Лукьяновна и откинулась на спинку стула, но тотчас же, оправившись, сказала:
– Продолжайте, продолжайте.
IX
Подозрения оправдались
– Шикарят там они, узнал я, во всю… Наряды, не наряды, лошади, не лошади, экипажи, не экипажи… Попойки, кутежи, веселая компания… – продолжал свой рассказ Эразм Эразмович Строев.
Настасья Лукьяновна сидела и слушала его наружно спокойная, и только по стиснутым губам, да по метавшим искры глазам можно было догадаться о внутреннем ее состоянии.
Строев между тем рассказывал о посещении своем квартиры жены, где она жила с Савиным, о том как, последний вышвырнул его за дверь, передал о подаче им жалобы мировому и решении съезда, приговорившего Николая Герасимовича к двухмесячному аресту, отъезде обоих «голубков», как он называл Савина и свою жену, из Петербурга, возвращении и бегстве Николая Герасимовича от арестовавшего его пристава и, наконец, внезапный отъезд из Петербурга Маргариты Николаевны – словом, все то, что известно уже нашим читателям.
– Куда он сбежал, я не знал, – говорил далее Строев, ни разу не прерываемый Настасьей Лукьяновной, как-то уже совершенно безучастно относившейся к рассказу.
Это происходило потому, что она предвидела конец, почти знала его.
– По отъезде Савина, я несколько раз порывался зайти к ней, не пустили, швейцар и лакей, как аргусы какие, сокровище это, Маргаритку-то, сторожили… Видел я ее раза два, как в карету садилась… Раз даже дурным словом обозвал… Очень пьян был… Теперь каюсь, не годится это. Узнал затем, что и она уехала, след был совсем потерян… Куда кинуться?..
– Да вы, собственно, зачем за ней ездите? – спросила сквозь зубы Настасья Лукьяновна.
– Как зачем?.. Ведь она мне жена… – удивленно сказал Строев. – Мне без нее скучно… Нам в одном месте и надо быть, по закону.
Глаза его приняли какое-то безумное выражение.
Он быстро схватил графин с водкою, налил себе рюмку и выпил залпом.
Молодая женщина даже попятилась от него.
Со свойственной ей русской сметкой она поняла, что этот сидящий перед ней человек, сошедший с ума от любви к бросившей его жене в Париже, до сих пор еще не «приведен в разум», что точка его помешательства так и осталась в нем в безумной мысли, что он и любимая жена должны быть вместе.
Это, однако, не давало ей возможности признать все им рассказанное за бред сумасшедшего – о, как дорого бы она дала за это – так как она понимала, что на все, не касающееся его отношений к жене, он смотрит так здраво, как и всякий нормальный человек.
В его словах была только правда – горькая правда. Она ключом била в тоне его голоса и в блестевших на его глазах крупных слезах.
«Правда, все правда, хотя он и поврежденный…» – мысленно решила Настасья Лукьяновна.
– Однако, я стал допытываться, не известно ли кому, куда девался Савин, которого мне хотелось очень засадить под арест на два месяца, – продолжал между тем говорить Строев, – нашелся, месяца через три, добрый человек, дал мне список его имений… Что-то подсказывало мне, что непременно я найду его в одном из них… Поеду, думаю, наудачу… Написал на бумажках названия имений, завернул каждую бумажку трубочкой, как это делают в лотерее-аллегри, положил в шапку, развернул… Руднево – туда значит и ехать надо… Там он, там… И до того эта во мне уверенность явилась, что я даже градоначальнику заявил, что отставной корнет Савин проживает близ Тулы в именьи Руднево, а потому и прошу дескать сообщить местным властям о приведении приговора санкт-петербургского мирового съезда над ним по моему делу в исполнение, а сам на машину и покатил… Приезжаю в Тулу, являюсь к исправнику, так и так, дескать, получите вы на днях из Петербурга бумагу об отставном корнете Савине, проживающем у себя, в селе Рудневе… «Бумаги мы еще не получали, а если и получим, отошлем обратно», – отвечает мне исправник. «Это почему же?» – спрашиваю. «А потому, что в селе Руднево господин Савин не проживает, да и самое Руднево ему не принадлежит…» Вот, думаю, так фунт… Вот и лотерея-аллегри – обмануло гаданье… Откланялся я исправнику и пошел было из его кабинета, но вернулся и спрашиваю: «А кому же в настоящее время принадлежит Руднево?» – «Дворянке Маргарите Николаевне Строевой». Тут я и понял все.
Настасья Лукьяновна продолжала сидеть молча, только углы ее губ подергивались судорогой.
Ее страшное подозрение о другой, хозяйничающей в Рудневе, оправдывалось.
– Начал наводить я в Туле частные справки… Оказалось, что имение он продал моей жене за пятьдесят тысяч – цена же ему тысяч сто – ну, да не деньги брал, так стоит ли говорить о цене… Паспорт ей выправил и сам с ней в нем благодушествует, но официально живущим в нем не значится… Маргаритке моей паспорт достал от предводителя дворянства, как дворянке и местной землевладелице… Оборудовал дело так, что, как говорится, комар носа не подточит… Ехать думаю туда… Только петербургский его прием больно мне памятен, а там он меня с супружницей моей собаками, думаю, затравят, что с них возьмешь… Тут разговорился я раз с одним добрым человеком, он мне о вас и порасскажи… Все доподлинно знает… Как Савин вас в Серединской хозяйничать отправил, чтобы место очистить для другой хозяйки в Рудневе, как вы любили его и любите… «А может она все знает да покрывает его шашни» – говорю… А он мне в ответ: «Нет, она не такая!»
– Это-то верно, что не такая… – как-то выкрикнула Настасья Лукьяновна, и глаза ее блеснули страшным, почти нечеловеческим гневом.
– Дай, думаю, у ней побываю да порасскажу, может она моему горю и поможет, образумит своего соколика… Где исправник не сможет, там баба, думаю, в лучшем виде дело отделает… Ха, ха, ха… Больше мне от вас ничего и не надобно… Чтобы он только бросил Маргаритку-то, да и имение, как ни есть, отнял… Один бросит, другой бросит, надоест менять ей, она ко мне и вернется… Одной этой мыслью и живу. Люблю ее, люблю, подлую… Кабы не надежда эта, давно бы пулю в лоб пустил… пулю.
Он неудержимо зарыдал, уронив голову на сложенные на столе руки.
Молодая женщина безучастно смотрела на него.
Глаза ее были сухи и горели каким-то зловещим блеском. Ее горе казалось ей таким громадным, что в нем, как в море, утопало всякое другое, а особенно горе этого сумасшедшего человека, влюбленного в негодяйку жену и старающегося о том, чтобы она, брошенная всеми, вернулась к нему.
Все это промелькнуло в ее сознании, но промелькнуло последний раз.
Вдруг она стала дико озираться и, наконец, молча встала и, пятясь задом и как-то странно махая руками, вышла из комнаты…
– Хе, хе, хе… Проняло… Достанется вам от нее, г. Савин, отдадите вы мне мою Маргаритку, хе, хе, хе, отдадите… Ее только Мне в жизни и нужно, ее… Все отдам… все… за нее… Миллион, два миллиона… Отдам, не пожалею… – бессвязно бормотал остававшийся сидеть Строев. – Покажу я вам, покажу… – делал он руками угрожающие жесты…
Глаза его сверкали и бегали.
Его, видимо, снова охватил приступ безумия…
Несколько успокоившись, он стал наливать себе рюмку за рюмкой и, не закусывая, пил залпом, иногда лишь повторяя перед тем, чтобы выпить:
– Еще опрокидонт!..
Через несколько времени в столовую вошли баба-работница и Оля.
Первая взяла со стола самовар, а последняя спросила, обращаясь к Эразму Эразмовичу:
– А где же Настасья Лукьяновна?
Тот посмотрел на нее помутившимся взглядом, взял графин, приподнял его на свет и, видя, что он пуст, молча встал со стула и неверными шагами вышел из столовой.
Увидав, что он встает и так странно глядит на нее, испуганная Оля стремглав выбежала из комнаты.
Эразм Эразмович между тем добрел до отведенной ему комнаты и пластом упал на постель. Видимо, его заявление, что никакая настойка его не сморит до вечера, было им сделано несколько опрометчиво.
Скоро комната огласилась его громким храпом.
Он проснулся часов около четырех дня.
В это время уже все Серединское, не только усадьба, но и село, были на ногах, пораженное странным, загадочным исчезновением Настасьи Лукьяновны.
Работница и Оля обошли весь дом сверху донизу, искали под кроватями и под мебелью… Работники исходили весь сад, а крестьяне всю близлежащую рощу, но нигде не было, вдруг точно сквозь землю провалившейся, домоправительницы…
– А гость? – спрашивали у Оли.
– Гость, что ему делается, пьяный дрыхнет… – со злобой ответила девочка, инстинктивно догадываясь, что между разговором, который этот «пьяный гость» вел с Настасьей Лукьяновной, и ее исчезновением, была прямая связь.
Наконец Эразм Эразмович проснулся и вышел в столовую. Не найдя в ней никого, он прошел в другие комнаты и, наконец, так обошел весь дом сверху донизу. Дом был пуст.
– Что за притча, – сказал он даже вслух, – точно все вымерли. А теперь бы перекусить недурно.
Он вышел во двор. Там стояла кучка рабочих и работниц, среди которых была и Оля, а также несколько серединских крестьян. Увидав Строева, они все бросились к нему.
– Беда, барин, у нас стряслась, беда…
– Какая там беда?.. – спросил Эразм Эразмович. – Я думаю, что закусить пора. Смерть проголодался. У вас когда обедают?
– Не до обеда, батюшка барин, – выступила вперед стряпуха. – Обед в печке, поди, перепрел, да обедать-то некому…
– Как некому, а я, а Настасья Лукьяновна?
– Нетути, их нетути…
Стряпуха стала всхлипывать.
– Как нет ее, куда же она девалась? – удивился Строев.
– Ума не приложим сами, ваше благородие, – отозвался один из рабочих. – Они, – он указал на работниц, – в доме все мышиные норки обыскали, мы весь сад и парк исходили, а крестьяне в роще всюду шарили, нигде нет, сгинула, да и шабаш…
– Ага, понимаю… – вдруг хлопнул себя по лбу Эразм Эразмович.
Толпа притихли в ожидании.
– Я знаю, где она…
– Знаешь, барин, так скажи ради Христа Спасителя, мы мигом туда добежим… Без нее все дела стали, – взмолилась стряпуха.
– Ну, туда вам не добежать… Далеко…
– Далеко… Куда же она, касаточка, скрылась?..
– К барину.
– К Николаю Герасимовичу? А он где же находится?
– В Рудневе…
– Это под Тулой? – заметил один из старых рабочих. – Только как же она не на лошадях… Пешком-то до станции далеко…
– Уж там не знаю, только, наверное, она туда стреканула, потому такой разговор был у нас с ней… Наверное, туда.
– Вот оно что! – воскликнули почти все в один голос.
– Наверное, туда, – повторил Строев.
Он говорил так уверенно, что слушатели, несмотря на довольно большое расстояние до станции железной дороги, поверили, что Настасья Лукьяновна пошла туда пешком.
– Может на дороге подводу принанять решила… – выразили даже некоторые свое мнение.
– Но и мне пора собираться, – сказал Эразм Эразмович. – Только покормите сперва, братцы, чем ни на есть.
– Мигом подам, батюшка барин, – воскликнула успокоившись о судьбе Настасьи Лукьяновны стряпуха.
– А лошадей-с не прикажете? – спросил один из работников.
– Да, подряди, подряди…
– Дядя Михей, поезжай… Может и нашу нагоните, – обратился тот же работник к одному из крестьян.
– Что ж, это можно, отчего не поехать, – отвечал крестьянин.
Оля накрыла на стол. Стряпуха подала обед. Раздобыли даже настойки, и Строев, изрядно выпив и плотно покушав, надел свое пальто, нахлобучил фуражку и, сев в уже поданный для него Михеем открытый тарантасик, выехал со двора. Работники и работницы были все снова в сборе.
– Ты, дядя Михей, поторапливайся… Может нашу-то нагонишь, – кричали из толпы.
– Вестимо, во весь дух поскачу, – отвечал он и стегнул пару своих сравнительно хороших, сытых лошадей.
Последние поскакали крупной рысью.