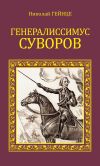Читать книгу "Герой конца века"

Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXII
У домашнего очага
Квартирка Вадима Григорьевича Мардарьева или, лучше сказать, жены его Софьи Александровны, состояла из двух маленьких комнат и передней, служившей вместе и кухней.
Меблировка была убога: в первой комнате стоял старинный диван с деревянной когда-то полированной спинкой и мягким сиденьем, крытым красным кумачом, несколько стульев, простой большой деревянный стол у стены и окна справа и раскрытый ломберный, с ободранным сукном, покрытый газетной бумагой, у окна, находящегося прямо от входа.
На диване спал Вадим Григорьевич, а на стоявшем налево в углу сундуке, покрытом матрасом с кожаной подушкой – сын Софьи Александровны – Вася.
Сама Мардарьева помещалась с дочерью во второй узенькой комнатке – с одним окном, служившей им спальней, работала же она у большого стола, тогда как ломберный служил для письменных занятий Мардарьева, на что указывал пузырек с чернилами, брошенная деревянная красная ручка с пером и разбросанная бумага.
Софья Александровна будто и не заметила прихода своего мужа, и лишь маленькая Лида произнесла «папа», но замолчала под строгим взглядом своей матери, и таким образом в самом начале была остановлена в проявлении своих дочерних чувств.
Софье Александровне Мардарьевой было лет за тридцать, но трудовая жизнь положила на нее отпечаток той суровой сдержанности, которая старит женщину более, нежели лета. Можно было безошибочно сказать, что в молодости она была очень красива и эта красота сохранилась бы и до сих пор при других условиях жизни, но горе и разочарование избороздили ее лицо с правильными, хотя и крупными, но симпатичными чертами, и высокий лоб преждевременными морщинами, которые являются смертным приговором для внешности настоящей блондинки, каковой была Софья Александровна Мардарьева.
Когда-то темно-синие большие глаза выцвели от слез, и теперь эти глаза были безжизненно белесоватые.
Роскошная лет десять тому назад коса вылезла и маленьким жиденьким пучком была свернута на затылке.
Она была одета в чистое ситцевое серое клетчатое платье с блузкой, которая скрывала ее когда-то стройную фигуру. Девочка была худенькая и маленькая брюнетка, видимо, в отца.
– Сонь, а Сонь… – произнес после довольно продолжительного молчания Вадим Григорьевич.
– Чего тебе? – не поворачивая головы от шитья, как бы нехотя отвечала Софья Александровна.
– А дело-то с векселем Семиладова – дрянь, совсем дрянь.
– А мне-то что… Не мой это вексель, не мои и деньги, тебе ведь заплачено.
– Да ты мне не жена что ли… – упавшим голосом произнес Вадим Григорьевич. – Вечно я слышу только от тебя один попрек – заплачено… Целый день высунув язык бегаю, как бы дельце какое оборудовать, денег заработать… все ведь, чай, для тебя, да для детей.
– Не видим мы что-то твоих денег… Если что и наживешь ненароком, или из редакции получишь, в трактире оставишь.
– Какие же это деньги, это гроши.
– Из грошей рубли скалачивают.
– Нет, это не по мне, не могу… Натура широкая… Погоди, Сонь, еще будем мы богаты.
– Слыхали мы болтовню-то эту, уши вянут. Вон Гордеев, тоже комиссионерничал, как и ты, а теперь, сегодня встретила на своей лошади в пролетке.
– Он вдову нашел.
– Там вдову не вдову, а в люди вышел, едет он, а впереди меня генерал идет, так он с генералом-то этим раскланивается, а тот ему эдак под козырек, честь честью.
– Проныра.
– На вашем месте только проныры и могут кормиться, а не такие, как ты ротозеи да губошлепы… – отвечала Софья Александровна.
В голосе ее слышалось нескрываемое презрение.
– Погоди, Сонь, погоди.
– Чего годить, гожу, больше двенадцати лет гожу.
– Только вот насчет векселя-то Семиладова дело, говорю, дрянь.
Софья Александровна тем временем овладела собой и молчала.
– Алфимов сто рублей дает.
– Давал, – поправила Мардарьева.
– Нет, теперь дает, прах его знает почему, а дает за склеенный. Надо будет склеить, все равно и сто рублей лучше, чем ничего.
– Зачем же он ему понадобился?
– Говорю, прах его знает… Да вот что, ты баба умная, может рассудишь, я тебе все по порядку расскажу… Рассказать?
– Да говори, ну тебя! – кивнула Софья Александровна, принимаясь снова за работу.
Вадим Григорьевич откашлялся и обстоятельно, шаг за шагом, не пропуская ни одной самой ничтожной подробности, рассказал Софье Александровне все происшедшее с ним за сегодняшний день: визит к Савину, разорвание векселя, полет из номера Европейской гостиницы, беседу с Корнилием Потаповичем и, наконец, предложение последнего за склеенный вексель и прошение заплатить ему завтра утром сто рублей.
– Поняла ты что-нибудь из всего этого? – спросил Вадим Григорьевич жену, окончив рассказ.
– Поняла… – отвечала та.
– Что же ты поняла? – вытаращил на нее глаза Мардарьев.
– А то, что Алфимов плут, а ты – дурак.
– Рассудила, нечего сказать… Первое я и без тебя знаю… а второе…
– Второе я давно знаю… – перебила Софья Александровна. – Да что толковать… склей вексель-то, напиши и подпиши прошение, а я завтра сама к этому «алхимику» пойду.
– Ты?
– Да, я, увидим, чья возьмет… Поверь моему слову, я тебе никогда не лгала, что завтра ты двести рублей от меня получишь, сиди дома и жди.
– Ой ли!
– То-то ой ли.
– Пожалуй, что и так… Потому, если насесть на него, он двести рублей даст… Характеру-то у меня только нет.
– Дурак!
– Опять… Заладила, точно попугай… Может я не хочу тебя в это дело вмешивать.
– Дважды дурак… – хладнокровно отрезала Софья Александровна.
– Хорошо, будь по-твоему… Только чтобы мне двести целиком. Я сам уж тебе дам… Экипироваться надо – обносился.
– Сказано из рук в руки отдам… Чего тут – экипируйся на здоровье, да только одежду не пропей.
– Видит Бог.
Придя к такому соглашению, супруги занялись каждый своим делом.
Софья Александровна зажгла, так как уже начало смеркаться, висевшую над большим столом висячую лампу, одну из тех, которые бывают обыкновенно в портновских мастерских. Лампа осветила всю комнату и при свете ее можно было не только шить за большим столом, но и писать за ломберным, где и поместился Вадим Григорьевич клеить вексель и писать прошение.
Вечер пролетел незаметно. Напились чаю, рано отужинали и легли спать. Вадиму Григорьевичу не спалось, он долго ворочался на своем диване.
На другой день еще задолго до девяти часов утра Корнилий Потапович Алфимов пришел в известный нам низок трактира на Невском.
Проходя по еще пустым комнатам в свой кабинет, он спросил у полового:
– Никто не спрашивал?
– Никто-с.
– Мардарьев не был?
– Никак нет-с.
Войдя в кабинет, он сел на свое обычное место и принялся за поданный ему вчерашний разогретый чай.
Во всех его движениях заметно было нетерпеливое ожидание. Он то и дело смотрел на свою луковицу. Наконец стрелка часов стала уже показывать четверть десятого.
– Что бы это могло значить? – уже вслух произнес Алфимов. В это время половой осторожно отворил дверь кабинета и взглянул в нее.
– Лезь, лезь… – по привычке произнес Корнилий Потапович.
– Там вас женщина какая-то видеть желает.
– Какая такая женщина?
– Не могу знать.
– Пусть лезет.
Половой отворил дверь и пропустил Софью Александровну Мардарьеву, одетую не только довольно чисто, но с претензией на моду. Алфимов уставился на нее своими бегающими глазами.
– Что вам угодно?
– Я Мардарьева, жена Вадима Григорьевича.
– А-а… садитесь. Что же он сам?
– Захворал… Вчера вечером еще здоров был, а сегодня утром головы от подушки поднять не может.
– Вот оно что; бывает, бывает… – покачал головой Алфимов.
– Он вчера склеил вексель, потом подписал прошение, как вы желали, вот и прислал меня с ними к вам.
– Тэк-с… Сам подписал?
– Все прошение его рукою написано.
– Тэк-с… Хоть и не порядок, но ради болезни… Извольте получить деньги. Пожалуйте прошение и документ.
Корнилий Потапович полез в карман сюртука, вытащил бумажник и из объемистой пачки радужных отделил и вынул одну.
– Вам известна сумма – сто.
– Нет, мой муж на это согласиться не может, да и я. Это невозможно.
– Что же… Так зачем же вы пришли? Я ему вчера сказал, не хочет, как хочет.
– Да он меня просил все же зайти вас уведомить, а впрочем, если так, извините за беспокойство.
Мардарьева встала. Все это до того поразило Корнилия Потаповича, что он уронил раскрытый бумажник на стол и сидел, держа в руках радужную.
– Куда же вы, посидите, потолкуем.
– Что же толковать, когда вы говорите: «Не хочет – как хочет». Он не хочет, а главное я не хочу… – продолжая стоять, сказала Софья Александровна.
– Вот оно что… – вслух произнес Алфимов и пристально посмотрел на Мардарьеву. – «Кремень-баба», – пронеслось в его голове вчерашнее определение ее мужем.
Все устроенное им вчера дельце разрушилось, натолкнувшись на этот кремень. Тысячная нажива улыбалась. Приходилось поступиться доходом.
«И зачем я вчера с ним не кончил!..» – пронеслось в уме Корнилия Потаповича.
– Все же садитесь, пожалуйста!.. – вслух обратился он к Мардарьевой.
Та, как бы нехотя, села.
XXIII
«Кремень-баба»
– Так сколько же ваш муж, или собственно вы, хотите с меня взять за этот ничего не стоящий вексель?.. – спросил после некоторой паузы Софью Александровну Корнилий Потапович.
– Если он ничего не стоит, то за него и взять ничего нельзя, так как ничего и не дадут, а если дают, значит он что-нибудь да стоит, а потому и торговаться можно, – отвечала та.
– Правильно, сударыня, рассуждать изволите, правильно… Только может я просто по доброте сердечной мужу вашему помочь пожелал, а векселя мне его и даром не надо, пусть он при нем и остается.
– Ну, в этом-то позвольте мне усомниться, не из таких вы людей, чтобы даром сотнями швырять стали… Не так вы глупы, чтобы это делать, и не так глупа я, чтобы этому поверить…
– И это верно, сударыня, что верно, то верно, видно у нас с вами по пословице: «Нашла коса на камень».
– Кажется…
– Ну, так и будем разговаривать по-хорошему… Чайку не хотите ли, прикажу подать чашечку… Чай хороший, крепкий…
– Благодарствуйте, пила.
– Что же – чай на чай не палка на палку…
– Не люблю я его…
– Чай, кофейничаете?
– Балуюсь…
– Тэк-с…
Корнилий Потапович как бы чувствовал перед собой силу, почти равную, и потому медлил приступить к решительному разговору. Он положил обратно радужную в бумажник, тщательно запрятал его в карман, долил из чайника водой недопитый стакан, взял в руки огрызок сахару и тогда только нерешительно спросил:
– А сколько вы примерно с меня за этот вексель хотите?
– Две тысячи… – не сморгнув глазом, отвечала Софья Александровна.
– Две… тысячи!.. – как-то выкрикнул Корнилий Потапович, точно громом пораженный этой цифрой, и даже выронил из руки огрызок сахару, который упал в стакан с чаем и, ввиду его крайне незначительной величины, быстро растаял.
Алфимов бросился было его вынимать, но опустив два пальца правой руки в стакан, толкнул стакан и пролил чай на сомнительной белизны скатерть.
– Ох, и напугала же ты меня, мать, – заговорил он, вдруг переходя на ты, – я думал, что разговариваю с обстоятельной женщиной, а ты, вишь, какая неладная.
Корнилий Потапович поднял стакан, спасая остатки драгоценной влаги.
– Чем же я неладная? – спросила с усмешкой Мардарьева.
– Как же ты не неладная, такую сумму выговорить, и за что, спрашивается?.. Тебе, видно, муженек-то твой не передавал, какой это вексель… опороченный…
– Знаю, все знаю, только не в векселе тут дело, а в прошении… Видно, понадобилось кому-нибудь досадить Савину, не для себя вы тут хлопочете…
– Ин, будь по-твоему, угадала, что с тобой поделаешь… Умна, бестия. Только ты рассуди, кто же за это две тысячи даст?..
– Могут дать и больше, как кому надо.
– Да ведь ты не знаешь кому надо…
– Не знаю… Вы зато знаете… Вам, значит, и надо…
– Тэк-с, и это правильно. Только уж и запросила ты… Мужу твоему я говорил вчера, что аппетит у него волчий… А ты уж, мать, совсем тигра лютая…
– Да ведь и вы не овца, вас не задерешь…
– Овца, не овца, однако же, задрать ты меня норовишь…
– Ничуть, клочок шерсти ухватить норовлю, да ничего, обрастете.
– Шутница… – несколько успокоившись, сказал Корнилий Потапович. – Нет, ты говори сколько, по-божески?..
– Я сказала.
– Заладила ворона про Якова, одно про всякого… Я тебе говорю, как по-божески…
– Да ваша-то какая цена?..
– Я свою цену еще вчера твоему мужу объявил, ну, для тебя, уж больно ты умна да догадлива, еще столько же добавлю: две сотенных.
– Нет, это не подойдет…
– Не подойдет?.. – удивился Алфимов.
– Нет и разговаривать нечего…
Я пойду. Софья Александровна поднялась со стула.
– Сиди, сиди, куда тебя несет, вот стрекоза, прости, Господи!..
– Чего же так сидеть зря, у меня дома дело есть – работа.
– Не медведь дело, не убежит в лес… хе, хе, хе… – засмеялся своей собственной остроте Корнилий Потапович.
Мардарьева оставалась серьезно-спокойной.
– Так не подойдет?.. – спросил он полушутя, полусерьезно.
– Сказала не подойдет… – отвечала та.
– И уступки не будет?
– Отчего не уступить, коли скажете настоящую цену…
– Цену… цену… – проворчал Алфимов. – Да чему цену-то… Где товар?
– Товар есть, коли двести рублей уже за него давали.
– Ну, баба! – воскликнул Корнилий Потапович. – «Кремень-баба», – снова пронеслось в его уме определение Вадима Григорьевича.
– Что ж что баба, а умней другого мужика… – невозмутимо заметила Софья Александровна.
– Вижу, вижу! – со вздохом произнес Алфимов.
– То-то же…
– Ну, триста…
– Нет… Вот уж как, чтобы много не разговаривать, тысячу пятьсот рублей, по рукам…
– Полторы тысячи? – простонал Корнилий Потапович.
– Ни копейки меньше… А то я сейчас отсюда к Савину…
– Зачем это?
– Расскажу ему, что есть люди, которые дают триста рублей за жалобу на него… Поверьте, что он мне за эту услугу и вексель перепишет, да еще благодарен будет… Пусть сам дознается, кто против него за вашей спиной действует… Вот что.
– Тэк-с… – окончательно сбитый с позиции, протянул Алфимов.
Так хорошо только вчера устроенное дельце окончательно проваливалось. Эта шалая баба способна привести свою угрозу в исполнение, и кто знает, быть может, Николай Герасимович действительно допытывается, откуда идут против него подкопы. Ему, конечно, известно, что Колесин спит и видит устранить его со своей дороги к сердцу этой танцорки Гранпа – это первое придет ему в голову, и он будет на настоящем пути к открытию истины. Тогда прощай крупная нажива, прощай и даром сунутая Евграфу Евграфовичу красненькая… Ее почему-то особенно жалко стало Корнилию Потаповичу, и с ней мысли его перенеслись на растаявший из-за этой «кремень-бабы» кусок сахара и разлитый стакан чаю…
«Сколько убытков! Сколько потерь!» – мысленно воскликнул Корнилий Потапович.
Он взглянул исподлобья на Софью Александровну. Она сидела перед ним серьезная, спокойная и крупные складки на ее высоком лбу указывали на ее решимость сделать именно так, как она говорит.
«Надо во что бы то ни стало купить у нее этот вексель! Но надо все же что-нибудь выторговать!» – промелькнуло в уме Алфимова.
– Ваш супруг… – вкрадчиво начал он, – за него в неразорванном виде просил у меня тысячу рублей…
– Дуракам, сами знаете, закон не писан, – прервала его Мардарьева.
– Оно так-с, так-с, – согласился Алфимов, – однако я могу его купить за тысячу рублей цельным… а теперь по справедливости вы можете взять за него половину – пятьсот…
– Нет и нет, да и что время в самом деле терять… Хотите тысячу двести последняя цена… – решительно воскликнула Софья Александровна. – Иначе я сейчас же уходу…
Она встала и направилась к двери.
– Постойте, погодите… – в свою очередь приподнялся Корнилий Потапович. – Хотите шестьсот?
– Ни гроша менее.
– Семьсот, восемьсот…
– Прощайте…
– Девятьсот, тысячу…
Софья Александровна взялась уже за ручку двери.
– Вернитесь, получайте… – простонал Алфимов, не садясь, а буквально падая на диван.
Мардарьева с насмешливой улыбкой вернулась и села на стул.
– Пожалуйте документ…
– Пожалуйте деньги…
«Кремень-баба» – снова пронеслось в уме Корнилия Потаповича, и он полез за бумажником.
Тем временем Софья Александровна вынула из кармана аккуратно сложенные и завернутые в газетную бумагу прошение и вексель.
Дрожащими руками отсчитал Алфимов двенадцать радужных и подвинул Мардарьевой.
Она подала ему сверток, который он бережно развернул и стал рассматривать.
– В порядке все?.. – спросила она после некоторой паузы, пересчитав и сунув деньги в карман.
– В порядке… – отвечал Корнилий Потапович.
– Так до свиданья, – сказала она и встала.
– Прощайте…
Как только за Софьей Александровной затворилась дверь, Алфимов, спрятав бумаги в бумажник и положив его в карман, схватился за голову, упал на стол и в бешенстве буквально прорычал.
– Дурак, старый дурак, тысячу сто рублей потерял, кровные деньги, своими руками отдал этой чертовой бабе…
– Ну, да где наше не пропадало! – успокоил он себя через несколько минут. – И то сказать, в хорошие руки попали, Мардарьеву этих денег не видать… Отдаст она ему сотню, а остальные припрячет… И хорошо, хоть этот шалаган знать не будет, как меня его супружница важно нагрела… А мы наверстаем…
Ему почему-то снова стало особенно жаль растаявший кусок сахара, пролитый чай и отданную вчера десятирублевку Евграфу Евграфовичу.
Корнилий Потапович действительно стал наверстывать.
Клиенты этого дня и последующих должны были покрывать понесенный им убыток, и он буквально сдирал с них последнюю шкуру. В кабинете стоял стон его должников и должниц, настоящих и будущих.
Софья Александровна Мардарьева, выйдя между тем из низка трактира, вздохнула полною грудью и, придерживая рукой в кармане «целый капитал», как она мысленно называла полученные ею от Алфимова тысячу двести рублей, быстрым шагом пошла не домой, а по направлению к Аничкову мосту.
Деньги изменили даже ее походку, она шла бодрым, уверенным шагом, высоко подняв голову, и как будто сделалась красивее и свежее.
Она спешила в банк.
Никогда не бывая в этом современном храме Молоха, она не без труда добилась толку, куда внести ей деньги на текущий счет, и, наконец, совершив эту операцию, получив чековую книжку на тысячу рублей, она спрятала ее за пазуху и вернулась домой.
Вадим Григорьевич дожидался ее почти в лихорадке от нетерпения.
– Что так долго? – встретил он ее вопросом.
– Скоро-то не споро… – ответила она с улыбкой.
– Устроила?
Вместо ответа она подала ему две радужных.
– Милая, хорошая, золотая!.. – воскликнул он, хватая ее за обе руки и целуя их.
Не привыкшая к таким супружеским нежностям, она стала вырывать их.
– Что ты, что ты!..
– Как что, благодетельница, ноги должен я твои целовать, вот, молодец, вот жена – золото! Да, впрочем, что же я, сто-то я себе возьму, сейчас, побегу в магазин готового платья – таким франтом вернусь, ну, и кутну, Софьюшка, потом… А сто тебе.
Он подал ей одну радужную.
– Ну, уж франти, франти и кути, – ласково улыбнулась она. – Только смотри, одежу не пропей новую.
– Что ты пустяки говоришь. Это я-то?
– Ты-то…
Вадим Григорьевич быстро надел свое гороховое пальто, котелок и, почти вприпрыжку выскочив за дверь, спустился по лестнице и выбежал на улицу.
На ходу он то и дело опускал руку в карман брюк, где лежала сторублевая бумажка.
«Ну, жена, ну, молодец-баба! Вдвое против меня стянула со старого дьявола! Не ожидал!» – говорил он сам себе.
Быстро добежав до Невского проспекта, он вошел под первую вывеску, на которой золотыми буквами на черном фоне значилось: «Готовое платье».
XXIV
В отчем доме
Прошло уже четыре месяца со дня прибытия Николая Герасимовича Савина в село Серединское.
Он все еще жил под родительским кровом, всячески стараясь добиться согласия родителей на брак с Маргаритой Максимилиановной Гранпа.
Но, увы, старания его были тщетны.
Предчувствия Савина, мучившие его, если не забыл читатель, по дороге к родительскому дому, оправдались.
Отец, после почти ласковой встречи – мы не говорим о матери, которая, рыдая, повисла на шее своего любимца – на другой же день по приезде, заговорил с ним о его делах.
Не сердясь и почти не волнуясь, Герасим Сергеевич, с записанными цифрами в руках, представил сыну положение его финансовых дел, точно вычислил ту наследственную долю, которая принадлежит ему, Николаю Герасимовичу, и из которой могут быть уплачены его долги.
– Я могу отнять у себя, – заключил старик, – но отнимать у моих детей, я, как отец, не могу дозволить, и надеюсь, что ты понимаешь, что во мне говорит не жадность…
– Понимаю, батюшка, и благодарю вас, – отвечал молодой Савин.
– За вычетом огромной истраченной тобою суммы, ты, как видишь, имеешь в твоем распоряжении еще хорошее состояние, которое может быть названо богатством. Кроме имений, у тебя изрядный капитал и при умении и, главное, при желании работать, – ты можешь всю жизнь прожить богатым человеком, не отказывая ни в чем себе и принося пользу другим… Дай Бог, чтобы уроки молодости, за которые ты заплатил чуть ли не половиной своего состояния, пошли тебе впрок. Тогда это с полгоря… Деньги вернутся, они любят хорошие руки…
Отец умолк и спрятал в письменный стол вынутые им бумаги, заключавшие в себе точный расчет наследственных долей его детей.
Молчал и сын, сидя в кресле перед отцом с опущенной долу головою.
Он видел, что Герасим Сергеевич умышленно не поднимал вопроса о главном – для Николая Герасимовича, конечно, это было главное – деле, о котором он писал в письме, о предстоящей его женитьбе на Гранпа.
«Начать ли сейчас этот разговор, решить этот вопрос так или иначе, сбросить со своей души эту тяжесть, или подождать, поговорить с матерью, попросить ее подготовить отца и действовать исподволь?» – вот вопросы, которые гвоздем сидели в голове молодого Савина.
Он решил их во втором смысле.
– Я сегодня же напишу в Петербург одному из местных нотариусов, чтобы он собрал сведения о точной сумме твоих долгов, и затем переведу нужную сумму; в течение месяца или двух твои обязательства будут погашены… Ты можешь погостить здесь… Мы думаем остаться здесь зиму, я несколько раз, конечно, поеду в Москву, можешь ехать куда тебе угодно, ты свободен, но главное, повторяю, обдумай, что ты намерен делать, чем заняться в будущем, так как без дела человек не человек, и никакое состояние не может обеспечить бездельника… Помни это!
– Я поживу здесь… – упавшим голосом произнес Николай Герасимович.
– Поживи, очень рад, – заметил Герасим Сергеевич таким тоном, который давал знать, что беседа с глазу на глаз окончена.
Отец и сын вышли оба в гостиную, где нашли сидевших за работой Фанни Михайловну и Зину.
Время летело.
Жизнь в Серединском была довольно оживленная. То и дело собирались соседи, по вечерам устраивались танцы, игра в карты, а по первой пороше начались охоты, продолжавшиеся по несколько дней.
Герасим Сергеевич считался лучшим охотником в губернии, его собаки, борзые и гончие, получали первые награды на выставках, славились вплоть до самой Москвы, а потому вокруг него группировались калужские Немвроды.
Николай Герасимович не был, как его отец, страстным охотником, но все же охота занимала его среди сравнительно скучной деревенской жизни и тяжелого томительного состояния духа.
Беседы с матерью не привели тоже к желанным результатам.
Фанни Михайловна готова была по целым часам слушать восторженные, почти поэтические рассказы сына о предмете своей любви, вздыхала и плакала вместе с ним, но на просьбы Николая Герасимовича поговорить с отцом, убедить его, отвечала:
– Нет, Коленька, нет… с этой просьбой к нему мне и подступиться нельзя… Я уж до тебя пробовала… Ты знаешь отца… Он в иных случаях гранит…
– Но что же делать, что же делать! – восклицал сын.
– Уж и ума не приложу, Коленька, что делать… Разве вот что…
– Что, что?.. – взволнованно спросил Николай Герасимович.
– Уж если она тебя так любит… – начала Фанни Михайловна, но остановилась и потупилась.
– Я же вам говорил, что, конечно, любит, безумно, страстно. Ведь вы же читали ее письма…
– Да, да… – отвечала мать. – Так если она любит, то… – Фанни Михайловна снова остановилась и с трудом добавила, – зачем ей брак…
– Мамаша… – тоном укоризны, почти со слезами на глазах произнес Николай Герасимович. – Разве можно так смотреть на вещи… Я не хочу, чтобы она оставалась в балете… Я хочу сделать из нее порядочную женщину, верную жену, хорошую мать…
– Ох, Коленька, Коленька, – качала головой Фанни Михайловна, – всякому человеку своя судьба определена, к чему себя приготовить, поверь мне, что ей только теперь кажется, что она без сожаления бросит сцену и поедет с тобой в деревню заниматься хозяйством… Этого хватит на первые медовые месяцы, а потом ее снова потянет на народ… Публичность, успех, аплодисменты, овации – это жизнь, которая затягивает, и жизнь обыкновенной женщины не может уже удовлетворить.
– Какие глупости… Она терпеть не может сцены… – горячо возразил Савин. – Ведь читали же вы ее письма?
– Ах, Коленька, мало ли что влюбленные девушки пишут…
В таком, или приблизительно таком роде велись эти разговоры, не приводившие, как мы уже сказали, ни к каким положительным результатам.
Письма Маргариты Максимилиановны к Савину доставляли ему одновременно и жгучее наслаждение.
Полные уверения в страстной любви, в намерении скорее броситься в Неву, нежели отдаться другому, они сообщали ему наряду с этим далеко не радостные известия. Из них он узнал, что Маргарита снова переехала в квартиру отца, и по некоторым, для обыкновенного читателя неуловимым, но ясным для влюбленного, отдельным фразам, оборотам речи, он видел, что она снова находится под влиянием своего отца, то есть значит и Марины Владиславовны, мыслями которой мыслил и глазами которой глядел Максимилиан Эрнестович.
Это волновало и мучило Николая Герасимовича, и он каждый день, оставив надежду на помощь матери, собирался начать с отцом разговор по этому предмету.
Он знал, что этот разговор будет решающим его судьбу, а потому день ото дня откладывал свое намерение – какое-то внутреннее убеждение говорило ему, что мать права и отец будет непреклонен.
«Он в иных случаях гранит», – проносилась в его голове сказанная ему матерью фраза.
Было существо, без теплого участия которого нервное состояние молодого Савина дошло бы прямо до болезни; возможность отводить с этим существом душу, по целым часам говорить о «несравненной Маргарите», слышать слово сочувствия, нежное, дружеское, не оскорбительное сожаление – все это было тем бальзамом, который действует исцеляюще на болезненно напряженные нервы, на ум, переполненный тяжелыми сомнениями, на свинцом обстоятельств придавленную мысль, на истерзанную мрачными предчувствиями душу.
Горе человеку, около которого в момент невыносимых подчас душевных мучений нет такого существа.
Как часто заблуждаются люди, думая отрезвить человека от шальной мысли путем резкого отношения к его страданию.
Они забывают русскую пословицу: «Чужую беду руками разведу, а к своей беде ума не приложу».
Мудрость русского народа учит в этой пословице, что к несчастью человека нельзя относиться со своей меркой, что его надо мерить меркой того, кого постигло то или другое несчастье.
Горе, повторяем, нравственно страдающему человеку, который окружен этими «благоразумными лечителями» и около которого нет настоящего ухода со стороны нежного существа, чувствующего его чувствами и болеющего его болями.
Такое существо было около Николая Герасимовича Савина.
Это существо было – Зиновия Николаевна Богданова.
В сердце молодой девушки, подготовленной рассказами Фанни Михайловны о сыне, к нежному сочувствию к последнему, Николай Герасимович нашел полный отклик своим чувствам к «несравненной Гранпа», своим надеждам и упованиям.
Зина, как он начал звать ее, с ее дозволения и по настоянию Фанни Михайловны, заявившей, что она ему все равно, что сестра, ободряюще действовала на молодого Савина, она выслушивала его всегда с увлечением, соглашаясь с ним, а, главное, ее общество, близость ее, как молодого существа, свежестью и грацией напоминающей ему Маргариту, успокоительно действовали на его нервы, постоянно напряженные перед предстоящим объяснением с отцом и оскорбительными для «его кумира» разговорами с матерью.
Эти долгие беседы молодых людей не ускользнули от внимания Фанни Михайловны и вызвали ее подозрения относительно намерений сына.
Она сообщила эти подозрения Герасиму Сергеевичу.
– А пусть его утешается… – заметил тот.
– А неровен час… – испуганно сказала Фанни Михайловна.
– Все лучше, чем танцорка! – ответил ей муж. – Хорошая девушка… На наших глазах выросла…
Фанни Михайловна успокоилась.