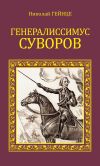Читать книгу "Герой конца века"

Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
III
В первом сражении
Бездействие, или же, что главное, безопасная деятельность, страшно угнетали Николая Герасимовича.
Он всеми своими помыслами стремился принять участие в деле и получить так называемое «крещение огнем».
Между тем кавалерия была только зрительницей, а не активной участницей на поле брани, так как задачей ее было охранение тыла войск от случайного нападения неприятеля или могущего подойти неприятельского подкрепления.
С затаенной мыслью принять на себя возможно опасные поручения, ехал Савин в корпусный штаб.
Последний помещался в болгарском Карагаче.
Николай Герасимович остановился у офицеров-ординарцев корпусного командира, Козлова и Гаталея, своих бывших петербургских товарищей.
Они приняли его с распростертыми объятиями, как свежего человека среди однообразия бивуачной жизни.
Он разъяснил им цель своего приезда и просил представить корпусному командиру.
– Хорошо, хорошо, это уж завтра, – заметили оба офицера в один голос, – а теперь давай обедать.
На столе появился душистый шашлык, приготовленный поваром Козлова, персиянином, которого он где-то раздобыл.
После обеда отправились смотреть лошадей.
У Козлова был замечательный белый арабский жеребец, которого он впоследствии продал генералу Скобелеву и, кроме того, еще чудная бурая, английская чистокровная лошадь, которой залюбовался Савин, знаток и любитель лошадей.
Вечером сошлись остальные ординарцы и адъютанты, с которыми познакомили Николая Герасимовича, и началась попойка, окончившаяся позднею ночью.
На другое утро Савин пошел представляться командиру корпуса и начальнику штаба, которым, со слов Козлова и Гаталея, было уже известно о цели его приезда.
Генерал, барон Крюденер, принял Савина очень любезно, выслушал его разъяснения о причинах, заставивших его покинуть казачий полк, и предложил ему поступить к нему ординарцем, прикомандировал его к 6-й сотне того же 34-го Донского казачьего полка, которая состояла при нем.
Николай Герасимович рассыпался в благодарностях и, конечно, согласился.
Это было в двадцатых числах августа, и ему не долго пришлось прожить без дела.
Русские строили в это время в нескольких местах батареи, для привезенных дальнобойных и осадных орудий.
Предполагалось со дня на день начать общую бомбардировку Плевны и общее наступление со всех сторон.
9-й корпус занимал линию от болгарского Карагача, Сгалушц и Гривицы до Парадила, на правом фланге, то есть на север от Плевны, расположены были румыны, а на левом фланге с юга – 4-й корпус.
25 августа был объезд корпусного командира со всем штабом и начальниками частей позиции, и на ночь штаб уже перенесся на бивуак к главной батарее.
С 28 началась перестрелка, заревели осадные орудия, начали громить турок и потрясать окрестность своими оглушительными выстрелами.
Огромные снаряды и гул их полета радовали солдатиков, которые со свойственною им шутливостью приговаривали при всяком выстреле из орудия большого калибра:
– Вот так ахнула…
– Полетела Матрешка к туркам ночевать, разуважит она их!
В ночь на 29 августа был небольшой переполох.
На бивуаке уже спали, как вдруг затрещала ружейная перестрелка.
Корпусный командир послал Савина и одного из своих адъютантов, князя Гагарина, узнать в чем дело.
Посланные помчались.
Ночь была темная, и приходилось ориентироваться по вспыхивающим огонькам перестрелки, которая происходила впереди деревни Гривинцы, занятой уже русскими войсками.
В передовой линии был в эту ночь Козловский полк 31-й пехотной дивизии, к которому Савину и Гагарину и пришлось ехать.
Чем ближе они подъезжали, тем все яснее и яснее вырисовывалась местность, освещаемая ружейными выстрелами, и когда они добрались до ложементов Козловского полка, то узнали, что турки сделали вылазку, но были встречены нашим огнем и отбиты.
Перестрелка подняла турок в Гривицком редуте, хотя за темнотою без всякого вреда для русских.
Разузнав все это, Савин и Гагарин вернулись обратно и доложили ожидавшему их корпусному командиру.
На другой день на бивуак стали съезжаться со всех сторон корреспонденты и военные агенты.
Эти господа съезжались обыкновенно перед делом, как вороны, ожидая результатов боя, чтобы сообщить во все пункты земного шара о его подробностях и исходе.
В числе корреспондентов были знаменитые Станлей и Мак-Гахан и русские: В. И. Немирович-Данченко и присяжный поверенный Утин.
Последний был корреспондент-любитель и приехал верхом на прекрасном вороном коне.
Перестрелка русских батарей с турецкими редутами шла очень деятельно, турецкие батареи отвечали исправно, хотя и не имели орудий большого калибра, но их орудия были дальнобойные и гранаты долетали до русских войск.
Если бы все их снаряды разрывались, то дело было бы плохо, но, к счастью русских, англичане продали своим друзьям-туркам старые, залежавшиеся снаряды, которые большею частью не разрывались, а закапывались в землю.
Наконец настало знаменитое 30 августа.
Приказано было наступать по всей линии. Все ординарцы были разосланы для наблюдения по частям.
Николай Герасимович был командирован в 1-ю бригаду 5-й пехотной дивизии, которая должна была штурмовать вместе с румынскими войсками Гривицкий редут.
По диспозиции начать предстояло румынам в 4 часа дня, а русские должны были их поддерживать.
Для подготовки штурма русская артиллерия выехала одновременно с румынской на позицию и открыла огонь по редуту.
Румынские войска два раза принимались штурмовать и оба раза были отбиты.
Пришла очередь двинуться русским.
Савин в это время сидел с командиром архангелогородского полка флигель-адъютантом полковником Шлитер.
Это был храбрый боевой офицер, георгиевский кавалер, прослуживший около десяти лет на Кавказе, отличившийся там и переведенный за это отличие в гвардию в Преображенский полк.
Он только что принял архангелогородский полк, который в делах под Никополем и Плевной потерял уже двух командиров, большую часть своих офицеров и две трети нижних чинов.
Полковник Шлитер, как старый боевой офицер, предвидел всю трудность предстоящего дела и был скучен.
Может быть, впрочем, это было предчувствие.
Когда наступила роковая минута двинуться вперед, он встал, осенил себя крестным знамением и громким голосом скомандовал полку:
– Вперед!
Настала и для Савина желанная минута броситься в бой.
Он пошел тоже впереди атакующих колонн.
Началась стрельба залпами и перебежка вперед.
Турки стреляли без умолку, их пули жужжали непрерывным роем, вырывая из русского строя жертву за жертвой, но бригада бодро подвигалась вперед.
Отдать отчет в ощущениях, которые какой-то кровавой волной охватили Николая Герасимовича, он не мог положительно ни тогда, ни после.
Он помнит только, как, подбегая к главному редуту, он увидел, что шедший рядом с ним полковник Шлитер зашатался и упал.
Савин хотел поддержать его, но в это время сам почувствовал оглушительный удар в голову и потерял сознание.
Очнулся он через три дня на перевязочном пункте.
Все это время он был без памяти.
Подняться Николай Герасимович был не в силах и почти не мог шевельнуться.
Левая рука была в повязке и привязана к койке.
С головы только что сняли компресс.
– Что со мной? Где я? Чем кончилось дело? – слабым голосом спросил он у стоявшей около его койки сестры милосердия, стройной блондинки, с добрыми светлыми глазами.
– На перевязочном пункте, – отвечала сестра, – вы были контужены в голову и впали в беспамятство… Кроме того, у вас перебита левая рука выше локтя пулей…
– А дело, дело… – настаивал Савин.
– Гривицкий редут взят.
– Ну, слава Богу… А полковник?
– Полковник Шлитер убит.
Николаю Герасимовичу пришлось пробыть на перевязочном пункте еще несколько дней, после чего он с другими ранеными отправился в Россию.
До Бухареста их везли на волах и лошадях, а в Бухаресте поместили в прекрасном вагоне поезда Красного Креста, в котором раненые и помчались на родину.
Савин был отправлен в Тулу, где и был помещен в госпитале Красного Креста и где через два месяца настолько поправился, что мог ехать в деревню.
В Серединском его ожидали тяжелые дни.
Его мать Фанни Михайловна лежала на одре смерти, а Герасим Сергеевич ходил как убитый.
В доме собралась вся семья, оба брата Николая Герасимовича и Зина, приехавшая из Петербурга, где она только что было начала готовиться к экзамену на женские медицинские курсы.
Ее, по желанию больной, вызвали телеграммой.
Болезнь Фанни Михайловны развилась неожиданно быстро. Здоровая, почти никогда не хворавшая, она вдруг слегла как подкошенная, совершенно неожиданно для мужа и окружающих.
Началом болезни было нервное расстройство, отразившееся на всем организме.
Последнее письмо от сына ею было получено 30 августа. Сын писал, что на это число назначен штурм Плевны.
Весть о том, что русские войска наконец сломили эту турецкую твердыню, дошла вскоре до России, как донеслась и весть о том, сколько жертв стоила эта победа.
Не получая писем от сына, Фанни Михайловна не осушала день и ночь глаз, вполне уверенная, что он убит.
Слова утешения не действовали на нее, и она положительно слабела день ото дня.
Пришедшее почти через месяц письмо, задержанное, видимо, отправкой с перевязочного пункта, о том, что Николай Герасимович ранен и вместе с другими серьезно раненными отправляется в Россию, писанное по просьбе Савина сестрой милосердия, почти совершенно не успокоило несчастную мать.
– Это все ваши шутки, – твердила она, – это одно желание скрыть от меня истину, отдалить роковое известие… Я знаю, я сердцем чувствую, что он убит…
Наконец Фанни Михайловна окончательно слегла, простудившись при частых поездках в церковь, на каменном полу которой она буквально лежала ничком по целым часам.
Организм был окончательно подорван нервным расстройством и простудой.
Даже пришедшее известие, что сын ее жив и здоров, не могло уже поднять ее со смертного одра.
Через неделю после приезда Николая Герасимовича в Серединское, Фанни Михайловна испустила последний вздох на его руках.
Он не отходил ни на шаг от ее постели.
Герасим Сергеевич, после похорон любимой жены, не пожелал остаться в Серединском, которое по его распределению имений принадлежало его сыну Николаю, и приказал увезти себя в Москву.
Его именно увезли, почти в бессознательном состоянии от постигшего его горя.
Братья разъехались, уехала и Зина в Петербург.
Она было предложила ехать с собою и Николаю Герасимовичу, но при слове Петербург его лицо исказилось таким выражением невыносимого страдания, что Зиновия Николаевна даже не окончила начатую фразу.
«Как он до сих пор любит ее», – промелькнуло в ее уме не без некоторой горечи.
Николай Герасимович не остался однако тоже в Серединском. Поручив управление имением старосте, он уехал в Тулу, где за время пребывания в госпитале сделал несколько приятных знакомств.
Вскоре верстах в десяти от Тулы он купил себе имение «Руднево», очень живописно расположенное, с прекрасным, почти новым барским домом, садом и оранжереями, а главное, великолепными местами для охоты, как на дичь, так и на красного зверя.
Выписав из своих других имений лучших лошадей и лучших собак, он зажил в деревенской тиши хлебосольным помещиком, радушным хозяином, к которому охотно собирались как соседи-помещики, так и городские гости.
В Туле даже начали поговаривать, что в Рудневе недостает только молодой хозяйки.
Тульские маменьки и дочки особенно сильно были заинтересованы этим вопросом.
IV
В поиски за счастьем
Прошло около трех лет, но мечты и надежды тульских маменек и дочек относительно Николая Герасимовича не осуществлялись.
Он, казалось, не замечал рассыпаемых перед ним чар прекрасной половиной Тульской губернии, ни красноречивых улыбок, ни не менее красноречивых томных вздохов.
Видимо, молодой Савин решился остаться холостяком, и это решение было твердо и бесповоротно.
«Это просто ненавистник женщин!» – решили хором тульские маменьки, не будучи в состоянии иначе объяснить себе неудачу романической осады их дочек, из которых каждая, в глазах своей матери, была перлом красоты и невинности.
«Бесчувственный идол! – твердили дочки. – Статуй каменный… У него нет сердца… Это какой-то изверг…»
«У него прехорошенькая ключница!» – загадочно говорили мужья и отцы.
В тоне этого замечания слышалось не то осуждение, не то зависть.
Черноглазая двадцатитрехлетняя Настя, исполнявшая в имении Николая Герасимовича Савина должность экономки и щеголявшая нарядными платьями, действительно была тем аппетитным кусочком, на который обыкновенно мужчины смотрят, по меткому выражению русского народа, как коты на сало.
Высокая, стройная, той умеренной здоровой полноты, которая придает всем формам женского тела прирожденную пластику, с ярким румянцем на смуглых щеках и знойным взглядом из-под соболиных бровей, Настя была чисто русской красавицей, о взгляде которой русский народ образно говорит, как о подарке рублем.
Ее мелодичный грудной голос, подчас становившийся суровым и властным при отдаваемых распоряжениях, ее выразительный смех с утра до вечера раздавались по всему дому вместе с шуршанием ее туго накрахмаленных юбок, к которым она имела необычайное пристрастие.
Об отношениях ее к молодому барину было только некоторое, основательное, не спорим, подозрение, но положительно никто утверждать не мог.
При гостях она была почтительной служанкой, из тех служанок, с которыми господа позволяют себе иногда добродушные шутки и… только.
Как вел себя Николай Герасимович и Настя без гостей – того не знал никто, и даже дворня и остальная отданная ей под начало прислуга не особенно уверенно называли ее втихомолку «барской барыней» и «дворянской утехой».
Каковы бы, впрочем, ни были отношения к Насте, не она удерживала его, вопреки мнению тульских отцов и братьев, от выбора себе законной подруги.
Настя, с ее вызывающей желания красотой, не могла восполнить ту потребность настоящей всепоглощающей любви, быть может эфемерной, но казавшейся достижимой, потребность которой жила в разбитом сердце Николая Герасимовича.
В этом сердце остался пьедестал, с которого так неожиданно свалился кумир – Маргарита Гранпа, и замена этого кумира, заполнение образовавшейся сердечной пустоты, было настойчивой, почти болезненной мечтой Савина.
Он решил броситься в поиски за счастьем, в погоню за созданной его болезненным воображением свободной любовью.
Неожиданно для его тульских знакомых, он, сдав управление имением старосте, а домашнее хозяйство поручив Насте, уехал, не сделав даже прощальных визитов, за границу.
Этот внезапный отъезд породил в тульском обществе массу толков, приведших оскорбленных обывателей к выводу, что у Николая Герасимовича «не все дома».
При этом делали красноречивый жест вокруг лба.
Виновник же этой тревоги мчался в курьерском поезде, туда, в Западную Европу, где он делался, по его мнению, вольной птицей, где он будет жить как хочет, как ему нравится, не подвергаясь пересудам разных чопорных старушек, провинциальных кумушек, которым все надо знать, во все сунуть свой нос.
Там он будет делать все то, что позволяют ему его средства, вращаться в том обществе, которое ему приглянется, и наконец, там он найдет ту «свободную любовь», которая здесь скована холодом приличий, как сковываются зимним холодом реки его родины.
Николай Герасимович мчался без оглядки, как выпорхнувшая из клетки птичка, и опомнился только, очнувшись на платформе венского вокзала Nord-Bahn-Hoff.
В Вене он остановился в «Hotel Imperial» на Ринге и, переодевшись и позавтракав, отправился сделать визиты двум знакомым, служащим в русском посольстве, товарищам по службе его старшего брата.
Эти знакомые были милые и веселые люди, знавшие хорошо Вену и ее прелести.
Они с удовольствием предложили Савину свои услуги для посвящения его в венскую жизнь, и в их обществе он стал посещать венские театры, балы, маскарады и другие увеселения.
Театров в Вене много, большею частью опереточные.
В семидесятых годах оперетка, руководимая венскими маэстро Штраусом, Зуппе и Миллекером, процветала, выпуская ежегодно из рук талантливых композиторов все новые и новые произведения блестящей музыки.
Все эти венские оперетки имеют свой особый жанр и пошиб, иначе сказать свой венский шик.
Произведения эти отличаются от французских своею музыкальностью, меньшей скабрезностью и большим юмором.
Этот жанр вполне подходил под тогдашние силы венских исполнителей и, в особенности, исполнительниц.
Венские женщины, отличающиеся своей красотой, миловидностью и простотой, положительно не способны к цинизму, с которым так мило и искусно обращаются ловкие француженки, превращая его в пикантность.
Этого венки не умеют, и вот почему венские композиторы и пишут свои оперетки более похожими на комические оперы.
Венские женщины произвели сильное впечатление на Савина, да и не мудрено, – венки безусловно красивее француженок, при этом рослы и замечательно хорошо сложены.
Кто любит женскую красоту и пластичность, тот должен ехать в столицу Австрии, где он на каждом шагу будет встречать замечательных красавиц.
На сценах венских театров целые рассадники красивых, веселых и милых женщин, в обществе которых можно провести прелестно время.
Пребывание в Вене Савину показалось каким-то чудным сном, но кошмар сердечной пустоты не заполнился мимолетными интригами.
В описываемое нами время среди венских красавиц особенно выделялись три сестры, которых можно было видеть в оперном театре, сидящими в ложе бельэтажа.
Они принадлежали к венской буржуазии.
Старшая из них, госпожа Шварц, была женою биржевого маклера, вторая – госпожа Сакс-Бей, вдовою лейб-медика египетского хедива, и младшая еще была барышнею и звали ее m-lle Зак.
Не будучи с ними знаком, Николай Герасимович несколько дней подряд ходил в оперный театр и не сводил бинокля с ложи красавиц.
Наконец один из его венских знакомых, граф Фестегич, представил его красавицам-сестрам.
Они оказались очень милые, воспитанные и развитые женщины. Жили они все вместе на Шоттен-Ринге, в прелестной квартирке.
Николай Герасимович стал их частым гостем.
Все три сестры были большие музыкантши, и у них часто устраивались музыкальные вечера, на которые съезжались все знаменитости венского музыкального и артистического мира.
У них Савин познакомился с известным художником Макартом, который не раз пользовался для своих картин любезностью сестер-красавиц, соглашавшихся позировать в мастерской знаменитого художника.
Николай Герасимович увлекся было одною из сестер, госпожою Сакс-Бей, но узнав, что сердце ее занято, тотчас же уехал из Вены в Италию.
Он отправился во Флоренцию через Земеринг и Понтеба при 10 градусах мороза, с лежащим на полях снегом.
Проснувшись на другое утро около Понтеба и выглянув в окно вагона, Савин просто не поверил своим глазам.
Поля все были зеленые, деревья с распускающимися листьями и при этом 15 градусов тепла.
Николай Герасимович не отрывался от открытого им окна своего купе.
Чем дальше мчался поезд, унося пассажиров в глубь Италии, к Тосканской долине, тем местность становилась все красивей и живописнее, а январь месяц превращался в май.
Места так очаровательны и живописны на протяжении всего пути, что человек, подобно Савину, не бывавший ранее в Италии, действительно не может оторвать глаз от окна вагона, любуясь прелестной панорамой с мелькающими перед ним горами, быстрыми потоками и живописно расположенными городами и садами.
Железная дорога, выходя из Ломбардо-Венецианской равнины, начинает подниматься в горы; от Вероны же до Болоньи проходит по отрогам Аппенин, прорезая их бесчисленными туннелями.
С Болоньи дорога начинает спускаться извилинами по склону гор в Тосканскую долину, где тянется вдоль живописного и быстрого Арно до самой Флоренции.
Несмотря на то, что Николай Герасимович прибыл во Флоренцию первый раз, он знал, что в ней его не ожидает одиночество.
В этом итальянском городе живет много русских, а ко времени прибытия туда Савина, там находилось несколько его петербургских знакомых, которых он хотя и давно не видал, но связи с которыми не были нарушены.
Достаточно, впрочем, знать соотечественника по имени, чтобы на чужбине с первого раза сделаться приятелями.
Как ни стараются некоторые из русских корчить из себя космополитов, но в глубине их сердец все же теплится неугасающая никогда искра любви к родине, и встреча с соотечественником вдали от России заставляет невольно трепетать эти сердца.
Только за рубежом познаешь верность слов поэта, что «дым отечества нам сладок и приятен».