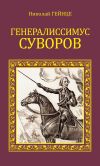Читать книгу "Герой конца века"

Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
XI
Первая любовь
Связь Савина с Симочкой Беловодовой была мимолетной.
Как пошаливший ребенок бежит и прячется в темный угол, почти с паническим страхом смотря на запрещенный предмет, с которым только что играл, так и этот взрослый ребенок Симочка стала избегать Николая Герасимовича.
Ничего не подозревавший муж казался ей всезнающим и лишь по неизвестным ей соображениям откладывающим строгое взыскание.
Подруги подтрунивали над нею втихомолку; она дрожала.
– Тише, милые, тише, – неровен час, услышит…
– Кто? Савин?
– Тише… муж…
– Эка невидаль… Пусть себе слышит на здоровье… Его самого вчера видели, с Антуанеткой ехал…
– Он по делу…
– О, святая простота, по делу… Знаем мы, какие дела могут быть с Антуанеткой… Дура… Строй рога, Савин молод, красив… не такой чумазый как твой… – настаивали подруги…
– Боюсь… милые, боюсь…
– Кого?
– Андрея Андреевича…
– Да что же он сделает?
– Убьет…
– Дура… Ведь ты его содержишь, а не он, так уж и подавно молчать должен, все жены молчат, а он у тебя как бы вроде жены.
– Убьет… Вы его не знаете… Он страшный…
Подруги отступились.
– Дура! – единогласно решили они.
Отступился и Николай Герасимович, преподнеся Симочке в роскошном букете дорогой браслет.
Он, впрочем, кажется менее хлопотал о продолжении связи, чем театральные подруги Беловодовой.
Симочка не принадлежала к тем женщинам, обладание которыми усиливает обаяние. Напротив, увлекающаяся и страстная, она после первых же объятий не оставляла ничего желать – в ней не было той тайны некоторых женских натур – отталкивающего электрического тока, усиливающего притяжение.
Она была вся на ладошке, простая, безыскусная – таких женщин приятно иметь сестрами, но не любовницами.
Быть может, Андрей Андреевич знал это свойство своей жены и прямо с коммерческою расчетливостью не допускал, пагубной для ее обаяния, близости к ней поклонников.
Издали она казалась соблазнительной, ее глаза сулили неземной рай, но увы, глаза являлись несомненно зеркалом ее души, а не тела.
Завсегдатаи же театра Берга едва ли искали души.
Не искал души в женщине и Николай Герасимович, а может быть, и не подозревал ее в тех «общедоступных существах женского рода», с которыми почти исключительно сводила его судьба.
Словом, он отступился без сожаления от робкой Симочки, как огня боявшейся своего мужа.
К этому времени, кроме того, в Хватовской компании произошел раскол: граф Жорж с Катькой-Чижик отделились от нее, всецело занявшись делом – антрепризой театра.
Занятие же каким-нибудь делом и звание члена «штаб-квартирного кружка» было своего рода нетерпимой в кружке совместностью.
Театр Берга был почти позабыт: жрицы этой своеобразной Мельпомены без всякого ущерба заменены французскими кокотками, после франко-германской войны особенно в большом количестве прибывшими в Россию, в это, по выражению поэта, «наивное царство», где, по доходившим до них слухам, было легко обирать наше будто богатое барство.
Дни летели за днями, или лучше сказать, ночи летели за ночами, так как дни, наперекор общему правилу, в Хватовской компании были назначены для краткого отдохновения, ночи же посвящались всецело делу, то есть оргиям.
Все так восхитившие Савина в рассказе Маслова «кунштюки» Хватовской компании были проделаны и при его благосклонном, как выражаются театральные афиши, участии.
Но всему бывает предел. Даже долготерпению власть имущих…
Проделки, вроде описанных нами, Хватовской компании участились и стали положительно угрожать спокойствию мирных обывателей.
По городу стали ходить положительно целые легенды, конечно, не без прикрас, о похождениях завсегдатаев пресловутой «штаб-квартиры».
На всю «теплую компанию» и участвовавшего в ней в качестве деятельного члена Николая Герасимовича Савина городское начальство серьезно обратило внимание.
Нужно было только несколько капель, которые переполнили бы чашу.
Наступил апрель месяц, первый весенний месяц года, в описываемый нами год, отличавшийся почти майской погодой.
Рассветало. К Строгановскому мосту неслась коляска, запряженная четверкой лихих лошадей.
В экипаже, почти в лежачем состоянии, находились Савин и его товарищ юнкер Муслинов.
По раскрасневшимся лицам и посоловевшим, еле открывавшимся глазам, видно было, что оба они недаром провели ночь на островах.
Въехав на мост, кучер придержал лошадей и поехал, согласно полицейским правилам, шагом.
Вследствие этого с четверкой почти бок о бок поравнялась извозчичья пролетка с двумя неизвестными франтами, тоже, видимо, возвращавшимися с островов в сильных градусах.
Увидев коляску с дремавшими офицером и юнкером, один из франтов толкнул другого в бок.
– Смотри, смотри, вот это и есть те самые пустозвоны, выкидывающие по Петербургу штуки, не дающие покоя добрым людям. Надо бы их хорошенько проучить.
Франт при этом указал тросточкой по направлению коляски. Как ни был пьян Николай Герасимович, но это замечание франта достигло его чуткого уха. Он весь вздрогнул и вскочил.
– Стой! – крикнул он кучеру.
Коляска остановилась.
Савин выскочил из нее в сопровождении ничего не слышавшего, только что пробужденного от сладкой дремоты Муслинова.
– Остановись! – крикнул он извозчику, везшему франтов. Тот послушался приказания офицера.
– Это вы про меня и моих, товарищей осмелились сейчас так выражаться? – подошел Николай Герасимович к сидевшим, как пригвожденным от страха, франтам.
– Караул! Караул!
– Городовой! Городовой!
Эти возгласы последовали вместо ответа.
– Не кричите, отвечайте! – крикнул Савин.
– Оставьте нас, поезжайте вашей дорогой… Мы не хотим иметь дело со скандалистами… Знаем мы вас… Караул! Городовой!
– Ну, Муслинов, – вне себя закричал Николай Герасимович, – надо проучить этих негодяев… Бить их не стоит… Бросим их в воду, пусть они охладятся… и впредь не будут учить и говорить дерзости.
С пьяных глаз пришедшая Савину идея нашла быструю поддержку в товарище.
Схватили они, долго не церемонясь, каждый по штатскому, да и бросили с моста в Неву, благо Строгановский мост невысок.
– Город… Кара…
Эти неожиданные возгласы были прерваны всплеском воды. Собравшийся уже народ и явившиеся городовые не успели не только остановить бросавших, но даже ахнуть. Произошел переполох.
Народ и полиция бросились спасать барахтавшихся в воде франтов и вскоре они были, как оказалось потом, благополучно вытащены, отделавшись холодным купаньем, не повредившим их здоровью.
Герои наши во время переполоха спокойно сели в коляску и уехали.
Но скандал все же вышел грандиозный. Савину и Муслинову пришлось ехать объясняться с Гофтреппе и со своим непосредственным начальником.
Их обоих посадили под строгий арест, но, приняв во внимание сильное опьянение и отсутствие жалобы со стороны потерпевших, ограничились этой дисциплинарной мерой.
– Я вас помню и знаю… – зловеще сказал Николаю Герасимовичу Гофтреппе.
Савин вскоре, впрочем, позабыл эти слова. Он вспомнил их потом.
Скандал этот и арест, однако, несколько остепенили его, он поотстал от компании Хватова, снова стал часто видеться с Михаилом Дмитриевичем Масловым, который наконец посвятил его в тайну своего сердца.
Николай Герасимович не ошибся – Маслов, действительно, любил.
Предметом этой любви была молоденькая кордебалетная танцовщица, только что выпущенная из школы, Анна Александровна Горская.
Темная шатенка, с глубокими вдумчивыми глазами, она производила впечатление не столько хорошенькой женщины, сколько хорошего человека, в смысле безграничной симпатии, возбуждаемой ею с первой же встречи.
Она жила со старушкой матерью на Торговой улице, в небольшой уютненькой квартирке и, конечно, в добавление к своему скудному балетному жалованью, пользовалась помощью Михаила Дмитриевича.
Помощь эта, однако, была очень скромная.
Это происходило не потому, что Маслов не был в состоянии давать больше, но сама Анна Александровна больше не желала этого.
– Я не содержанка, чтобы разорять тебя… Я не хотела бы брать от тебя ничего, но меня заставляет пользоваться твоей помощью только крайняя необходимость… Я люблю тебя не за деньги… – говорила она ему.
Он сначала протестовал, а затем подчинился решительным доводам своей Анны, как он называл ее, и только иногда успевал всучить Фионии Матвеевне – так звали мать Ани – лишнюю сотню рублей.
Та копила эти сотни тайком от дочери, откладывая их на черный день.
Анна Александровна, действительно, серьезно, не «по-балетному», любила Михаила Дмитриевича и последний платил ей тоже искренним чувством.
Он не раз предлагал ей жениться, но благоразумная девушка отклоняла решительно это намерение.
– Это только может испортить твою карьеру, не внеся ничего лучшего в наши отношения… Теперь мы оба служим… а часы отдохновения проводим вместе, без всяких семейных дрязг и недомолвок.
Маслов ввел в квартирку Анны Александровны Савина и в этой-то квартирке последний встретился с девушкой, которой представлено было сыграть роковую роль в его жизни.
Эта девушка была Маргарита Максимилиановна Гранпа.
Ее внешность поразительной красоты уже известна нашим читателям.
Дочь известной русской красавицы и очень красивого француза Максимилиана Гранпа, Маргарита соединила в себе все прелести обоих и, как бывает почти всегда при смешении рас, выросла лучше родителей.
Она незадолго перед этим дебютировала в балете «Голубая героиня».
Ей едва минуло шестнадцать лет.
Николай Герасимович после первых же встреч с Маргаритой У Горской понял, что пустота жизни его наполняется первою любовью к Маргарите Гранпа.
XII
Похищение
Прошло около двух месяцев.
Был теплый вечер конца июня.
На террасе одной из изящных дач Ораниенбаума в кресле-качалке сидела Маргарита Максимилиановна Гранпа.
Тот, кто видел ее только на театральных подмостках, не узнал бы грациозную, всегда оживленную танцовщицу в этой поразительно хорошенькой, но бледной и грустной девушке с заплаканными глазами.
Скромное платье из легкой голубой бумажной материи облегало ее чудный полуразвившийся стан. В небрежно сколотой косе воткнута была белая чайная роза, а дивные ножки были обуты в туфельки желтой кожи.
Она смотрела, как мы уже сказали, грустно, почти печально, своими глазами цвета польского неба.
Казалось, сумерки природы, затуманившие небо, отражались и в этих глазах.
Порой на ее выточенном точно из слоновой кости лбу появлялись чуть заметные складочки, а красиво и тонко очерченные губки нервно передергивались.
Маргарита Максимилиановна переживала происшествие сегодняшнего дня – столкновение с отцом и «тетей», как она называла женщину, ставшую на место ее матери.
«Без всякого права!» – обыкновенно мелькало в ее уме, когда она об этом думала.
«Нет, я уеду, уеду… Пусть он увезет меня… Ведь я поеду с ним к бабушке… Здесь я жить не могу…»
В это время из сада на террасу легкой поступью поднялся мальчик лет четырнадцати, одетый в суровую парусиновую пару.
Брюнет, с выразительными чертами лица и лоснящимися кудрями, он положительно мог назваться красавцем.
– Марго, ты опять плакала! – грудным голосом воскликнул он.
– Это ты, Макс… – остановила на нем взгляд Маргарита Максимилиановна и деланно улыбнулась.
– Не притворяйся, ты плакала, плакала… – говорил мальчик. – Она тебя опять обидела… О, как я ненавижу ее…
– Что ты, что ты, Макс… Она тебе мать…
При последнем слове глаза молодой девушки наполнились слезами.
– Что же из этого, а ты мне сестра по отцу… и я люблю тебя… больше ее…
Мальчик опустился на стоявшую около качалки скамеечку и вперил в Маргариту Максимилиановну почти страстный взгляд.
– Не говори этого, Макс, и не гляди так, ты знаешь, я этого не люблю…
Мальчик опустил глаза.
– Опять из-за Савина… – после некоторой паузы начал он.
– А то из-за чего же… Но Николай Герасимович только предлог, она рада есть меня из-за каждого пустяка, из-за всякого куска хлеба… Я не могу… Я убегу, Макс…
– И я с тобой…
– Нет, Макс, ты оставайся, я убегу к бабушке…
– К бабушке… С ним… – в глазах мальчика блеснул ревнивый огонек.
– Он только проводит меня… Он честный, Макс, он хороший…
– Все они честные и хорошие… – проворчал мальчик.
– Он любит меня…
– Все они любят…
– Он сделал мне предложение…
– Ты говорила об этом отцу… и ей?.. – последнее слово он произнес, как будто не найдя другого названия.
– Говорила.
– Ну и что же?..
– Она настроила отца… Он за Колесина…
– За эту накрашенную куклу… Он ведь шулер, говорят… – презрительно уронил Максимилиан Гранпа.
– Но он очень богат…
– Савин тоже богат… Я люблю тебя, но лучше уступлю тебя Савину, нежели тому…
– Савин хочет жениться…
– Тем лучше…
– Я и сама так думала… а она говорит… брак вздор… и отец туда же… Такой красавице мало одного состояния мужа, ей надо несколько состояний… Она просто хочет погубить меня…
Маргарита Максимилиановна замолчала.
– О, как я ненавижу ее!.. – вырвалось из груди мальчика почти диким криком.
– Макс, не говори так…
Она протянула ему руку.
Он прижался к этой руке долгим поцелуем.
Что-то горячее вдруг обожгло ее руку.
Мальчик плакал.
Расскажем, чтобы объяснить эту сцену, в коротких словах всю неприглядную обстановку, в которой выросла Маргарита Гранпа.
Ей не было и двух лет, когда ее мать, русская красавица из хорошей фамилии, увлекшаяся французом-танцором, отцом Маргариты, и вышедшая за него замуж без дозволения родителей, уехала от него с другим избранником сердца, оставив дочь на руках отца.
Не прошло и года после этого бегства, как Максимилиан Гранпа сошелся с танцовщицей-полькой, от которой у него родился сын Максимилиан и дочь Клавдия.
Любовь к новой подруге жизни, конечно, оттеснила на второй план любовь к первой дочери, явившейся, кроме того, живым напоминанием измены его законной жены.
По седьмому году ее отдали в театральную школу.
Быть может, она была бы и совершенно забыта отцом и женщиной, заступившей место ее матери, если бы ее выдающаяся красота и необычайные способности по танцам не выдвинули ее сперва в школе, а затем, незадолго до момента нашего рассказа, и на сцене.
Максимилиан Эрнестович Гранпа стал гордиться ею не только как дочерью, но и как своей ученицей.
Горечь измены жены уже стушевалась в его душе, и он искренно полюбил «Марго», как звали ее дома и в школе.
Марина Владиславовна, так звали танцовщицу, с которой Максимилиан Эрнестович сошелся посте бегства жены, глубоко возненавидела девочку, с которой ее «Макс», как звала она своего сожителя, носился, по ее выражению, как дурак с писанной торбой.
Она даже предсказывала, что из нее ничего не выйдет, даже порядочной танцовщицы.
Когда же это предсказание не сбылось, когда весь Петербург в один голос заговорил о вновь появившейся звезде балета, Марина Владиславовна, скрепя сердце, должна была признать совершившийся факт.
Затаив свою ненависть, продолжавшуюся, впрочем, проявляться в мелочах, в попреках из-за куска хлеба, в сценах Максу за траты на дочь, она задумала извлечь из красоты и таланта своей падчерицы как можно более выгоды для семьи.
Ухаживание влюбленного Савина, конечно, не отвечало ее планам – она была за Колесина, который не щадил средств, чтобы снискать себе расположение Марины Владиславовны.
Николай Герасимович полюбил действительно искренно.
Любовь всегда влияет благотворно на душу человека.
Из буйного скандалиста и необузданного кутилы, она сделала из него тихого вздыхателя, лежащего у ног красавицы.
Каждый день он был у Маргариты Гранпа, жившей тоже по Торговой улице, невдалеке от дома, где жила Горская, возил ей букеты и конфеты.
Марина Владиславовна, а под ее влиянием и Максимилиан Эрнестович косились на Николая Герасимовича, находившегося притом в финансовом отношении, в это время, далеко не в авантаже.
Чувства влюбленного не похожи на чувства людей, находящихся в нормальном состоянии, – они все видят в розовом цвете, надежды, их на блаженство бывает без границ.
Савин стал мечтать о вещах, которые до того времени никогда не приходили ему в голову.
Оказалось, что в нем таилась романическая жилка, чего он до сих пор не знал сам, и он был способен к чистой, пламенной и даже платонической любви.
Такою именно любовью сгорал Николай Герасимович к Маргарите Гранпа.
Мы знаем из разговора с ее братом, что он сделал ей предложение, но не слыхали от нее, чтобы она отказала ему.
Она действительно и не отказала.
Замужество улыбалось ей.
Нежный цветок, выросший на «театральном болоте», всосав в себя случайно лишь чистую ключевую подземную воду, тина и грязь не коснулись его.
Зная рано все житейские отношения, она с отвращением отталкивала от себя мысль сделаться такою, какими были ее старшие подруги и даже уже некоторые сверстницы.
Она видела, однако, что ее толкают именно на эту дорогу. Она, как мы слышали, говорила, что ее хотят «погубить», когда на балетном языке это называлось «пристроиться».
Ухаживания Колесина вели к этой погибели.
Ухаживания Савина вели, как она думала, к браку.
Она согласилась на план Николая Герасимовича спасти ее от когтей Колесина, скрыв на время у бабушки ее, со стороны матери, старушки Нины Александровны Бекетовой.
Для приведения этого проекта в исполнение Савин переехал в Ораниенбаум, поселился в гостинице, куда понемногу были с помощью подкупленной горничной перенесены вещи Маргариты Максимилиановны, уложены в приготовленный сундук и отправлены в Петербург.
Тот самый вечер, или лучше сказать следовавшая за ним ночь, в который мы застали молодую девушку на террасе дачи в Ораниенбауме, был назначен для бегства из родительского дома.
Поговорив еще несколько времени со своим братом Максимилианом, Маргарита Гранпа ушла в свою комнату и стала ждать.
Вечер тянулся томительно долго. Наконец он сменился наставшей июньской ночью.
На даче все заснуло.
Маргарита Максимилиановна стала чутко прислушиваться к окружавшей ее тишине. Вдруг послышались топот лошадиных копыт и стук колес.
Молодая девушка надела шляпку, накинула на себя летнее манто и на цыпочках пробралась через залу и террасу в сад.
Миновав его бегом, она очутилась у калитки, около которой стояла карета, запряженная четверкой лошадей.
– Марго, ты?.. – послышался из кареты голос.
– Я… – чуть слышно проговорила она.
Дверцы кареты отворились, и Маргарита Максимилиановна быстро юркнула во внутрь и очутилась возле Николая Герасимовича. Кучер, не дожидаясь приказания, ударил по лошадям. Они помчались.
Нина Александровна была подготовлена Николаем Герасимовичем к встрече своей любимой внучки. Он сумел понравиться старушке, и она всецело была на его стороне.
– Женись, батюшка, женись… и вези в деревню, хозяйкой будет, хорошей женщиной, а то «танцорка», прости господи, беса тешить… – говорила старушка.
Бабушка Бекетова жила в маленьком собственном домике на Петербургской стороне.
Туда и примчал свою ненаглядную Марго влюбленный без ума Савин.
Нина Александровна, не ложившаяся спать, встретила внучку и заключила ее в свои объятия.
– Радость ты моя, Маргариточка… А ты, молодчик, – обратилась она к Савину, вошедшему в зал вместе с молодой девушкой, – убирайся восвояси… завтра день будет и наглядишься, нечего по ночам бобы разводить… спать пора… Иди, иди.
Николаю Герасимовичу ничего более не оставалось, как повиноваться.
XIII
В Серединском
Широко, привольно и живописно раскинулось село Серединское – родовое именье Савиных.
Узкая и неглубокая, но светлая, как кристалл, бегущая по песчаному руслу, речка блестящей лентой окружала сад, раскинутый на горе, на вершине которой стоял господский дом со службами, доминируя над окрестностью.
Дом был старинный, прочной постройки, но, видимо, заботливый ремонт не допускал на него печати времени, каковая печать, вместе с печатью судебного пристава лежала в описываемое нами время на большинстве помещичьих усадеб.
Выходя фасадом и огромной террасой к реке, дом весело и приветливо глядел своими зеркальными стеклами на темно-сером фоне общей окраски дома.
С антресоль, составляющих непременную принадлежность каждого старого дворянского дома, и в особенности с высокого бельведера, с затейливыми окнами из разноцветных стекол, открывался чудный вид на окружавшее почти десятиверстное пространство.
С другой стороны, то есть со стороны прилегавшего в полутора верст от усадьбы почтового шоссе, к дому вела прекрасно убитая щебнем дорога, обсаженная деревьями и представлявшая чудную прямую аллею, оканчивающуюся воротами, ведущими во двор к громадному стеклянному подъезду.
Дорога к дому все время довольно круто шла в гору.
Все усадебное место, кроме сада, разбитого террасой по спуску к реке, находилось на плоскогории, на скате которого находились барские поля, оканчивающиеся, с одной стороны, далеко тянувшимся барским лесом, а с другой, примыкавшие к самому селу, раскинувшемуся уже на отлогом берегу той же реки.
Село было большое и красивое. Прочные, просторные избы, почти сплошь крытые тесом, а некоторые даже железом, указывали на благосостояние обывателей.
Ни одно развалившееся или почерневшее от времени строение не коробило глаз.
Широкая улица села содержалась в чистоте и на ней выделялись вычурною постройкою здания волостного правления, школы и трактира.
Каменный храм стоял в конце села, среди огороженного каменною оградою кладбища.
За околицей тянулись крестьянские поля и пастбища, а вправо – крестьянский лесок.
Стояла половина сентября 1875 года. Было около девяти часов вечера.
В угловой гостиной помещичьего дома, за круглым преддиванным столом, на котором горела высокая, старинная, видимо, переделанная из олеиновой в керосиновую, лампа под уже новейшим огромным пунцовым абажуром, сидели на диване Фанни Михайловна Савина и наискосок от нее молодая девушка лет восемнадцати, с оригинальным смуглым лицом цыганского типа.
Фанни Михайловне уже перевалило за пятьдесят, но красивое лицо ее сохраняло такую свежесть, что лишь заметные морщинки около юношески-светлых глаз и около несколько поблекших губ выдавали прошедшее над нею сокрушающее время. Седины в темно-каштановых волосах, под черной кружевной наколкой, заметно не было. Одета она была в домашнее, темно-коричневое платье, а на плечах был накинут ангорский платок.
Фанни Михайловна вышивала на клеенке какое-то затейливое английское шитье, внимательно слушая читавшую ей молодую девушку.
Девушка читала ровным, певучим голосом поэму H. A. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Зиновия Николаевна Богданова, или Зина, была приемышем семейства Савиных.
Лет шестнадцать тому назад, поздним зимним вечером, в их московском доме раздался сильный, резкий звонок.
Выбежавшая на звонок прислуга увидела у подъезда стоящую на верхней ступеньке маленькую девочку, лет двух, в рваной кацавейке и платке, с висевшим у нее на шее образком Божией Матери, в металлической ризе.
Больше ни на подъезде, ни на улице никого не было.
О странной поздней посетительнице доложили Фанни Михайловне, которая приказала ввести девочку к ней в будуар, раскутала ее, увидала хорошенькую брюнетку с резкими и тонкими чертами лица и большими черными глазами.
Из-за ее пазухи выпали две бумажки.
Одна из них оказалась метрической выпиской из церкви святого Ермолая, что на Садовой, о рождении два года и два месяца тому назад, у крестьянской девицы Вассы Андреевой незаконной дочери Зиновии, а другая написанной полуграмотно запиской:
«Приютите сироту, по отцу зовут Николаева».
Фанни Михайловна, с разрешения Герасима Сергеевича, исполнила просьбу неизвестной матери, хотя об этом пришлось довести до сведения местной полиции, оставившей девочку на попечение дворянина Савина и отобравшей документы, выписку и записку для справок.
Справки наводили довольно долго и не достигли никаких результатов. Священник церкви Ермолая припомнил, что крестил года два тому назад девочку у полевой цыганки, предъявившей ему паспорт, из которого и выписано было звание матери.
По наведении справок в волостном правлении оказалось, что крестьянская девица Васса Андреева находится в безвестной отлучке.
На этом дознание года через два было прекращено и бумаги возвращены Фанни Михайловне.
Девочка тем временем обжилась в доме, поставленном, по желанию своей приемной матери, на барскую ногу.
Девочки скорее мальчиков свыкаются с обстановкой и даже отражают ее на себе.
Недаром же говорят, что все женщины родятся аристократками, чего нельзя сказать о мужчинах, на которых родовитость накладывает особую печать – аристократа нельзя не узнать в грязных лохмотьях в ночлежном доме, тогда как там же бывшую княжну трудно отличить от прачки, а между тем, с другой стороны, сколько прачек делались настоящими княгинями, не по имени только, но и по манере держать себя.
Зина тоже стала совсем барышней.
Она росла. Сперва ей наняли бонну, а затем гувернантку и учителя, и только когда ей минуло двенадцать лет, Фанни Михайловна последовала, в виду ее происхождения, советам мужа и отдала ее в гимназию.
Девочку приписали к московскому мещанскому обществу и дали фамилию Богдановой.
Она поступила прямо в третий класс и в описываемый нами год окончила курс первой ученицей, с золотой медалью.
Зина читала:
От женской волюшки
Потеряны ключи!
Какою рыбой сглотнуты,
В каких морях та рыбина
Гуляет… – Бог забыл…
В это самое время в дверях гостиной появился из своего кабинета, где он сидел за разбором только что привезенной почты, Герасим Сергеевич.
Время его сильно изменило, и хотя он был по-прежнему строен, так как некоторая полнота известных лет скрадывалась высоким ростом, но совершенно седой. Белые как лунь волосы были на голове низко подстрижены, по-английски. Бороды он не носил, а совершенно белые усы с длинными подусниками придавали ему сходство с известным портретом Тараса Бульбы.
Обыкновенно ясные и веселые темно-карие глаза, под несколько нависшими седыми бровями, были теперь мрачны.
Лицо его было бледно и расстроено и в самой манере входа в гостиную было видно раздражение.
Одет он был в драповый полухалат с шелковыми шнурами и шитых шелковых туфлях, а в руке держал длинную трубку с черешневым чубуком.
Это было тоже необычно.
По правилам дома, в гостиной, зале и столовой не курили, и это правило никогда не нарушал и сам хозяин.
Должно было случиться нечто необычайное, чтобы всегда корректный и строгий прежде всего, и кажется только исключительно, к самому себе, Герасим Сергеевич забыл оставить трубку в кабинете, аккуратно поставив ее на стоявшую там подставку с десятками этих орудий услады досуга наших предков.
– Что с тобой, Герасим Сергеевич? – удивленно подняла на него от работы глаза Фанни Михайловна, от которой не ускользнула ни малейшая подробность, указывающая, что с ее мужем что-нибудь случилось необычайное.
Зина прекратила чтение и тоже глядела на «дядю», как она звала Герасима Сергеевича, беспокойно-вопросительно.
– Что со мной, что со мной!.. – развел старик Савин руками, в одной из которых был чубук, а в другой раскрытое письмо.
– Виноват! – вдруг произнес он, заметив чубук, и быстро удалился из гостиной.
Обе женщины молчали и сидели, с недоумением глядя друг на друга.
Через минуту Герасим Сергеевич вернулся в гостиную без трубки, но с письмом в руке и подойдя к преддиванному столу, грузно опустился на кресло, противоположное тому, на котором сидела Зиновия Николаевна.
– Уф!.. – вздохнул он.
– Что такое? – с тревогой в голосе снова спросила Фанни Михайловна.
– А вот, что такое, полюбуйся, что проделывает твой любимец, кумир, сынок ненаглядный…
– Коля! – как-то простонала Фанни Михайловна.
– Ну, да, Коля, Колечка… Свет очей твоих… Прочти, полюбуйся.
Герасим Сергеевич почти перебросил жене письмо, которое он держал в руках, встал и нервной походкой стал ходить из угла в угол гостиной.
Фанни Михайловна жадно впилась в строки письма, писанного дорогой ей рукой любимого сына.
Наступило молчание, прерываемое лишь мягкими шагами Герасима Сергеевича.
– Бедный, бедный… – вырвалось, видимо, прямо из сердца Фанни Михайловны.
Герасим Сергеевич, находившийся в противоположном углу гостиной, быстро обернулся.
– Бедный, ты говоришь, бедный… Полтораста тысяч долга за его юнкерство в Петербурге я заплатил… Отправил в Варшаву, думал, что остепенится, радовался, что наконец он произведен в корнеты, и вдруг – опять столько же долгу, и… отставка… Корнет в отставке!.. Ха-ха-ха!
– Но ведь, Герасим Сергеевич, и ты…
– Что я, я, матушка, вышел в отставку для того, чтобы заниматься делом… Я служил, никогда не зная, что такое долг. У меня была наклонность к хозяйству…
– А может и Коля… – прервала его Фанни Михайловна.
– А может и Коля… – передразнил ее муж. – Ты все прочла?
– Нет…
– Так читай дальше… Увидишь, какое он хочет устроить хозяйство… Чем хочет порадовать родителей…
Фанни Михайловна снова углубилась в чтение письма, а Герасим Сергеевич снова продолжал свою прогулку из угла в угол.
– Бедный, бедный… – снова с вздохом произнесла Фанни Михайловна, складывая письмо, но не выпуская его из своих рук.
– Опять бедный… – встрепенулся Герасим Сергеевич. – Прокутить в три года триста тысяч, чтобы корнетом в отставке жениться на танцорке!..
– Но ведь он ее любит… – вставила Фанни Михайловна.
– Любит, любит!.. Я выбью из него эту любовь!.. Вот приедет, я с ним поговорю.
– Герасим Сергеевич… Он разоряет не меня. Мне скоро в могилу, – с собой не унесу, – но он разоряет братьев… Я заплачу, но я вычту из его части и отделю его… А об танцорке ему надо будет позабыть. Пусть лучше займется делом – хозяйством…
– Только ты, Герасим Сергеевич, не очень круто… лучше я с ним переговорю.
– И дашь свое благословение?..
– Нет, нет, если ты этого не хочешь…
– А ты бы хотела?..
– А может она хорошая девушка, по письму… Ведь бывает…
– По письму!.. – воскликнул Герасим Сергеевич и, махнув на жену безнадежно рукою, ушел к себе в кабинет.