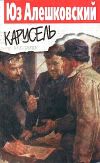Текст книги "Театр рассказа"

Автор книги: Николай Говоров
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Диалектика развития образа рассказчика в теории и практике чтецкого искусства характерно сложным переплетением объективно проявляющихся процессов и постепенным их теоретическим осмыслением.
Вначале объективно складывающийся при исполнении литературных произведений образ рассказчика совершенно не осознается ни исполнителями, ни теоретиками чтецкого искусства.
К тому же в течение долгого времени теория чтецкого искусства не только была полностью оторвана от его практики, но она фактически вообще не имела прямого отношения к этому искусству.
Приблизительно с XVII века стала складываться теория чтения, преимущественно церковного, затем стала развиваться теория декламации, тоже не имеющая отношения к чтецкому искусству. Так, например, автор трактата «Рассуждения о декламации» Герот Шелл (XVIII век), в общем-то, пишет даже не о чтении, а об ораторском искусстве судебного красноречия.
Эти работы стали теорией чтецкого искусства не потому, что они создавались на материале чтецкого искусства или были посвящены чтецкому искусству, а потому, что люди, занимающиеся чтецким искусством, в поисках учебных пособий, стали обращаться к этим работам. И они, действительно, оказывали огромное влияние на развитие чтецкого искусства.
В середине XIX века теория чтецкого искусства представляла собой довольно сложное переплетение различных дисциплин, в той или иной форме рассматривающих чтение и устную речь. Главными источниками были теория ораторского искусства, церковного чтения и теория театра. В дальнейшем на ее развитие оказали сильное влияние языкознание, литературоведение, педагогика, психология и эстетика. В первые десятилетия XX века сильное влияние на теорию чтецкого искусства оказали теория музыки и характерология, а затем и физиология речи.
Если на первом этапе развития теории чтецкого искусства чтецы просто пользовались теорией церковного чтения, ораторского искусства и теорией театра, то в конце XIX века теоретики выразительного чтения уже сами обращали свои труды ко всем тем, кому
«… по необходимости приходится говорить и читать вслух, например: преподавателям, лекторам, юристам, священникам, докладчикам и членам ученых и иных обществ, гласным городских управлений и земств. Есть также большое число “любителей чтения вслух и декламации”».[46]46
Бродовский М.M. Руководство к выразительному чтению. СПб, 1887 год
[Закрыть]
Как видим, здесь уже упоминаются чтецы, но в самую последнюю очередь, и преимущество дается тем, кто читает вслух. И уже в самом конце декламаторам.
Так, к концу XIX века образовалась общая теория выразительного чтения. В дальнейшем она расчленилась на ряд самостоятельных теоретических дисциплин: на теорию выразительного чтения, отошедшую к общей педагогике, теорию техники речи, связанную преимущественно с театральной педагогикой, с одной стороны, и с дефектологией, с другой, и самостоятельную теорию чтецкого искусства.
При таком характере складывавшихся отношений между теорией и практикой чтецкого искусства совершенно естественно, что теория не только не могла способствовать выявлению объективно складывающегося в чтецком искусстве образа рассказчика, но и совершенно непроизвольно оказывала сдерживающее влияние на эмпирически формирующееся решение этого образа в практике чтецкого искусства.
Это продолжалось до тех пор, пока за развитие теории не взялись сами практики этого искусства.
Возникновение собственной теории чтецкого искусства относится к концу XIX века. Правда, первые работы этой собственной теории чтецкого искусства отличаются от общей теории выразительного чтения только тем, что помимо вопросов, рассматриваемых общей теорией чтения, они ставят конкретные вопросы исполнительского чтецкого искусства.
Общая теория выразительного чтения совершенно не обращала внимания на проблему образа рассказчика. Однако объективно образ рассказчика в художественном чтении существовал, и собственная теория чтецкого искусства сразу же обратила на него внимание.
Перед чтецким искусством возник вопрос, кем является чтец, когда он исполняет литературное произведение. Первым на объективно складывающийся образ рассказчика обратил внимание один из ведущих чтецов конца XIX и начала XX века, актер, режиссер, теоретик театра и чтецкого искусства, а также театральный критик Ю. Э. Озаровский.
Уже в первой своей капитальной работе по теории чтецкого искусства «Вопросы выразительного чтения» в 1896 году он задается целью выяснения художественного «я» чтеца. Правда, Озаровский не ставит перед собой задачи дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Он лишь выдвигает его, считая, что ответ надо искать в соотношении художественного «я» чтеца и авторского «я». Но он не знает, должно ли одно «я» закрыть собой другое.
«…Но, так или иначе, – пишет он, – последнее основное требование теории выразительного чтения, предъявляемое ею ко всякому истинно художественному исполнению, заключается в умении передать в чтении личное, авторское начало, несомненно, отраженное в произведении индивидуальностью поэта».[47]47
Стр. 123, 124
[Закрыть]
Как видим, с самого начала проблема образа рассказчика, поставленная теорией чтецкого искусства, как проблема творческого «я» исполнителя, рассматривается ею, как необходимость для чтеца раскрытия образа автора.
Еще более отчетливо эта концепция была сформулирована другим теоретиком чтецкого искусства того времени Ф. В. Виноградовым в 1902 году.
«Второе условие собственно декламации требует, чтобы декламатор не только передал идею произведения, но был бы в то же время точным выразителем внутреннего мира писателя в момент его творчества. Для исполнения этого условия необходимо уяснить себе то душевное состояние поэта, под влиянием которого создавалось произведение, уяснить себе цель произведения и, наконец, в своем воображении конкретно представить все картины и образы и тогда уже в живой форме воспроизвести их перед слушателями посредством живого слова».[48]48
Литературный вечер, Казань, 1902, стр. 27
[Закрыть]
К сожалению, в дальнейшем появление теории музыки живого слова, которая безраздельно завладела умами всех теоретиков чтецкого искусства, полностью вытеснило и проблему образа рассказчика, и проблему реалистического метода, и многие другие важнейшие проблемы чтецкого искусства. Происходит новый и еще более резкий разрыв между теорией и практикой этого искусства.
И вновь эта проблема возникает в теории чтецкого искусства в середине тридцатых годов, сначала на многочисленных творческих дискуссиях среди чтецов, а затем и в теоретических работах.
Особенно резкий перелом в теории чтецкого искусства в сторону сближения его с практикой происходит в 1935 году, в год создания чтецкой секции Всероссийского Театрального общества. С 1935 года в Москве и в Ленинграде систематически проводятся творческие самоотчеты ведущих мастеров чтецкого искусства, дискуссии по самым актуальным вопросам, выдвигаемым его практикой.
Характерной особенностью этих дискуссий была атмосфера полной откровенности, порой доходящей до большой остроты, искреннее стремление всех ее участников к выяснению истины. Порой эти дискуссии проходили в очень бурной атмосфере.
Эти дискуссии полностью перевернули всю теорию чтецкого искусства. В этих дискуссиях зародилась новая теория, которая действительно взялась за всестороннее изучение практики чтецкого искусства и самым прямым образом влияла на его практику.
Влияние этой новой устной теории чтецкого искусства на практику шло в двух направлениях:
во-первых, в процессе совершенствования творческих методов его мастеров, и тех, чьи методы обсуждались, и тех, кто принимал участие в обсуждении этих методов, и,
во-вторых, в том, что в этих дискуссиях и в Москве, и в Ленинграде был дан решительный бой всем формалистическим школам чтецкого искусства.
Причем, последнее имело огромную силу в том, что борьба с формализмом шла не декларативная, ни кем-то навязанная сверху, а чисто профессиональная, в процессе разбора конкретных работ и творческих методов работы чтецов.
Характерно и то, что само понятие формализма в этих дискуссиях почти не фигурировало, разве что только в 1938 году на ряде совещаний московской чтецкой секции при обсуждении творческого метода Яхонтова.
Сам характер творческих самоотчетов давал возможность наиболее полного раскрытия творческого метода исполнителя и его обсуждения. Начинался он, как правило, с изложения самим чтецом основных принципов своего творчества. Иногда бюро чтецкой секции, особенно московской, в форме анкеты предлагало исполнителю ответить на ряд самых актуальных вопросов теории и практики чтецкого искусства. Иногда вместо теоретического самоотчета исполнителя делается доклад о его творческом методе каким-либо ведущим искусствоведом. Затем исполнитель показывал наиболее значительные свои работы. После чего разворачивалась дискуссия.
Эти дискуссии не всегда были приятными для исполнителей, даже самых ведущих мастеров искусства живого слова, таких как И. Ильинского, Балашова и ряда других. От внимания участников дискуссий не ускользали никакие противоречия теоретических позиций исполнителей и их творческой практики. Далеко не все выявляемые противоречия находили свое разрешение в дискуссии. Но одно то, что противоречия эти выявлялись, представляло огромную ценность и для практики, и для теории этого искусства.
Большинство чтецов положительно относились к критике их концепций. Но были и такие, которые обижались на эту критику, а некоторые вообще не хотели признавать ее. Особенно резкою позицию по отношению к работе чтецкой секции занял Владимир Яхонтов.
Так, например, в 1937 году московская секция решила провести обсуждение творческих методов ведущих мастеров художественного слова. Было решено начать это обсуждение с творчества первого лауреата первого Всероссийского конкурса чтецов В. Яхонтова. Однако, он отказался явиться на это обсуждение, заявив, что те, кто хочет его обсуждать, ничего не понимают в его творчестве. И обсуждение творческого метода Яхонтова проходило в его отсутствии. Но, даже находясь в такой резкой оппозиции по отношению к работе чтецкой секции, под влиянием общего развития теории и практики чтецкого искусства Яхонтов все же был вынужден отказываться от некоторых своих ультраформалистических приемов.
Я дал столь подробное изложение начального периода работы чтецкой секции, так как дальше буду часто ссылаться на материалы, накопленные в ее работе.
Это возвращение теории чтецкого искусства к анализу вопросов его практики, сразу же на первое место выдвинуло и проблему образа рассказчика.
Однако первым, кто снова обратился к этой проблеме в теории чтецкого искусства еще накануне открытия чтецкой секции ВТО, был Шарвинский. В своей монографии «Художественное чтение», изданной в 1935 году он снова ставит проблему образа рассказчика, как проблему творческого «я» исполнителя.
«Как же следует понимать это “я” чтеца?» – спрашивает он и отвечает: «Разумеется, не как бытовое “я” исполнителя… Итак, “я” это не автор, не исполнитель в их бытовом аспекте, это есть условное “я” чтеца, синтез авторского “я” и своего личного “я”».[49]49
Стр. 25
[Закрыть]
Как видим, Шервинский не просто снова поднимает эту проблему, но и развивает ее. В его концепции образ рассказчика, то есть творческого «я» чтеца это уже не просто образ автора, а что-то более сложное, хотя и совершенно условное.
Правда, Шервинский не дает целостного, общего для чтецкого искусства понятия этого образа. Шервинский, как и ряд других теоретиков чтецкого искусства, еще связывает свою концепцию со старой классической школой Озаровского и Сережникова. И эта связь осуществляется по одному из самых основных принципов классической теории чтецкого искусства, утверждающему множественность методологических принципов чтецкого искусства в их подчинении различным литературным жанрам.
Исходя из этого принципа, Шервинский приходит к плюралистическому, то есть множественному решению и образа рассказчика.
«От характера исполняемого произведения, – говорит он, – зависит, насколько исполнитель должен войти в “образ”. Наибольшее вхождение (однако, все же не полное) происходит, когда с эстрады исполняется какой-нибудь драматический монолог».[50]50
Там же
[Закрыть]
В дальнейших решениях образа исполнителя данного направления теории чтецкого искусства, т. е. направления, которое исходит из различий методологических и эстетических принципов исполнения различных литературных жанров, преимущественное право на образ дается уже не драматическому монологу, а рассказу.
«Исполнение рассказов, – пишут в своем пособии “Логика речи” в 1937 году Корсакова Е. А. и Прянишникова А. В., – требует передачи не только различных образов (людей, картин, фактов), но и выявления миропонимания и характера человека, от лица которого ведется рассказ (ведущий образ)».[51]51
М.,1937 год, стр. 5
[Закрыть]
Как мы уже говорили, при решении проблемы образа рассказчика теория чтецкого искусства столкнулась с тем же самым противоречием, с которым сталкивается и практика этого искусства – это двойственность, противоречивость положения чтеца, его раздвоенность между художественным материалом повествования, требующего решения образа рассказчика, «художественного “я” чтеца» и реальностью обстоятельств рассказа, заставляющих чтеца в непосредственном общении со зрителем оставаться современником тех, кому он рассказывает.
Это – то же самое противоречие, которое вынуждало Закушняка создавать двойственный образ рассказчика, в котором, с одной стороны, раскрывались черты, характеризующие авторский стиль повествования данного материала, а с другой – качества, связывающие исполнителя с аудиторией, то есть с реальными обстоятельствами рассказа.
Это противоречие объективно лежало в основе многочисленных дискуссий по проблеме образа рассказчика, хотя конкретно о данном противоречии никто не говорил. Спорящие как бы разделились на тех, кто боролся с этой образностью на основе реальности обстоятельств рассказа и тех, кто отстаивал необходимость создания образа рассказчика, исходя из художественности материала его повествования.
И с той, и с другой стороны выступали представители разных направлений, по-разному понимая образ рассказчика, по-разному его отстаивая и по-разному его отрицая.
К тому же, в эту дискуссию непрерывно вторгалась проблема образного изображения содержания рассказа, отстаивавшаяся широко распространенными в то время принципами театра одного актера. Дискуссия о принципах решения образа рассказчика сливалась с дискуссией об отражении действительности чтецким искусством, то есть о том, должен ли актер играть то, о чем он рассказывает, или должен только рассказывать о повествуемых им событиях.
В силу этого, образ рассказчика и образы повествования рассказа часто смешивались друг с другом. Иногда спорящие стороны не очень ясно понимали позиции своих оппонентов.
В поисках выявления образной специфики чтецкого искусства большинство чтецов и теоретиков чтецкого искусства стали сравнивать образ рассказчика и образы повествования рассказа, т. е. тех, о ком ведется рассказ с образами, создаваемыми актером в театре. И часто отказ от образности был косвенным утверждением принципов целостности повествования, то есть принципов рассказа, что уже являлось какой-то скрытой формой решения образа рассказчика.
Приведу пример такого крайне завуалированного решения образа рассказчика заслуженной артисткой республики Н. И. Комаровской.
«Образ, создаваемый актером на сцене, – говорит она, – это – живой человек, действующий в среде других людей, в конкретной обстановке, сценическое [поведение] персонажа раскрывает этот образ перед зрителем. На эстраде же нет ни одного из этих моментов: чтец не “ведет себя”, подобно актеру, а лишь рассказывает о том, как человек (и притом почти всегда не один) мыслит, чувствует, действует.
Следовательно, природа образа здесь совершенно иная.
Даже если актер на сцене воплощает в себе образ одного персонажа, то есть [части] художественного произведения, и стремится к нахождению правильного места [своего образа] в системе образов, раскрывающих идею произведения, то чтец должен воплотить в себе систему образов и таким путем раскрыть идею своего произведения. Это обстоятельство предопределяет коренное различие между чтецом и актером».[52]52
Мастера художественного слова. ЛО ВТО. Л., 1938 г., стр. 56
[Закрыть]
На этом примере мы видим, с каким трудом пробивает ростки тенденция рассказа. Нет никакого сомнения в том, что главная позиция Комаровской в изложенной ею концепции – это утверждение принципов рассказа. «Чтец не “ведет себя”, подобно актеру, а лишь [рассказывает]» (подчеркнуто мной – Н. Г.)
Правда, в сравнении с театральной образностью, она приходит к выводу о том, что чтец, то есть рассказчик, несет в себе не один, а целую систему образов.
Иначе говоря, утверждая существующие различия между чтецом и актером, Комаровская находится на средней позиции между искусством рассказа и театром одного актера.
И это происходит потому, что, утверждая принцип рассказа, она, как и многие другие чтецы, не пытается выяснить специфику рассказа. Определяя же различие между чтецом и актером в том, что искусство актера основано на [сценическом поведении], а искусство чтеца – на рассказе, она не замечает того, что [рассказ – это тоже поведение]. И если чтец ведет себя как рассказчик, он отражает жизненное поведение рассказывающего человека.
Другим примером того, как реальность обстоятельств выступления чтеца приводит к полному отказу от образа рассказчика, может являться концепция Е. И. Тиме.
«Актер в костюме и гриме старается перевоплотиться в образ до конца и общается со зрителем от лица своего образа, вместе со своими партнерами осуществляя спектакль. Чтец общается со зрителем от лица самого себя и, говоря о герое или о каких либо событиях, берет зрителя в соучастники осуществления своих задач, творит свой “спектакль” вместе со зрителем».[53]53
Там же, стр. 50
[Закрыть]
Приведу еще один из наиболее ярких примеров решения проблемы творческого «я» чтеца с преобладающим учетом реальности обстоятельств его выступления.
Вот что по этому поводу говорил в своем докладе на творческом вечере Д. Н. Журавлева 9 декабря 1937 года в ВТО в Москве известный искусствовед, доктор филологических наук, профессор С. И. Дурылин.
«Первое правило, которое должно быть у каждого: настоящий художник ценится и определяется не по тому, что он делает, а по тому, что он не делает.
Теоретически говоря – можно играть Гамлета и Отелло несравненно сильнее, чем играл Сальвини, но право на выступление в Гамлете и Отелло принадлежит тому, кто уже знает, что он не должен делать на сцене, играя Гамлета, от чего он должен воздержаться, выступая в Отелло.
И вот основное свойство художника, о котором сейчас идет речь – Журавлева – заключается в том, что он с необыкновенной строгостью, с суровостью к себе выдерживает это правило.
Он актер, но, идя на эстраду, он отказывается от множества элементов искусства актера. В самом деле, перед нами через несколько минут пройдет Журавлев, он станет читать отрывки из “Войны и мира”, – кто же он, чье же это ”я”, которое будет держать нас в художественном плену несколько минут? Кто это? Толстой? Или это может быть Петя Ростов, который появляется в этом отрывке? Чью личность будет изображать здесь Журавлев? Чье ”я” будет говорить с нами? От решения этого вопроса зависит основное решение проблемы чтеца актера.
Если бы он играл Петю Ростова, конечно, он говорил бы и действовал бы как Петя Ростов,
Но кто он, который выйдет сюда и будет говорить?
Я приведу один пример. Представьте себе, что за этот рояль сядет некий пианист и будет играть мазурку Шопена. И вдруг он станет в это же время изображать нам польского пана, который с великолепными жестами и движениями проходит мазурку по залу.
Можно другой вариант взять: представьте себе, что пианист возьмется изображать не польского пана, а Шопена, придаст своим глазам, своим движениям изящную томность: Шопен скоро собирается умереть от чахотки и влюблен в Жорж Санд (музыка написана в эпоху их любовной связи на Болеарских островах). И пианист, играя музыку Шопена, представляет Шопена.
Совершенно несомненно, что подобное явление в области пианизма нестерпимо. Такого пианиста, конечно, мы встретим иронической улыбкой.
Это потому что он не сможет взять на себя ”я” Шопена и польского пана, танцующего эту мазурку, – у него есть другое ”я” просто исполнителя этой мазурки, исполнителя, который нам дает ее звучание. Но если б этот пианист, изображая польского пана явился бы еще с какими-нибудь аксессуарами своего панства, если б он закрутил свой ус, наклеенный на лицо, или этот пианист представлял Шопена, надел бы парик из тонких и мягких волос и стал бы в этом парике играть музыку Шопена, – это была бы величайшая нелепость, смещение двух областей искусства и явное глумление над Шопеном.
А как раз подобный прием употребляет целый ряд чтецов, потому что они не знают, что они не нашли настоящего ”я”, ”я” чтеца-исполнителя, и хотят взять на себя ”я”, которое им безусловно не принадлежит, а принадлежит актеру на сцене, но не чтецу на эстраде…
…Слово-это единственное орудие чтеца. Слово у чтеца – и движение, и жест, и мимика».[54]54
Главный архив. Фонд 641
[Закрыть]
Мы видим, что Дурылин выступает против двух принципов решения образа исполнителя:
1. Против утверждаемых театром одного актера попыток изображения исполнителем содержания своего повествования.
2. Против образа рассказчика, действующего в реальных обстоятельствах.
Несмотря на то, что Дурылин проводит аналогию между творчеством чтеца и музыканта, то есть между искусствами, имеющими специфические отличия, его аргументация вполне убедительна.
Но рассмотрим эти тезисы раздельно.
1. Отрицая изображение чтецом содержания повествования, в своем следующем докладе, прочитанном через несколько месяцев после анализируемого нами выступления, он говорил:
«Принято (и это имеет успех) превращать эстраду в театр одного актера. Такой актер играет все роли. Он мог бы выпустить афишу любой пьесы или любого отрывка из любого произведения. И на этой афише, обозначив действующих лиц, после каждой из них написать свою фамилию, наконец, еще раз и так много раз указывать свою фамилию. Но проследите метод работы таких (их очень много и в центре и на периферии) художников эстрадного театра. Они всегда нуждаются во всем, что дает обычный театр. Они, правда, не могут потребовать декорации, но они требуют соответствующей меблировки. И эта меблировка, тот или иной стол, покрытый той или иной скатертью, та или иная расстановка кресел и каких именно кресел, таких, а не таких-то, – и будет перенесением обстановки театра на эстраду. Они потребуют сложного арсенала бутафории, много различных предметов, которые им нужно обыгрывать в их театре одного актера. Наконец, сам костюм, одеяние этих артистов, будет приноровлено очень строго к тому, что они будут исполнять. В этом одеянии будет дана костюмировка, соответствующая тому или иному приему.
…Артисты типа театра одного актера постоянно идут к определенному виду трансформации (для того, чтобы быть последовательными, им нужно дойти до искусства трансформизма, до умения мимолетно переодеваться, изменять свою физиономию и делать 100 явлений в 100 разных масках)».[55]55
Москва. Главный архив, фонд 641, Ед. хр.419, лист № 85–86, Обсуждение творческого метода И. Ильинского
[Закрыть]
Вряд ли нужно что-нибудь еще добавлять к проведенной Дурылиным критике решения образа исполнителя театром одного актера.
2. Не менее убедительна и вторая часть его критики, то есть решение образа рассказчика как образа актера, с абсолютной конкретизацией этого образа, действующего в реальных условиях выступления чтеца и тем более подчеркнутого средствами внешней театральной выразительности. Однако, нельзя не заметить и другое.
А именно, что пытаясь решить проблему творческого «я» чтеца, действующего в реальных обстоятельствах, реального общения со слушающими его зрителями, ни Дурылин, ни другие теоретики чтецкого искусства, придерживающиеся данной позиции, ничего не могут предложить позитивного, кроме признания условности этого творческого «я» чтеца или того, что это не образ, а сам чтец.
А признание условности этого условного «я» чтеца или полный отказ от образности неминуемо ведет к полному ограничению всех изобразительно-выразительных средств чтеца, к утверждению того, что «…слово это единственное орудие чтеца», что «слово у чтеца – и движение, и жест, и мимика», то есть ведет к тому самому ограничению, против которого с такой страстностью выступал основатель этого жанра A.Я. Закушняк.
Но ведь существует и другой путь, путь не ограничения, не отбрасывания всего, что связано с существующими противоречиями, а поиск разрешения этих противоречий через утверждение новых художественных форм. И сам Дурылин говорит в этом своем докладе о необходимости [решения] вопроса творческого «я» чтеца.
Значит, можно все же искать решение не только в отказе от художественности этого «я», но и в поиске гармонического решения его художественности.
Разве в приведенной аналогии чтеца с пианистом полностью исчерпаны все возможные варианты? Думается, что нет. Правда, как я уже говорил, эта аналогия не совсем точна. Конечно, если ставить задачу как-то образно приблизить музыканта к композитору, в процессе непосредственного восприятия его слушателями, то мы нарушаем одно из основных свойств этого искусства и приходим к абсурду.
Искусство музыканта имеет только звуковой ряд выразительности. Зрительское восприятие игры музыканта на своем музыкальном инструменте не имеет художественности воздействия на слушающего, хотя и может представлять определенный интерес для наблюдения.
Но если мы внимательно следим за музыкантом, то это даже мешает образности музыкального восприятия.
Другое дело – рассказывающий человек. Ведь речь не ограничивается словом. Рассказывая, человек говорит всем своим существом, словом, мимикой, пантомимикой, а потому зрительское восприятие рассказывающего может либо усиливать впечатление от его речи, либо мешать этому впечатлению. И многие чтецы это хорошо понимают.
Поэтому, отказ от внешней выразительности никак не может считаться решением этой проблемы, ибо как бы чтец ни отказывался от всех средств выразительности, «считая, что на сцене надо стоять столбом», он все равно воздействует на зрителя своей выразительностью, хотя бы это и была выразительность столба.
Хотя аналогия между чтецом и пианистом не совсем точна, но даже в ней есть варианты, где внешняя выразительность пианиста, играющего от лица Шопена, может быть решена таким образом, что это не только не вызовет нашей иронической улыбки, но и обогатит наше восприятие данного музыкального произведения.
Думается, что если перевоплощение актера-пианиста будет связано не только с задачей исполнения одной лишь музыки, но и с показом отрезка жизни Шопена, в котором он исполняет эту музыку, то это не испортит нашего впечатления от образного исполнения данного музыкального произведения. Обоснованность такого предположения подтверждается огромным количеством вышедших кинофильмов, посвященных биографиям композиторов, в каждом из которых мы видим не только жизнь этих композиторов, но и их, исполняющих свои сочинения.
Правда, здесь уже действует не только исполнительское мастерство пианиста, но и актерское творчество этого исполнителя, и драматургия, и весь комплекс искусств, объединяемых театром.
Когда Дурылин предлагает представить нам пианиста, изображающего Шопена, вышедшего на нашу современную эстраду, как это делали некоторые чтецы, полностью конкретизируя образ рассказчика, действующего в реальных обстоятельствах концерта, то здесь действительно получается полный абсурд.
Но ведь можно идти и другим путем. Если это уже не пианист, а актер и пианист одновременно, и если нам даются предлагаемые обстоятельства (любовь Шопена и Жорж Санд во время их пребывания на Болеарских островах, болезнь Шопена, сознание близкой смерти) и слушающие этого пианиста партнеры, если на основании этого материала мы создадим спектакль, или хотя бы одну сцену, в которой Шопен исполняет для Жорж Санд только что сочиненную им музыку, и в которой помимо этой музыки будут театрально раскрыты отношения этих людей в данном конкретном событии, думается, от этого музыка Шопена не пострадает. Правда, это уже будет не обычное выступление пианиста – это будет другой вид искусства.
Но если для пианизма это совершенно не обязательный, но тем не менее допустимый вариант, то в искусстве рассказа данные соотношения предстают в совершенно ином свете. Конечно, и здесь они не обязательны. Конечно, исполнитель может читать литературное произведение, не стремясь к конкретизации образа рассказывающего человека, особенно если он обращается непосредственно к слушающему его зрителю. И, больше того, конкретизация образа рассказчика при непосредственном обращении к зрителю, действительно недопустима.
Но если перед нами возникает вопрос о том, кто же это творческое «я», произносящее данный текст, и если мы хотим ответить на этот вопрос как художники, то мы должны признать, что это «я» не исполнительское «я» чтеца, а образ, причем не просто образ, а образ рассказчика.
А раз это образ, образ рассказывающего человека, он, безусловно, должен быть конкретизирован, а для того, чтобы конкретизировать этот образ, мы должны поставить его в предлагаемые обстоятельства.
Поставить же в предлагаемые обстоятельства образ рассказчика, это значит связать его со слушающим партнером, с которым он совместно действует в конкретных обстоятельствах места и времени действия, связан определенными отношениями и при которых данный рассказ имеет важнейшее значение в поведении, в жизни, в отношениях этих людей.
Однако, совершенно естественно, что если мы все это решим и найдем жизненно обоснованную и художественно оправданную форму воплощения этого решения, мы уйдем от современной формы чтецкого искусства и придем к совершенно новому жанру театра рассказа, то есть к тому жанру, к которому пришел А. Я. Закушняк в 1930 году, за два месяца до своей смерти.
Но естественно, конечно, и другое, что вывод, к которому пришел А. Я. Закушняк, мог родиться только в процессе художественной практики, в практическом столкновении исполнителя с противоречиями эстетически незавершенной формы чтецкого искусства, только в процессе образных, художественных форм поиска разрешения этих противоречий.
Логическая сторона и эстетическая мотивировка данного вывода есть лишь теоретическая ее проверка и развитие.
Отсюда следует, что выводы, которые вытекают из разрешения противоречий чтецкого искусства и конкретных принципов его мастеров вовсе не должны и не могут навязываться этим мастерам или чтецкому искусству в целом. Если кто из его мастеров увлечется этими выводами, он, конечно, примет их для своей работы. Но в целом эти выводы являются не попыткой что-то разрушить из существующего, а теоретическим фундаментом поиска нового.