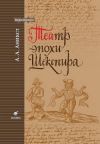Текст книги "Театр рассказа"

Автор книги: Николай Говоров
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Вот я слушаю концерт Журавлева, исполняющего «Кармен» Мериме и «вижу» все, что происходит на сцене по принципам нового жанра Закушняка, и все ярко преображается.
И я уже вижу не Журавлева, а двух пожилых археологов, спорящих о местонахождении поля битвы Юлия Цезаря. Один утверждает, что оно находится близ Монты, другой, что его надо искать близ Монтильи, и приводит в доказательство сведения, приобретенные им в библиотеке герцога Осунского и подтвердившиеся его личными изысканиями во время экспедиции по Испании. Вспоминая об экспедиции, он рассказывает о любопытнейших встречах с контрабандистом Хосе Новарро и цыганкой Карменситой, о том какие пережил он приключения и как, возвращаясь во Францию, узнал, что Хосе схвачен и приговорен к смерти. Конец акта. И вот на сцене тюрьма. На каменных плитах лежит Хосе. Темно. И только слабый свет светильника из тюремного коридора сквозь железные переплеты маленького тюремного окошечка проникает в камеру и квадратиками освещает лежащего. Слышны шаги, звон ключей и скрип открывающейся тяжелой железной двери. В сопровождении монаха и тюремной стражи входит путешественник археолог. Его оставляют наедине с Хосе. Трудная беседа. Хосе безразличен, ему не хочется ни о чем говорить. Но вот маленькая деталь: археолог обещает заехать в селение, где живет мать осужденного, и передать ей образок, и «лед сломан». Последний раз, а может быть и впервые в жизни, Хосе открывает свою душу и рассказывает о себе, о своем стремлении к честной порядочной жизни, о своей искренней чистой любви, приведшей его к гибели.
Какие огромные возможности открываются для актерского творчества в этом жанре!
И чем больше я рисую в своем воображении спектакль за спектаклем, тем все яснее становится роль партнера. Больше того, я уже не могу представить возможности добиться без партнера абсолютной правды рассказа.
Я начинаю внимательно следить за тем, как себя ведут рассказчики в жизни, и какую роль в жизненном рассказе играют слушающие рассказы люди.
И тут я замечаю, что обычный жизненный рассказ, непроизвольно возникающий в беседах, ничем специально не подготовленный, не отработанный исполнительской техникой, оказывается иногда в приемах художественной выразительности намного богаче художественных приемов чтецов.
При этом каждый выразительный прием чтецкого искусства вызывает бурю различных споров. И эти споры возникают в силу неубедительности многих из этих приемов. В жизненном рассказе приемы во много раз разнообразнее, но ни у кого не возникает сомнений в возможности применения этих приемов. Почему же чтецы не пользуются всеми этими приемами жизненного рассказа? Да потому что они возникают в процессе прямого взаимного общения, собеседования со слушающими рассказчиков людьми. Потому что все эти приемы направлены на конкретного человека, связаны с его поведением и восприятием рассказа. Роль слушающего собеседника в жизненном рассказе ничуть не меньше, чем самого рассказчика.
Разнообразие применяемых в жизни приемов рассказа зависит не только от самого содержания рассказываемого, но и от условий, от среды рассказа. В жизни ни один человек даже об одном и том же не рассказывает одинаково. Каждый рассказчик в зависимости от условий рассказа, от того, кому ведется рассказ, от того, чем в это время занят и рассказчик, и слушающий его человек, и от того, как его слушают, прибегает к самым разным приемам выразительности. По-разному начинаются и по-разному завершаются рассказы.
Мне всегда очень нравилось, как начинает свои рассказы Журавлев, особенно, когда тексту рассказа предшествует эпиграф, как например, в «Пиковой даме» Пушкина. Сколько артистического обаяния в этом торжественном, чуть-чуть удивленном, глубоко сосредоточенном и предельно четком начале.
Но сравнивая это начало с жизненным началом рассказа, я вдруг стал замечать, что это очень красивый, мастерски найденный и до предела отточенный, но все же чисто формальный прием, рассчитанный на то, чтобы сразу же привлечь внимание зрителей. И формальность этого, как и всех других приемов, в сольном исполнении совершенно неизбежна, когда чтец находится на сцене один, у него нет никакой возможности достигнуть жизненной естественности и правды начала рассказа.
Больше того, внимательно наблюдая, я стал замечать, что этот нравящийся мне прием Журавлева далеко не во всех случаях органичен, иногда он не сливается с содержанием рассказа. А если ты Журавлева слушаешь не первый десяток раз, то этот прием уже вызывает обратную реакцию. Он мешает восприятию начала рассказа. Слушая новые работы Журавлева, я часто ловлю себя на том, что не схватываю содержание их начала.
Словом, чем больше я занимался наблюдением за жизненным рассказом и сопоставлял его с лучшими работами искусства живого слова, тем больше я приходил к выводу, что приход Закушняка к новому жанру рассказа, основанному на общении рассказчика с партнером, был действительно не только целесообразен и логически оправдан, но и являлся единственно реальным, единственно возможным путем дальнейшего развития искусства живого слова.
Этот новый жанр искусства рассказа (правильнее всего назвать его театром рассказа), как будет показано дальше, разрешает все противоречия процесса эстетического и психологического формирования развития современного этапа искусства живого слова и в его художественной практике, и в его теории, а тем самым в данном жанре достигается высшая на современном уровне развития искусства живого слова ступень эстетического и психологического формирования этого искусства.
Иначе можно сказать, что в этом жанре искусство исполнения повествовательных литературных произведений средствами устного рассказа достигает полной театрально-эстетической и психологической завершенности, т. е. это искусство обретает совершенно определенные художественные свойства, полностью отвечающие общим эстетическим закономерностям всего искусства с одной стороны, и психологическим критериям связи данного искусства с конкретными явлениями реальной действительности, с другой стороны.
Обретаемая связь между устным исполнением повествовательной литературы с жизненным рассказом, вернее, подчинение художественных приемов исполнения психологическим закономерностям устного жизненного рассказа приводит, или вернее открывает, возможности разрешения всех споров о том, какими приемами следует пользоваться рассказчику, что он может и чего не может делать, определяет цель, к чему он должен стремиться в достижении жизненной правды своего искусства.
Это, конечно, не значит, что приход Закушняка к данному жанру разрешил все противоречия искусства живого слова. С утверждением идеи жанра театра рассказа завязывается новый и такой сложный клубок внутренних противоречий и теории, и практики этого искусства, каких еще не было в искусстве живого слова. Но эти противоречия относятся уже не к процессу формирования жанра, не к выяснению того, что же это за искусство, а являются преимущественно методологическими противоречиями его воплощения.
К тому же резкое различие художественной формы театра рассказа в сравнении с сольными жанрами искусства живого слова приводит к наивысшей степени обостренности противоречий между этим жанром, с одной стороны, и театром рассказа, с другой.
Достижение эстетической завершенности процесса внутреннего формирования художественных принципов развития искусства живого слова в жанре театра рассказа совершенно не означает прекращение художественного совершенствования и развития этого искусства.
Напротив, театр рассказа открывает возможности появления безграничного многообразия художественных форм, ибо сам жизненный рассказ, на закономерности которого опирается этот жанр, беспредельно многообразен и в самой действительности постоянно и бесконечно развивается.
Однако все это многообразие художественных форм укладывается в единство эстетических и психологических закономерностей отношения данного жанра искусства живого слова к реальной действительности, в единство общих закономерностей данного жанра с общими закономерностями всего существующего искусства.
Каким же конкретно образом данное открытие Закушняка разрешает противоречия эстетического формирования искусства живого слова и почему именно в нем достигается высшая ступень эстетической завершенности этого искусства, мы рассмотрим в следующих главах данного очерка.
Но все эти возможности, все преимущества нового сценического жанра театра рассказа не лежат на поверхности, они очень глубоко скрыты. И для того, чтобы выявить их, необходимо не только изучение жизненного рассказа, но и закономерностей развития искусства живого слова и всего театрального искусства в целом.
Для этого необходимо выработать новую систему художественного мышления, новый характер режиссерского видения.
Для раскрытия потенциальных возможностей нового театрального жанра, а следовательно, новых возможностей театрального искусства, необходимо отказаться от обычных, ставших уже привычными и потому кажущихся бесспорными, театральных представлений и опираться в творческом воображении и в процессе художественного творчества не на художественные впечатления от чтецкого и драматического искусства, а на жизненные наблюдения, причем таких явлений, которые не получили еще отражения в театральном искусстве и которые поэтому очень трудно наблюдаются в жизни.
А для того, чтобы выработать наблюдательность, для того, чтобы, наблюдая, не только смотреть, но и видеть наблюдаемое, для того, чтобы понимать увиденное, необходимо тренировать свою наблюдательность обогащением себя знаниями наук, изучающих данные жизненные явления. А без всего этого идея нового жанра театра рассказа является пустым звуком, чепухой, идеей фикс.
Поэтому поверхностное знакомство с идеей Закушняка, отсутствие необходимого для понимания этой идеи художественного опыта, накопленности жизненных наблюдений за рассказчицкой деятельностью людей и научно-теоретического понимания рассказчицкой деятельности вызывает только удивление, недоумение и разочарование. Не случайно поэтому большинство из тех людей, с кем общался А. Я. Закушняк в последние дни своей жизни и с кем делился своими последними творческими замыслами, с крайней недоверчивостью относились к этому последнему открытию Закушняка.
Надо полагать, что именно поэтому Е. Гардт в своей статье «Силуэт мастера», говоря о последнем открытии Закушняка, умолчала о самом главном – о слушающих рассказчика партнерах. И это понятно, ибо это главное столь необычно и так противоречит и чтецкому искусству, и той форме, в которой работал Закушняк, что вряд ли бы подробный рассказ об этом открытии Закушняка был бы положительно встречен чтецами.
Вот один из примеров того, как реагировали на это последнее его открытие близкие ему люди.
В воспоминаниях об А. Я. Закушняке доцента филологических наук Льва Рудольфовича Когана, любезно предоставленных мне его супругой, в которых он рассказывает о встречах с Закушняком, перед самой его смертью.
Александр Яковлевич в беседе после своего последнего концерта, рассказывал: «А теперь я задумал совершенно другое. Давно уже мечтаю об этом – о сильной и драматической вещи. И я уже закончил подготовку текста «Тиля Уленшпигеля» де-Костера. Это будет инсценировка. Читать буду я и жена, в костюмах».
Он был страшно увлечен этой мыслью, но она до такой степени расходилась со всей его предыдущей практикой, что я нашел: мысль эта – вряд ли удачная, внушена женой».
Да, идея этого жанра не поражает воображение яркостью или особой новизной театральных форм. Для того, чтобы понять ее, нужно познать отражаемое этим жанром жизненное явление. А так как само явление это для нас очень обыденно и привычно, и так как оно проходит ежечасно перед нашим вниманием и не фиксируется им, то мы не понимаем всей объективной сложности этого явления, не понимаем того, какое значение имеет оно в нашей жизни, и следовательно, не представляем, какой переворот в развитии искусства живого слова и театра может осуществиться в процессе художественного отражения данного жизненного явления.
Вот почему идея данного жанра, вынашиваемая таким величайшим мастером искусства живого слова, каким был Александр Яковлевич Закушняк, и явившаяся завершением его экспериментальной деятельности, не встретила доверия даже у людей, любивших Закушняка и высоко ценивших его творчество.
Последнее открытие А. Я. Закушняка, тот логический вывод, к которому он пришел, открывает возможность понять общие эстетические закономерности всего развития искусства живого слова в его связи с реальной действительностью и заново пересмотреть отношение искусства живого слова к театру.
Эстетическая наука рассматривает искусство как особую форму общественного сознания и человеческой деятельности, образно отражающую действительность через ее художественное освоение, то есть ее познание и моделирование конкретными произведениями искусства.
Эта общая закономерность относится ко всему искусству в целом. Однако, вполне понятно, что каждый отдельный вид искусства, в силу своей специфики, выражает эту закономерность по-своему, отлично от других искусств.
Этими особенностями, отличающими одно искусство от другого, является то, что разные искусства, в силу различий их художественного языка, отражают разные стороны действительности и располагают различными техническими средствами отражения действительности.
Следовательно, для того, чтобы определить специфику искусства живого слова, необходимо установить, какие стороны действительности отражает это искусство, и какими средствами образного отражения действительности оно располагает.
Выше мы установили, что искусство живого слова имеет три совершенно разных по своим закономерностям рода:
1) устное народное творчество и импровизационное искусство рассказа;
2) чтение литературных произведений с листа;
3) устное исполнение литературных произведений.
Нет никакого сомнения в том, что эстетически наиболее сложной, основной и определяющей современной формой искусства живого слова является его третий род. Поэтому главное внимание в анализе закономерностей отношения искусства живого слова к действительности должно быть уделено именно этому роду, этой последней его ветви.
При анализе закономерностей данного рода искусства живого слова мы будем пользоваться тем же определением, которым это искусство принято называть сейчас, то есть – чтецкое искусство.
Итак, для того, чтобы определить специфику чтецкого искусства, необходимо прежде всего установить, какие стороны действительности отражает чтецкое искусство.
Чтецкое искусство – это, прежде всего, искусство исполнения литературных произведений. Данное положение бесспорно. Оно подтверждается самой направленностью этого искусства, и согласуется с подавляющим большинством его определений.[39]39
Р. Э. Озаровского 1896 г. («Вопросы выразительного чтения»); В. Ф. Виноградова 1908 г. («Литературный вечер»); Г. В. Артоболевского 1938 г. (Гл. архив, фонд 641, ед. хр.392); Н. Ю. Верховского («Книга о чтецах»), 1950 г. и т. п.
[Закрыть]
Следовательно, можно сделать некий предварительный вывод о том, что оно, видимо, отражает те стороны действительности, которые отражаются литературными произведениями.
Однако, как известно, помимо чтецкого искусства на тех же самых принципах исполнения литературных произведений основывается и другое, более древнее, чем данный род искусства живого слова, и более развитое искусство, а именно – драматическое искусство.
Драматическое искусство так же отражает те стороны действительности, которые уже отражены материалом его литературных произведений. Это дает нам основание сделать вывод о том, что существует некоторая общность между чтецким и драматическим искусствами. Оба искусства являются исполнительскими и оба исполняют литературные произведения.
Однако, несомненно, что помимо общности есть и какие-то различия между чтецким и драматическим искусством, иначе вряд ли бы существовало два искусства.
Где же следует искать эти различия? Первое, что может броситься в глаза, это то, что драматическое искусство является коллективным, а чтецкое сольным. Правда, это различие относительно, или вернее не совсем точно выражено, ибо мы уже знаем о том, что в чтецком искусстве существовало немало коллективных жанров (театры хоровой декламации, литературные театры, театры «пластической» декламации и т. д.).
Вместе с тем, действительно здесь есть одно несомненное различие. А именно: в драматическом искусстве всегда литературные произведения исполняются целым актерским коллективом, в чтецком искусстве литературное произведение может исполняться и преимущественно исполняется одним актером, то есть чтецом.
Попробуем установить причину данного различия. Посмотрим, нет ли какой-нибудь связи этого различия с литературным материалом этих искусств. Иначе говоря, следует выяснить, есть ли различия в исполняемом этими искусствами литературном материале.
При ответе на этот вопрос мы сталкиваемся с одним, весьма любопытным, и даже до некоторой степени парадоксальным явлением.
С одной стороны, мы действительно легко обнаруживаем различие литературных материалов этих искусств. Нет необходимости доказывать, что литературным материалом драматического искусства является драма, а материалом чтецкого искусства преимущественно является эпос и лирика, то есть повествовательная литература (проза и поэзия). Но, вместе с тем, известно, что драматическое искусство обращается к эпосу, а чтецкое к драме. Казалось бы, что различия нет.
Однако в тех случаях, когда драматическое искусство обращается к повествовательной литературе, оно непременно ее инсценирует, то есть переделывает в драму. В чистом виде драматическое искусство повествовательную литературу не воплощает.
Но когда чтец обращается к драме, он оставляет ее такой, какая она есть. Следовательно, различие в литературной материале все же существует, хотя и не носит противоположного характера.
Итак, в нашем анализе различий чтецкого и драматического искусства мы уже получили две бесспорных посылки:
1. Драматическое искусство пользуется только коллективными приемами исполнения литературных произведений (если не считать такой жанр, как театр одного актера, который пока еще не известно, к какому из искусств следует отнести: к чтецкому или драматическому, и о котором мы еще будем ниже говорить).
Чтецкое искусство может пользоваться и сольными, и коллективными приемами исполнения.
2. Драматическое искусство исполняет только драматические произведения, чтецкое искусство никаких ограничений не имеет: оно может исполнять и повествовательные, и драматические произведения, то есть и эпос, и лирику, и драму.
Из этих полученных нами посылок напрашивается совершенно определенный вывод о том, что, видимо, существует связь между коллективной формой исполнения литературного материала драматическим искусством и спецификой драматической литературы. Поэтому, для того, чтобы выяснить, почему чтец может исполнять любые произведения, а драматические искусство ограничено только драмой – следует установить, в чем состоит различие, с исполнительской точки зрения, между драматической и недраматической, то есть повествовательной литературой.
Драма отличается от прочей литературы тем, что она специально создается для театра как материал для [непосредственного сценического изображения описываемых в ней событий]. Это особое предназначение драмы определяет ее диалогическую форму. Именно диалогическая форма дает возможность драматическому искусству исполнять этот материал в лицах, то есть изображать изложенные в нем события. Повествовательная литература как бы рассказывает об описываемых событиях, что и дает возможность одному человеку, чтецу, исполнять это произведение без всяких его переделок.
Исходя из сказанного, можно сделать еще один предварительный вывод о том, что различие между драматическим и чтецким искусством (когда оно не обращается к драме) заключается в том, что в драматическом искусстве [изображаются] события, изложенные в литературном материале, а чтец только [рассказывает, только повествует] о них.
А это означает, что существует различие в [сценическом времени изображаемых и описываемых событий] в данных искусствах.
Изображение события драматическим искусством передает его как бы происходящим в настоящем времени.
Описание события чтецом, рассказ о событии передает его как бы в прошедшем времени.
Диалогическая форма драмы рассчитанная на непосредственное изображение событий актерским коллективом, создает условия для передачи описываемых литературным произведением событий в настоящем времени.
Из этого следует, что инсценирование повествования, переделка его в драму, это не только техническая операция разбивки прозаического текста на диалоги, но и определенная подготовка к перенесению описываемые событий из прошедшего времени в настоящее.
Именно поэтому, в процессе инсценировки полностью уничтожается, так называемый, авторский текст (либо он передается действующим лицам, либо выбрасывается совсем), а, с другой стороны, вводится дополнительный текст для действующих лиц, который дает возможность устранить фрагментарность описания событий и дать его как бы в полном развертывании.
Всякое не драматическое произведение, повествуя о событии, передавая его в прошедшем времени, то есть отражая это событие через повествователя, через рассказчика, передает не все событие, а только те его стороны, которые зафиксированы сознанием рассказчика, передает его не в той последовательности, в какой событие объективно развивается, а в той, в какой понят этот разворот событий рассказчиком.
Понимание рассказчиком события, им описываемого, есть своего рода систематизация впечатления от данного события со всем личным жизненным опытом данного человека. Повествование, рассказ никогда не передают событие в его «чистом» виде. Во всяком рассказе повествуемое событие раскрывается через рассказчика, сумевшего увидеть и понять (или не понять) им повествуемое.
Инсценирование полностью уничтожает всю эту повествовательною специфику. Не случайно поэтому многие авторы, режиссеры и актеры являются противниками инсценировок, считая, что инсценировка, убивая специфику повествуемого произведения, часто уничтожает многие из его художественных достоинств.
Если драматическое искусство вынуждено инсценировать всякое исполняемое им повествовательное произведение, то чтец оказывается в состоянии исполнять повествовательное произведение в неинсценированном виде именно в силу [совпадения повествовательной специфики литературных произведений с речевыми, то есть повествовательными приемами чтецкого исполнения этих произведений].
Итак, исходя из различий драматической и повествовательной литературы, мы получили некоторые предварительные данные об имеющихся различиях драматического и чтецкого искусства. Причем, полученный нами вывод о совпадении специфики повествовательной литературы с чтецкими приемами исполнения можно рассматривать и в обратной последовательности, без всякого нарушения логики нашего анализа, а именно: поскольку чтец может исполнять повествовательные литературные произведения без всякого их инсценирования, то есть в тех же самых выразительно-изобразительных приемах, в которых воплощены эти произведения, следовательно, чтецкое искусство располагает приемами устного повествования, то есть рассказа.
Таковы некоторые предварительные выводы, которые мы можем сделать из анализа литературного материала чтецкого и драматического искусства и той особенности, что чтецкое искусство обладает некоторыми качествами, которых не имеет драматическое искусство, а именно, что оно может исполнять повествовательную литературу в неинсценированном виде.
Но пока мы не выяснили, почему чтецкое искусство обладает способностью исполнять и драматическую литературу в неизменном виде, мы не можем считать выявленную нами особенность как главную закономерность чтецкого искусства.
Здесь требуется большая осторожность, тем более потому, что неограниченные репертуарные возможности, способность чтецкого искусства передавать драматические произведения без всяких литературных переделок, стали причиной того, что некоторые его представители считают, что это искусство либо вообще может заменить собой театр, либо в какой-то мере соперничать с ним, либо независимо от существующих форм театрального искусства утверждать свой собственный «театр одного актера».
Идея театра одного актера, особенно так, как она выдвинута Яхонтовым, идет в разрез с той закономерностью, которую мы вывели из предварительного анализа основной части литературного материала, чтецкого искусства.
Яхонтов, как и некоторые другие представители этого искусства, считал, что он не рассказывает, не повествует, а [играет] события, отраженные литературным произведением.
И, действительно, если чтецкое искусство располагает не только выявленными нами, но и теми закономерностями, которыми обладает драматическое искусство, следовательно оно действительно является каким-то универсальным искусством и, уж во всяком случае, куда более совершенным, чем драматическое искусство. Ну, еще бы, если драматическое искусство может создавать спектакли только на драматическом литературном материале, а чтецкое на любом, включая и драму, оно, конечно, более совершенно.
Проверим, может ли чтец играть события, которые повествуются в исполняемом им произведении, и действительно ли он играет их при исполнении драматического материала.
Если исходить из субъективных позиций представителей театра одного актера, идея которого возникла в середине XIX века и получила распространение в Англии и во Франции, и в конце XIX века проникла в Россию, а в первые десятилетия XX века получила довольно широкое распространение, то нужно допустить, что такие принципы вполне возможны. Во всяком случае, сам исполнитель убежден в том, что он не читает, не рассказывает, а играет события повествуемого произведения, либо даже текст этого произведения (как скажем, яхонтовское обыгрывание стиха игрой в мяч и его другие приемы).
Но для того, чтобы выяснить, что происходит в действительности, недостаточно исходить из субъективной устремленности исполнителя. Необходимо проанализировать объективный результат его творчества, а для этого следует рассмотреть данный художественный результат с точки зрения зрительского восприятия произведения искусства. Как воспринимает зритель изображаемые актером события? Только тогда мы можем считать творческий замысел художника воплощенным в действительность, когда субъективная устремленность художника воплощена в объективно выполненном им произведении искусства.
Поверить же в непосредственность изображения события мы можем только тогда, когда происходящее соответствует правде действительности, а это возможно только при условии, если система средств художественного языка искусства соответствует изображаемым или выражаемым явлениям и законам отражаемого им материального мира. Для того, чтобы поверить в то, что на сцене действительно в настоящее время разворачивается театрально изображаемое событие, мы должны видеть его.
Если мы видим на сцене двух людей Арбенина и Нину, выясняющих свои отношения, связанные с пропажей браслета, у нас ни на минуту не возникает сомнения в том, что мы действительно присутствием при данном разворачивающемся перед нами событии, что мы наблюдаем событие, происходящее в настоящее время. Мы, конечно, понимаем, что это не подлинное событие, что это произведение театрального искусства, которое отражает действительность, то есть то, что перед нами не реальная действительность, а эстетическая реальность. Но эта эстетическая реальность разворачивается перед нами в настоящем времени. Поэтому эстетически мы воспринимаем все происходящее как бы возникающим только сейчас, в данный момент времени.
Но если мы видим одного человека, даже, если он мечется по сцене, то воображая себя Ниной, убегающей от Арбенина, то развернувшись, уже считает себя Арбениным догоняющим Нину, объективно мы воспринимаем не Нину и не Арбенина, а одного лишь Яхонтова, который рассказывает о разговоре Арбенина с Ниной, но только почему-то делает это не так, как делают все нормальные люди, а ведет себя словно больной, переживающий галлюцинаторное состояние раздвоения личности.
Конечно, если мы догадываемся, что сам Яхонтов считает, что он то превращается в Арбенина, то становится Ниной и не думая о том, возможно это или нет, начинаем следить за тем, как он себя ведет в том и другом случае, мы действительно проникаем в творческий замысел исполнителя, можем даже судить о том, насколько ярко он это делает, можем восторгаться его мастерством и талантливостью, даже нарисовать в своем воображении картину происходящего, представить себе Нину и Арбенина, и понять все, что происходит между ними, то есть получить определенное эстетическое впечатление и от исполнения и от исполняемого материала, но все равно это впечатление будет не от события, которое произошло на наших глазах, а от рассказа об этом событии, и мы видим не театр, в котором один актер играет всех действующих лиц, а одного чтеца, рассказывающего о всех тех, кого он нам изображает.
В логике нашего анализа возникло одно существенное противоречие. С одной стороны, мы пришли к выводу, что драматическая литература предназначена для непосредственного изображения событий в настоящем времени. С другой стороны, я утверждаю, что чтец исполняющий драматическое произведение, не играет изложенное в нем событие, а рассказывает о нем. Но ведь чтец исполняет это произведение без всяких переделок, никакой деинсценировки он не производит. Как же тогда может получиться, что подготовленный материал для показа событий в настоящем времени без всяких литературных переделок в процессе его исполнения отражает событие в прошедшем времени?
Нелогичность эта только кажущаяся, в действительности же никаких противоречий здесь нет.[40]40
Подробное изложение этого вопроса будет приведено в разделе литературоведческого анализа понятия рассказа
[Закрыть]
Диалогическая форма драматического произведения создает лишь [предпосылки] для возможного изображения событий в настоящем времени. Но эти предпосылки становятся реальностью только тогда, когда это драматическое произведение обретает сценическую жизнь, то есть только в тот момент, когда оно исполняется актерским коллективом и именно в том количественном составе действующих в нем лиц, какое дано автором данного произведения. До тех же пор, пока драматическое произведение не обрело своей сценической жизни, оно содержит в себе лишь [потенцию непосредственного развертывания событий в настоящем времени, но является особой формой повествования, то есть рассказа «о прошлом»], что мы увидим ниже на материале анализа платоновского и аристотелевского определений понятия рассказа.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!