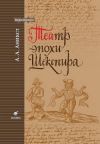Текст книги "Театр рассказа"

Автор книги: Николай Говоров
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но как могут друзья и сторонники Закушняка, его ученики и последователи, стоять на таких позициях – непонятно!
Непонятно, как может Верховский одновременно утверждать, что «вечера интимного чтения» это высоко реалистическое, близкое и родственное МХАТу искусство, возникшее под влиянием народного творчества и тут же говорить о том, что по своей форме, то есть уюту художественного оформления оно близко к реакционному символизму, что Закушняк благодаря тому, что добивался уюта и красоты и благодаря тому, что его вечера посещались буржуазной публикой, только на половину освободился от влияния реакционного символизма.
Характерно, что именно по тем же самым причинам Д. Н. Журавлев, исполняющий сейчас «Дом с мезонином», считающий себя продолжателем творчества Закушняка, отказывается от найденных для этой работы Закушняком приемов выразительности. Когда я расспрашивал Журавлева, почему он не хочет попробовать исполнять эту работа так, как исполнял ее Закушняк, Журавлев в точности повторил аргументацию Верховского.
Совершенно естественно, что в тех исторических условиях, когда уют и располагающая к задушевной беседе атмосфера рассматривались, как проявление буржуазной культуры, Закушняк был вынужден изменить художественную форму своего жанра.
Правда, нет никаких оснований полагать, что Закушняк это делал вопреки убеждениям и в нарушение эстетических закономерностей жанра. Художественная ограниченность предлагаемых обстоятельств рассказов жанра вечеров интимного чтения одной лишь найденной художественной формой действительно требовала поиска нового.
Поэтому искания иных предлагаемых обстоятельств рассказа и переход Закушняка к жанру вечеров рассказа был естественным движением вперед. В этом поиске раскрылись новые закономерности исполнительского искусства литературного рассказа, и вместе с тем продолжалось обострение внутренних противоречий данного жанра.
Главное противоречие перехода Закушняка от жанра «вечеров интимного чтения» к жанру «вечеров рассказа» состояло в том, что жанр вечеров интимного чтения по своим художественно-оформительским принципам, то есть по предлагаемым обстоятельствам, больше располагал к рассказу, чем жанр вечеров рассказа, в то время как в период утверждения жанра вечеров интимного чтения Закушняк исполнительски меньше осознавал принцип рассказа, чем тогда, когда приступил к воплощению жанра вечеров рассказа.
Само определение жанра «вечеров [рассказа]» в сравнении с «вечерами интимного чтения» говорит о возрастающем значении принципа рассказа.
В жанре «вечеров интимного чтения» созданные Закушняком сценические условия тянули его на [рассказ], хотя сам он еще относился к своему жанру как к [чтению] и именно в силу этого отдал известную дань «…внешнему блеску звучащего литературного слова…».[28]28
Верховский Н. Ю. Книга о чтецах, стр. 107
[Закрыть] Жанр «вечеров интимного чтения» представлял собой критический момент единства и борьбы противоположностей основного противоречия искусства живого слова, чтения и рассказа, критический момент временного равновесия сил.
Из этого критического момента Закушняк вышел убежденным рассказчиком, твердо встав на позиции нового. Однако новые условия, новые «предлагаемые обстоятельства» его выступлений требовали проявления большей активности и большей тонкости, виртуозности мастерства чтобы оставаться рассказчиком. Эти обстоятельства не вводили в рассказ, они требовали активного преодоления всего, мешающего рассказу.
Поэтому развитие принципа рассказа в новом жанре Закушняка пошло по линии совершенствования искусства рассказа и создания образа рассказчика.
Образ рассказчика Закушняк раскрывал через конкретные приемы выражения авторского стиля.
А «Умение передать стиль автора… одна из основ мастерства Закушняка», – говорил К. С. Станиславский.[29]29
Гиацинтова С.3. Сборник воспоминаний «О Станиславском», 1948 г., стр. 368
[Закрыть]
«Передачу стиля автора, – говорил Закушняк, – я считаю самым важным и увлекательным в моем искусстве».[30]30
Закушняк. Вечера рассказа, 108
[Закрыть]
Со «стилем автора» в творческом методе Закушняка связаны характер речи, жеста, костюма, «вводных приемов» (то есть бутафории, реквизита, песенок и т. д.), общего оформления сценической площадки, то есть все то, что связано с конкретными чертами образа рассказывающего человека.
Однако, в вечерах рассказа не только сохраняется, но еще более обостряется противоречие между изменяющимися образами рассказчиков и неизменностью «предлагаемых обстоятельств» действия этих образов. Данное противоречие выражалось и в методологии и в эстетических, то есть художественных принципах жанра вечеров рассказа.
Вот как оно проявлялось в методологии.
«Александр Яковлевич, – рассказывает одна из его учениц, В. В. Яблонская, – советовал руководствоваться двумя правдами: правдой, в которую заключены задачи и чувства, идеи и мысли в литературном произведении… и правдой жизни… и приводил всегда пример…
– Вы получили какое-то впечатление от какого-то события, у вас сложилось к нему какое-то отношение. И вот вы ходите у себя дома, желая об этом с кем-то поделиться, и вдруг, каким-то образом вы попали на эстраду».[31]31
Выступление в ВТО в Москве 18 января 1938 года
[Закрыть]
В данном примере мы ясно видим неизбежное для данного жанра противоречие, между жизненно обоснованной, реалистической структурой создания образа рассказчика, основанной на эстетических принципах системы Станиславского, и нелогичностью обоснования предлагаемых обстоятельств рассказа, или вернее, отсутствием такого обоснования.
Это методологическое противоречие сохраняет в себе то основное противоречие жанра рассказа, которое было присуще жанру импровизационного рассказа до Андреева-Бурлака, и которое сохраняется и в творчестве Закушняка, противоречие между художественным образом и реальными обстоятельствами.
Вы получили впечатление, говорит Закушняк, вы ходите у себя дома, желая об этом с кем-то поделиться. Совершенно естественно, что здесь мы имеем дело с той художественной условностью, которая составляет процесс создания сценического образа. Закушняк предлагает рассказчику думать не о чтении, а художественно вообразить, что все им рассказанное было реальным впечатлением рассказчика. Иначе говоря, на материале рассказа найти те жизненные причины, по которым тебе стало известно рассказываемое.
Строго говоря, речь идет об обстоятельствах проведшего времени образа рассказчика, то есть того впечатления, которое он получил, и его потребности поделиться своими впечатлениями с другими. Но обосновывая сам рассказ, Закушняк переводит воображаемый план в план реальный, условное – в безусловное: «и вдруг каким-то образом мы попали на эстраду».
В этом смещении художественного плана в жизненный и выражается противоречие между художественно создаваемым образом и реальными обстоятельствами рассказа.
В силу этого противоречия и того, что исполнялся не импровизационный, а литературный рассказ, решение самого образа рассказчика было не до конца осознанным, то есть речь шла не об определенном человеке, от лица которого ведется рассказ, а о приемах выражения авторского стиля. А это, в свою очередь, приводило к художественной раздвоенности образа рассказчика, особенно при исполнении произведений, содержание которых по времени и месту действия намного удалено от тех реальных обстоятельств, в которых выступает рассказчик.
Поэтому образ, создаваемый Закушняком, с одной стороны, связан с тем, о чем идет повествование, а с другой стороны, связан с теми, кому это повествуется. Все это нашло самое прямое выражение во всех художественных приемах, которыми пользовался Закушняк.
Так, например, «жест на эстраде, – пишет он, – должен быть тесным образом связан со стилем исполняемого автора и характером данного произведения. В «Восстании ангелов» Франса вся фигура и движения рассказчика несут на себе отпечаток особой легкости «фрачной салонности», вкрадчивости и изящества. Это, если угодно, сплошной полупоклон французского салонного говоруна, галантного и занимательного собеседника.
Однако, – продолжает Закушняк, – исполнителю отнюдь не следует скрывать от публики своего собственного, зачастую иронического отношения к этой фрачности».[32]32
Закушняк А. Я. Вечера рассказа. Стр. 108
[Закрыть]
«Быстрый «американизированный» темп речи при передаче рассказов Твена и им подобных, – говорит он дальше, – связывается с жестом резковатым, и подчас эксцентричным. Для Гоголя («Тарас Бульба») я ищу «широкого» жеста, как бы охватывающего всю необъятность украинской степи и в то же время, позволяющего применять танцевальные ритмы».[33]33
Там же
[Закрыть]
И тут же он говорит: «но при всех допускаемых нюансах эстрадной жестикуляции, следует неукоснительно сохранять силуэтность, беглость, эскизность».[34]34
Там же
[Закрыть]
«Есть еще один, менее тонкий способ выявления авторского стиля в звучащем слове. Я называю его «вводным приемом». Сюда относятся вводные аппараты, песенки, даже игра с предметами, подчеркивающими стиль автора. Все это я допускаю лишь тогда, когда «вводный прием» вытекает из общей идеи произведения и никогда не делаю ничего подобного из «штукарства», из стремления эпатировать слушателя. Я позволил себе, например, в работе над Анатолем Франсом использовать предмет, книжку, потому что книжка, на мой взгляд, была чрезвычайно важна при передаче «книжного чтения Франса».
Бутафорская книжка помогла мне приблизить этого сложного автора к нашей аудитории, не опростив и не принизив его тонкой, часто завуалированной иронии».[35]35
Там же
[Закрыть]
Эта противоречивая раздвоенность образа рассказчика делает искусство Закушняка, как впрочем и всех его последователей и продолжателей, необычайно сложным, требующим виртуозного мастерства лавирования между стилем автора и реальностью условий выступления рассказчика. Само построение такого образа необычайно сложно. Не случайно, что большинство продолжателей жанра Закушняка, таких, как Журавлев, Каминка и другие, отказались от всех тех приемов актерской выразительности, с помощью которых Закушняк создавал свои образы рассказчиков.
Приняв от Закушняка естественность рассказа, но отказавшись от всех приемов театральной выразительности, они не сумели сохранить то высокое и необычайно сложное искусство, которое было создано Закушняком. Путь, по которому они предпочли идти, был отвергнут Закушняком не только его творческой практикой, но и предупреждениями всех тех, кто входил в искусство рассказа.
«Меня смешат, – говорил Закушняк, – боязливость и осторожность рассказчиков, которые часто смешивают вульгарную развязность с фантазией и, не желая впасть в первую, безнадежно лишают себя второй, создавая себе каноны, в которых осторожность мешает им… даже дышать, что в искусстве рассказывания совершенно обязательно!
Иные рассказчики полагают, что на эстраде нужно стоять столбом, и считают, что какой-либо немного подчеркнутый костюм снижает «строгость стиля». Живую и трепещущую интонацию они называют ломанием. Какая организованность! В противоположность им, я никакие каноны не считаю для себя обязательными и доказываю это на деле, потому что в моей артистической жизни вышло так, что я в своем жанре сам себе дедушка, отец, сын, учитель и ученик. Каноны создает искусство, а не наоборот. Чтобы хорошо рассказывать, нужно возвести технику в мастерство, а ремесло в искусство, а что касается мелких аксессуаров, которыми пользуется исполнитель для своего удобства и выразительности, то, на мой взгляд, при желании можно даже продеть кольцо через нос, лишь бы слушатель был вполне убежден, что кольцо действительно необходимо артисту».[36]36
Там же, стр. 115
[Закрыть]
Нарушение учениками и последователями Закушняка художественных принципов его жанра основывается на сложности понимания этих принципов, теоретически оставшихся не раскрытыми Закушняком.
Двойственность образа рассказчика жанра вечеров рассказа необычайно сложна в ее теоретическом понимании. Понять ее можно только при рассмотрении этой двойственности с точки зрения диалектического противоречия развития искусства живого слова.
Творческий поиск Закушняка был практически путем, разрешающим данное противоречие. Но сам Закушняк его не понимал, не видел сущности данного противоречия, хотя и ощущал его, чувствовал его в каждом элементе структуры живого слова. Это и позволяло ему, идя чисто эмпирическим путем, в совершенно неизведанной области, в окружающих его дебрях безудержных формальных исканий одних и аскетического страха других, прокладывать узенькую тропиночку единственно правильного пути, неукоснительно приближающего к искомой цели.
Ощупью продвигаясь по тернистому пути, практикой проверяя каждый принцип своего жанра, Закушняк не сумел теоретически обосновать свой путь. А поэтому его аргументация была не очень убедительной. И именно потому, что данный этап в творческих поисках Закушняка не является еще завершенным, то есть таким, в котором все абсолютно встает на свое место, именно поэтому сам Закушняк не мог еще теоретически стройно обосновать все составные звенья своего жанра и доказать необходимость принятия каждой из его частей как целостного художественного явления.
Именно потому, что в жанре вечеров рассказа происходило количественное накопление художественных закономерностей этого искусства, но качественно еще не связанных между собой новой монолитной художественной формой, именно поэтому ученики и последователи Закушняка растеряли по кусочкам те драгоценные бусинки, из которых Закушняк плел свое ожерелье.
Поэтому после смерти Закушняка многие из его последователей, рассматривая из накопленных Закушняком каждую из бусинок, не могли иногда понять – для чего Закушняку нужны были эти бусинки, что он собирался с ними делать. Они иногда видели красоту и даже какую-то целесообразность каждой из отдельных бусинок, но не могли заметить ни в одной из них маленького, тоненького отверстия и не видели нитки, на которую следует навязать накопленные Закушняком бусинки, а потому оказались не способными не только собрать эти бусинки в ожерелье, но даже понять то, что из них можно сделать ожерелье.
Приведу хотя бы один пример тех мучительных раздумий чтецов над материалом, который остался им в наследие от А. Я. Закушняка.
Вот как в 1944 году на конференции Ленинградских чтецов рассматривались в выступлении Вортановой некоторые детали творческой методологии Закушняка.
«…Я хотела бы сказать еще об одном месте, которое обратило мое внимание в записках Александра Яковлевича, это то место, где он говорит о подносе, который в одной из пауз официант уронил за кулисами… Этот звук по-новому окрасил эту паузу.
Здесь говорили о том, что моменты звукового, светового оформления чтецкой работы нарушают жанр. Может быть, в чистом виде жанр это и нарушает, но с другой стороны, тот же Александр Яковлевич после этого эпизода пишет, что у него это возбудило целый ряд мыслей, которые надо продумать и взвесить. И я бы сказала, что не только на этот момент нам следует обратить внимание, но и на то, что Закушняк, читая Франса, использовал красный жилет и красную книжку, что в более ранние годы его выступлений, когда он жил в Костроме (1912 г.), он пользовался некоторыми световыми эффектами. Например, «Дом с мезонином» и другие лирические вещи он читал при лампе с зеленым абажуром и публика находила, что очень удачно выбран свет, что этот интимный зеленый свет создает подходящее освещение для тех лирических чеховских рассказов, которые Закушняк читал.
Мне представляется, что то, что получается у нас сейчас, когда выходит на эстраду чтец, – это что-то ужасное».[37]37
Архив ЛО ВТО. Конференция ленинградских чтецов. 8–11 сентября 1944 г.
[Закрыть]
Хочется обратить внимание на еще одну немаловажную деталь, осложнившую полное принятие творческого наследия Закушняка его учениками и последователями.
Дело в том, что та критика, с которой выступал Закушняк против чрезмерной осторожности рассказчиков, сильная в своем негативном пафосе, но не очень ясная и убедительная в позитивных принципах, была с радостью подхвачена представителями противоположного искусству рассказа направления, представителями актерского или театрализованного чтения, для оправдания полной свободы использования искусством живого слова любых приемов театральной выразительности, т. е. была фактически направлена против искусства рассказа.
Но самой главной причиной того, что эта двойственность создаваемых Закушняком образов рассказчиков осталась непонятой и не принятой его последователями, является то, что она ограничивала художественные возможности развития жанра рассказа.
Если бы раздвоенность образа рассказчика в жанре вечеров рассказа характеризовалась бы только исполнительской сложностью овладения мастерством данного жанра, ее можно было бы полностью принять и считать эстетическое формирование искусства живого слова завершенным. Однако это не так.
И совершенно не случайно поэтому. А. Я. Закушняк за два месяца до смерти прекратил свою работу в жанре вечеров рассказа, считая его завершенным и не имеющим дальнейшей перспективы развития, а сам приступил к поиску нового жанра рассказа.
«За два месяца до смерти, – пишет Е. Гардт, – Александр Яковлевич неожиданно заявил мне, что утвержденный им жанр «вечеров рассказа» и «литературного концерта» завершен. «Я все сказал, что мог, сказал самое главное, могу еще много раз повторять и, возможно, не плохо, что-либо в этом роде, но мне это неинтересно, скучно… Я хочу быть чем-то вроде клоуна». Он взял спереди прядь волос и завернул их чубом, как обычно делают клоуны: «Вот так, – продолжал он, – самое главное готово, идея и маска есть». Мы стали читать «Уленшпигеля» Шарля де-Костера, произведение, которое он хотел приспособить для своего нового, в тот момент еще не осознанного жанра. По его указанию я стала проводить некоторые работы над текстом, изучать вопросы, связанные с цирком, но скоро ничего уже не понадобилось…».[38]38
Гардт Е. Силуэт мастера. // Сб. «О мастерстве художественного слова». ЛО ВТО, 1938 г., стр. 105
[Закрыть]
Трудно, конечно, анализировать идею, не воплощенную в действительность, не развернутую теоретически и даже не до конца изложенную в приведенном высказывании жены Александра Яковлевича.
Однако даже это высказывание совершенно ясно говорит о том, что Закушняк в конце своего творчества пришел к идее нового жанра, основанного на полной конкретизации образа рассказчика.
Мне удалось собрать материалы, более подробно раскрывающие последнюю идею Закушняка.
Но то, с чем я столкнулся в описании этой идеи учеником Закушняка, Москители, когда я изучал материалы главного архива в Москве, и что подтвердилось другими сведениями, настолько меня поразило, разочаровало и озадачило, что я, при всей своей педантичности в отношении к историческому материалу, находясь в состоянии полной растерянности, даже не законспектировал это высказывание. Для того, чтобы было понятно, почему это произошло, я должен отвлечься от Закушняка и рассказать о том, какими я руководствовался замыслами в период исследования его творчества.
В то время, когда я изучал материалы Главного архива, я мечтал о театре одного актера. Мне казалось, что именно этот театр способен разрешить существующие в чтецком искусстве противоречия и достигнуть наибольшей художественной полноты.
В яхонтовском решении театра одного актера я разочаровался и по самому принципу идеи, оторванной от жизненной правды, и по наблюдениям за его творчеством, и по своим практическим пробам.
Мне казалось, что именно в последней идее Закушняка скрыт секрет реалистического решения театра одного актера.
Эта статья Е. Гардт, с которой я был знаком с 1938 г., вызвала у меня представление того, что Закушняк в своем последнем замысле отказался от эскизности оформления, костюма и пришел к совершенно конкретному образу рассказчика. В намечавшейся им работе это был образ средневекового клоуна, от лица которого он собирался исполнять Уленшпигеля. Все так в действительности и было.
Но было лишь не ясно в каких условиях, иначе говоря, «предлагаемых обстоятельствах» он собирался вести рассказ. Мне казалось в то время, что предлагаемые обстоятельства надо решать художественно-декоративным оформлением. И это я не только предполагал, но и конкретно пытался воплотить.
Именно для того, чтобы художественно оформить свой театр одного актера, я решил на время оставить филармонию и вернулся на работу в театр. Я изучал работу постановочных цехов, макетной, сам принимал участие в выполнении скульптурных работ в оформлении некоторых спектаклей, у меня в театре даже была своя мастерская.
И все это я делал для того, чтобы найти принцип художественного оформления будущего своего театра одного актера. Изучая существующие приемы портативного оформления спектаклей, я придумал дюралюминиевую сборную сценическою конструкцию, достал материал и занимался ее изготовлением. У меня были разработаны эскизы декораций будущих спектаклей «Пиковой дамы» Пушкина, «Суламифь» Куприна, «Песни про купца Калашникова» Лермонтова и некоторых других.
Главное, что меня волновало тогда – это то, как добиться такого оформления, которое было бы абсолютно конкретным по «предлагаемым обстоятельствам» и вместе с тем плавно переходило бы в зрительный зал. Мне представлялось, что необходимо было как-то по особому решить проблему «четвертой стены».
Мне казалось, что самой идеальной формой такого решения было оформление Закушняком «Дома с мезонином». Но если Закушняк в конце жизни пришел к какому-то новому решению, к новому жанру, причем к жанру, где конкретизируется образ рассказчика, то очевидно им было найдено какое-то новое решение «предлагаемых обстоятельств».
И вот я читаю стенограмму вечера, посвященную памяти Александра Яковлевича, 1940 года, проходившего в Москве. Читаю выступление одного из учеников Александра Яковлевича – Москители. И вижу, что в этом выступлении он рассказывает о последнем замысле Закушняка. С трудом сдерживаю охватившее меня волнение. Неужели действительно я разыскал свидетельство о последнем поиске Закушняка? И может быть, узнаю о том, как Закушняк собирался оформить свое выступление. Да, действительно, Москители рассказывает довольно подробно и…
Мои предположения оправдались только в одном: Закушняк действительно нашел особое решение предлагаемых обстоятельств. Но какое решение! Меня словно ударили по голове чем-то невидимым, не ощущаемым, но от чего у меня все перед глазами перевернулось. В одно мгновенье я лишился того, о чем мечтал несколько лет. Вернее, лишился той уверенности, что мечта, над воплощением которой работаю, является продолжением замысла Закушняка. Ничего подобного. Закушняк, оказывается, просто изменил художественному слову. Он пришел к самому обычному театру.
– Александр Яковлевич, – рассказывал Москители, – в конце своей жизни задумал осуществить постановку Уленшпигеля Шарля де-Костера. Рассказ он собирался вести от лица средневекового клоуна, рассказывающего легенду о Тиле на городской площади. Он даже хотел было попробовать исполнить ее в цирке. И он собирался ввести в эту работу некоторых своих учеников в качестве слушающих его партнеров, подающих ему некоторые реплики. И мы все с нетерпением ждали, на ком же из нас остановится выбор Александра Яковлевича.
Средневековый клоун – это понятно. Площадь средневекового города – это тоже очень интересно и понятно. Это действительно решение места и времени действия рассказчика и «предлагаемых обстоятельств» рассказа. Даже цирк, несколько неожиданен, но интересен. Действительно, цирк открывает возможности какого-то нового решения общения рассказчика со зрителями… Но партнеры! Что это? Зачем? Какие партнеры? Какие еще реплики?
Партнеры – это уже не художественное слово и, конечно, не театр одного актера, а самый обычный театр. И стоило столько лет мучиться в поисках независимого от театрального коллектива актерского творчества, чтобы в итоге опять придти к коллективу!
Да и вообще это какой-то вздор! Что же должны делать на сцене слушающие рассказчика партнеры?
Ну, что касается рассказчика, это еще понятно, у него есть авторский текст и он может рассказывать его кому угодно, даже слушавшим его партнерам. Правда, зачем рассказывать партнерам, когда есть зрители. Да и как будут принимать рассказ зрители, если рассказчик будет обращаться не к ним, а к какому-то подставному зрителю, каким-то партнерам. Ведь эти партнеры несомненно будут отвлекать зрителя от восприятия содержания рассказа. А главное-то в художественном слове, в искусстве рассказа, не то, что происходит на сцене, а то, о чем рассказывается.
Словом, я был окончательно выбит.
Те подробности, которые я упорно разыскивал, о последнем замысле Закушняка, напоминали чем-то то, что делала профессор Ольга Митрофановна Чайка в студии Академического театра драмы им. А. С. Пушкина, о чем мне рассказывали, но что меня не заинтересовало, так как в ее учебной постановке на сцене действовала целая группа людей.
Но я все же решил не сдаваться и проверить свою идею театра одного актера, хотя, как это было теперь уже совершенно ясно, эта идея не имела никакого отношения к последнему замыслу Закушняка.
В порядке эксперимента я решил выступить с «Песней про купца Калашникова» Лермонтова, тем более, что к тому времени она у меня была уже полностью готова.
И вот, вместо очередного шефского концерта театра, я отправляюсь с двумя товарищами актерами на свою пробу.
«Песню о купце Калашникове» я рассказываю от лица гусляра-сказителя. Подобран костюм, найден грим, подготовлено сценическое оформление, подобрана мелодия для запева.
Все готово. Я на сцене. Гаснет свет и открывается занавес.
Что происходит? Я ничего не понимаю. Мне чудится, что я нахожусь в каком-то бреду. И сквозь этот бред слышу чей-то чужой голос, произносящий какой-то далекий и чем-то знакомый текст. Слышу какой-то напев, но… чувствую себя, как это ни странно… голым. Я чувствую всю нелепость приклеенной ко мне бороды, чувствую одетый на голове парик, зачем-то лежащие на коленях гусли и непонятно для чего одетый старинный русский костюм. Я не могу дать себе отчета в том, почему я испытываю все это, но меня волнует только одна мысль: скорее, скорее бы это кончилось. Когда же, наконец, закроется занавес? Сколько еще предстоит выдерживать эти мучения?
– Ты знаешь, в чем все дело? – говорил мне после этого концерта мой друг актер А. Абрамзон. – Все дело в общении.
– Общении? А при чем здесь общение?
– Тебе на сцене не с кем было общаться.
Да, действительно, все дело было в общении. Когда выступаешь без грима в собственном костюме с чтением литературного произведения, ты действуешь от самого себя. Ты испытываешь совершенно иное ощущение от своего поведения, чем тогда, когда действуешь в спектакле. Разговаривая со зрителями, ты чувствуешь себя таким, как и они, то есть чувствуешь себя самим собой. Но как только на мне оказался театральный костюм, грим, как только я почувствовал себя сценическим образом, непосредственное общение со зрителем полностью выбило меня. Вся отработанная манера речи сказителя XVII–XVIII вв. показалась кривлянием, костюм, грим создавали ощущение чего-то балаганного, все казалось до крайности несерьезным и нелепым. Я смотрю в зал, встречаюсь с глазами зрителей и мне кажется, что эти глаза меня раздевают. Они мне как бы говорят:
– Ну чего ты представляешь, чего ты кривляешься, чего ты обращаешься ко мне, как к какому-то боярину или боярыне, что ты не видишь разве, что я человек двадцатого века, что я такой же как ты. Только ты пытаешься чем-то обмануть и меня и себя. Ну, ну… Валяй, валяй. Посмотрим чем ты кончишь, что еще ты выкинешь.
– Да, действительно, пожалуй, все дело в общении. Но как решать эту проблему общения? Ведь, если ты один на сцене, у тебя только два варианта. Либо общаться со зрителем, либо с воображаемым партнером. Общение со зрителем отпало. Общение с воображаемым партнером – это сплошная мистика, которая не понятна зрителю и которую актерски очень трудно выдержать. Это я уже испробовал при исполнении драматургических произведений «Маскарада» Лермонтова и трагедий Пушкина и от чего уже давно отказался.
Не вводить же действительно на сцену партнера! Оба постигших меня разочарования (вывод Закушняка и мой собственный провал) привели меня к решению бросить театр, бросить чтецкое искусство и, пока еще не поздно, менять профессию. И я сдал документы в Академию Художеств на скульптурное отделение.
Готовясь к экзаменам, я продолжал размышлять, вернее старался представить себе спектакли, основанные на рассказе, идущем от лица конкретного образа рассказчика, действующего в конкретных предлагаемых обстоятельствах рассказа и обращенного не к зрителям, а к партнерам, которые находятся на сцене и связаны с рассказчиком единством действия и определенными отношениями.
И вот я вижу манеж цирка, изображающий базарную площадь средневекового города. Идет бойкая шумная торговля, и вдруг выезжает балаган. Нехитрые приготовления к выступлению. Приехавшие цирковые артисты демонстрируют свое искусство и среди них талантливый остроумный клоун, привлекающий наибольшее внимание всех присутствующих. Цирковая программа очень небольшая. А зрители вошли во вкус, им не хочется отпускать артистов и особенно клоуна. И тогда клоун предлагает собравшимся послушать подлинную быль о знаменитом Тиле Уленшпигеле и начинает рассказ легенды. Рассказывает увлеченно, образно, изображая каждого из персонажей. И чем больше он раскрывает Тиля как борца за народное благо, тем строже становится его рассказ, тем пламеннее он действует как оратор.
А как слушают его жители этого средневекового города. Ведь для них Тиль и все, о чем рассказывает этот клоун – не легенда и не история. Для них это их реальная жизнь. Ведь на этой площади, где сейчас расположился балаган, часто устанавливается плаха и матери, и жены погибших на этой плахе людей, слушая пламенный рассказ бродячего клоуна, видят своих мужей и детей. Они не могут слушать спокойно. Они врываются в рассказ, бурно выражая свое отношение к содержанию рассказываемого, пытаются прервать рассказчика рассказом о своем. Но темперамент рассказа клоуна, бурность разворачиваемых им событий заставляют их слушать дальше. А вот и другие люди, которым не по душе все то, о чем рассказывает этот бродяга, которые тоже активны, но активны по другому. И чем дальше идет рассказ, тем больше накаляется атмосфера среди слушающих. Возникают перебранки, которые разрастаясь, перерастают в стихийный бунт.
Конечно, все то, что мне представляется, очевидно, далеко от подлинного замысла Закушняка. Возможно, что и идея-то цирка была мимолетной, затем отброшенной Закушняком, как это действительно подтвердилось другими материалами.
Но важно было понять принцип идеи нового жанра Закушняка, идеи, связанной с обращением рассказчика не к зрителям, а к партнерам.
Когда не я пытался перевести на новое образное видение существующий репертуар чтецких работ, все стало принимать совершенно иной характер.