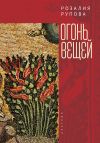Читать книгу "Курс истории древней философии"

Автор книги: Николай Трубецкой
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Таково содержание этого небольшого диалога. Он представляет значительный интерес не только для изучения нравственной философии Платона и Сократа, но и для освещения того духовного кризиса, который переживала греческая религиозная мысль в пятом и четвертом веке и который подготовлялся уже издавна, с тех пор как нравственное сознание греков стало перерастать их богов и их мифологию. Уже с шестого века (если не ранее) начинает проявляться все более и более резко неудовлетворенность философской мысли и религиозного чувства, которая сказывается как в попытках зарождающегося рационализма и религиозной критики, так и в попытках религиозной реформы и развития греческого мистицизма.
Развитие рационализма легко проследить в истории ранней философии греков. Если первые начатки этой философии и следует искать в религиозном умозрении и если античная мысль долго сохраняет религиозную окраску, то тем не менее протест против мифологии появляется крайне рано. Мы находим его во всей силе уже у поэта-философа Ксенофана (VI в.). Он не хочет повторять старые и нелепые басни про битвы богов и кентавров: по-видимому, он относится к этим басням, как Сократ в нашем диалоге (6); подобно ему, он хочет чтить богов разумною речью, беседуя о добродетели и высказывая резкое осуждение народному культу и антропоморфизму Гомера и Гесиода:
Все, что могли, приписал”! богам Гомер с Гесиодом,
Что у людей почитается стыдным и всеми хулимо,
Множество дел беззаконных они про богов возвестили, —
Как воровали они, предавались обману и блуду…
Люди делают богов по своему подобию: рыжие, голубоглазые у фракийцев, они черны и курносы у эфиопов:
Если бы львам и быкам в удел даны были руки,
Если б писали они иль ваяли, как делают люди,
То и они б рисовали богов и тела б им создали,
Какие самим им даны, сообразно строению каждых:
Кони – конями, быками – быки богов бы творили…
Ксенофан настаивает на единстве, вечности, разумности божества, которое все видит и все слышит, управляя всеми, и не подобно ничему смертному. Признавать бога рожденным есть такое же нечестие, как “читать его смертным, и изображение страстей богов представляется философу нечестием и безумием не только в эпосе, но и в культе: если боги смертны, нечего приносить им жертвы, а если они боги, – нечего их оплакивать и совершать в их честь траурные, печальные обряды, как это делается в иных культах.
Так учил Ксенофан за сто лет до Платона. И если ему, как рапсоду, приходилось более определенно, чем прочим философам, установить свое отношение к религиозному содержанию эпоса, то другие философы, не вступая в прямую полемику с Гомером и Гесиодом, расходились не менее глубоко с народными верованиями и мифологическими представлениями. В тех различных попытках физического мирообъяснения, которые мы у них находим, в их астрономии, космологии и метеорологии, боги не играют никакой деятельной роли. Кажущиеся исключения только подтверждают это общее положение, как, например, у Эмпедокла, у которого четыре божества – Зевс, Гера, Аидоней и Нестис, являются олицетворениями или даже простыми наименованиями четырех стихий, или у пифагорейцев, где боги распределяются по планетам, которые движутся согласно вечным математическим законам гармонии.
Естественно, что физика подкапывала мифологию, и в связи с попытками рационального объяснения Вселенной мы постоянно встречаемся с попытками рационализировать и самые мифы – путем аллегорического их объяснения. Первую систематическую попытку в этом направлении мы находим у Метродора из Лампсака, ученика Анаксагора; но отдельные рационалистические объяснения мифов встречаются и гораздо раньше. Не редкостью было на исходе пятого века и чисто отрицательное, крайне скептическое отношение к религии. Несомненно, софистика, с ее поверхностным рационализмом, много способствовала распространению такого скептицизма в широких кругах общества; но видеть в ней источник нечестия и безбожия, как это делали многие древние и новые ее обличители, было бы крайне несправедливым. За немногими единичными исключениями, профессиональные софисты не были оригинальными мыслителями; преподавательская деятельность их определялась спросом, а их нравственная философия ходячими мнениями. Рационалистический характер был присущ всему греческому просвещению, и афинянину V века не нужно было учиться у софистов, чтобы смеяться над Аристофановым Стерпсиадом с его мужицкими верованиями. Консерватор Аристофан, обличающий не только софистов, но и самого Сократа как опаснейшего из софистов, – Аристофан, ревнитель добрых старых нравов и древнего благочестия, ярче других свидетелей показывает нам, как глубоко расшатались такие нравы и такое благочестие. И он делает это не только своей сатирой и обличением, своим изображением нравственного состояния современного ему общества: он сам обращает в комические маски тех самых богов, которых он защищает от их отрицателей. Обличая философию и физическую методологию, он противополагает ей невежественного, придурковатого Стерпсиада, который думает, что Зевс мочится через решето, когда идет дождик…
Не следует, однако, представлять себе греческое общество эпохи аттического просвещения враждебным или равнодушным к религии, зараженным повальным сомнением и отрицанием. Напротив, иногда оно является нам крайне суеверным, способным к настоящим взрывам фанатизма (напр., процесс осквернителей Герм или хотя бы процесс Сократа). Своеобразная смесь суеверия и свободомыслия является характерным признаком не только всего общества указанного времени, но и отдельных выдающихся его представителей, например, того же Аристофана, или даже самого Сократа, соединявшего крайний рационализм с верой в мантику и оракулов; правда, эта последняя черта, быть может, отчасти преувеличена у Ксенофонта – другого, крайне суеверного рационалиста того времени; но она в достаточной мере засвидетельствована и самим Платоном.
Быть может, нигде и никогда мы не встречаем такого разнообразия духовной жизни, такого роскошного расцвета всевозможных фирм человеческого творчества, такого богатства и свободного развития человеческой личности, как именно в Афинах V века. Но это развитие было бы неполным и односторонним, если бы те религиозные инстинкты, которые так глубоко коренятся в нашей природе, были бы в нем подавлены. Этого и не было. Среди крайнего рационализма философская мысль, свободная от всякого внешнего авторитета, приходит, в лице Сократа и Платона, к учению, религиозному в самой основе. Среди высшего напряжения человеческого творчества и высшей идеализации человеческой чувственности рождается сознание сверхчеловеческой вечной красоты и правды, слагается убеждение в высшей реальности духовного мира, в возможности и необходимости высшей духовной жизни для человека. И в свете этого нового религиозного сознания прежние боги являются призраками и прежние верования – грубым, недостойным суеверием, которое должно уступить место новому благочестию.
Но если этот идеал открывается духовным очам немногих избранников, отрекшихся от прежних идолов и подвигом философского делания возвысившихся над простым рассудочным отрицанием, древнее благочестие продолжает жить в греческом обществе, несмотря на софистику и просвещение, на высокие идеалы искусства и философии, на сатиру комиков, на вольнодумство интеллигенции. Оно крепко держится старых преданий и, в защиту от нигилизма, призывает на помощь новое суеверие и новый мистицизм. Оно относится враждебно к софистике, к сомнению и отрицанию; и естественным образом в Сократе, в провозвестнике новой духовной истины, оно нашло еще злейшего и опаснейшего врага.
Мы сказали, что неудовлетворенность религиозной мыслью и чувства сказывается в развитии греческого рационализма. Но она сказывается и в развитии греческого мистицизма, который получает значительное распространение одновременно с зарождением греческой философии, и в различных попытках религиозной реформы, связанных с этим мистическим движением. Не удовлетворенный своими богами и культами, верующий нередко ищет чисто внешним способом успокоить или подавить объявшую его тревогу: он строит великолепные чертоги богам, которых прежде чтили под открытым небом; он изображает богов, прежде вовсе не имевших образа, в величественных и прекрасных кумирах; он приносит им больше жертв, чем когда-либо, и чтит их пышными и сложными церемониями. Роскошные храмы нередко являются надгробными памятниками религии. Но, с другой стороны, наоборот, иные пышные гробницы становятся святилищами. Роскошь внешнего культа может свидетельствовать о внутреннем упадке веры; но нельзя отрицать и того, что эта роскошь по-своему питает веру, гипнотизирует верующих. Внешним культом, однако, нельзя удовлетворить ни разума, ни самого религиозного чувства. И с той минуты, как оно перестало удовлетворяться им, оно ищет новых культов и новых богов-искупителей, которые могли бы дать ему уверенность в конечном спасении. В усложнении культа, в заимствовании и усвоении новых богов – вся история древнего политеизма. И до самого конца язычества мы можем указать целый ряд новых культов, постепенно проникавших в Грецию.
Но недостаточно вводить новых богов. Нужно вступить в новое, более интимное общение с ними, приобщиться их жизни и силам, их благодати; нужно познать тайны духовного мира путем нового откровения. И вот с VII в. постепенно усиливается вера в мантику и появляется ряд боговдохновенных сивилл, волхвов и пророков, посредников нового откровения, которые возвещают людям волю богов, производят очистительные обряды, основывают новые культы и таинства, а иногда даже особые религиозные союзы с определенным мистическим богословским учением.
Легенда рано завладела образами этих божьих людей; некоторые из них, каковы Орфей или Мусей, всецело представляются ее созданиями; другие, как Эпименид, принадлежат ей наполовину. Но дело их принадлежит истории и, как ни скудны наши сведения об этих пророках VII и VI века, мы должны видеть в них первых возбудителей того могущественного духовного движения, которое дало толчок развитию греческих мистерий и греческого мистицизма, которое породило орфиков и пифагорейцев, отразилось на всей истории ранней греческой философии и оставило глубокий след в лирике Пиндара и в умозрении самого Платона.
Как ни было глубоко и плодотворно это духовное движение, оно не привело ни к реформе, ни к созданию новой религии и постепенно вошло в общие рамки греческого политеизма. Религиозная реформ а в среде этого национального политеизма могла бы вести лишь к замене одних богов другими и была бы осуществима лишь вместе с политической революцией, при помощи политического заговора.
Недаром орфики группировались вокруг Пизистратидов в Афинах, а пифагорейцы составляли в Великой Греции политический союз, преследовавший цели аристократической партии. Изгнание Пизистратидов и разгром пифагорейцев предрешали не только политическую, но и религиозную будущность этих союзов. Пифагорейский союз получает свое историческое значение главным образом в качестве философской школы, а секта орфиков, завещав свои пантеистические идеи другим философам, постепенно вырождается, умножая собою лабиринт греческих культов и суеверий.
О создании какой-либо единой церкви на почве совместных культов греческого политеизма, очевидно, не могло быть и речи: само христианство не могло впоследствии окончательно побороть греческого национализма. Но пифагорейцы или орфики всего менее думали о какой-либо универсальной религии, ревниво охраняя свои таинства от непосвященных. И потому, несмотря на те новые религиозные идеи, которые нашли в них свое выражение (пантеизм орфиков, вера в загробное возмездие и жизнь будущего века), эти таинства не могли изменить основного строя греческой религии. Тем не менее, мистическая потребность была пробуждена и зародившееся духовное движение захватывало не одни верхние аристократические слои; недаром оно связывалось с деревенским, демократическим богом оргиастического экстаза, с Дионисом, культ которого лишь постепенно переходит из деревни в город. Государство старалось овладеть этим движением, ввести его в общее русло своей религии. И оно достигло этого при помощи организации мистерий, вошедших в систему государственного культа. В Афинах орфики, вероятно, способствовали этому процессу: более, чем кто-либо, они акклиматизировали, приручили «дикого» Диониса. Но, естественно, их собственное значение должно было упасть, когда их частные оргии были совершенно затемнены блеском пышных таинств Элевсина. Об орфиках или орфеотелестах, торгующих своим таинственным гнозисом, мы слышим впоследствии: они производят очистительные церемонии, они обольщают не только частных лиц, но и целые города (Plat. Resp. 2, 7), принося искупительные жертвы за прегрешения живых и мертвых, освобождая людей от божественной кары, всевозможных бедствий, следующих за вольным или невольным осквернением. Но не одни орфики вступают на почву этого практического мистицизма; по следам Эпименида является множество «ведунов» или гностиков, претендующих на познание воли богов и на познание специальных средств искупления. Иногда они дают совершенное освобождение от гнева божества, иногда – отсрочку грозящей кары (ср. Plat. Conv. 201 D); они обладают даром предсказания, являются частными прорицателями, которые соперничают с официальными оракулами. Они, подобно нашему Евтифрону, выдают себя за специалистов благочестия; они являются хранителями древних преданий и мифов, наряду с которыми рассказывают и многие другие фантастические басни про дела богов и демонов.
Но эти эпигоны мистиков VII и VI века уже не играют выдающейся роли в духовном движении Греции. Правда, в лице Эмпедокла мы видим философа, который выступает в роли практического теософа, приписывает себе чудесные способности и чудесное ведение, пишет трактат об «очищениях». Но это едва ли не последний гностик древнейшего периода; и то он представляет собою переходный тип, соединяя мистику с рационалистической физикой и катартику с риторикой. Если он последний мистик V века, то он же и первый софист. Во всяком случае, обыкновенные бродячие гадатели, прорицатели и хресмологи на него не похожи: это «специалисты благочестия» вроде нашего Евтифрона, которые ничего не знают, кроме басен, и ничему не могут научить, кроме суеверий.
И вот такого-то специалиста выводит Платон в споре с Сократом, которого обвиняют в нечестии. Евтифрон сначала принимает Сократа за собрата: ведь и Сократ претендует на особого рода специальное откровение, на особого рода «демоническое» знамение, которое «указывает» ему волю божню. Евтифрон думает, что Сократ возбуждает к себе то же недоброжелательное и насмешливое отношение, с каким приходится встречаться и ему самому, когда он прорицает перед большой публикой. Он охотно делится с Сократом своей мудростью, и здесь-то, в их беседе, раскрывается вся бездна, разделяющая старое и новое благочестие.
Для Евтифрона все благочестие есть лишь собрание мифов и обрядов, корень которых лежит в суеверном страхе. Его отношение к богам противно разуму и лишено всякого нравственного характера: это простая боязнь перед слепою прихотью демонов, их случайным гневом, их гибельными чарами. Религия сводится к внешнему культу, к искусству ухаживать за богами, как будто боги нуждаются во внешнем, физическом попечении. Культ состоит в жертвax и молитвах, в дарах и прошениях. Мы просим у богов то, что нам нужно, и дарим им то, что им нужно, так что благочестие обращается в торговый обмен между людьми и богами, причем в таком обмене человек стремится к возможно большей выгоде.
Обличая всю нелепость таких верований, Сократ поднимает великий вопрос о нравственном характере религиозного долга, религиозных отношений, религии вообще: зависит ли нравственно-должное в религиозной сфере от случайной прихоти, от расположения богов, или же, наоборот, нравственно-должное определяет собою расположение неизменно благой, разумной воли богов? Потому ли благочестивое имеет нравственную цену, что его любят боги, или, наоборот, потому они его любят, что оно благо? Для Сократа не может быть сомнения. Боги блага и «нет ни одного блага, которого бы они не давали». Они благи, потому что они разумны, потому что они «знают добро», «знают благо». Известно, что к такому знанию Сократ сводил всю добродетель и все добродетели. Поэтому-то благочестие и не может быть особой, отдельной частью праведности: обнимая собою всю сферу служения человека богам, оно обхватывает и всю возможную сферу его деятельности, в которой он может творить добро: – «нет ни одного блага, которого бы не давали», а потому, делая добро, человек естественно служит богам, как подателям благ. Нравственно добрая деятельность и нравственно добрая жизнь есть поэтому единственное истинное благочестие, истинное служение богу, как мы увидим это в «Апологии»; «Евтифрон» ограничивается, по-видимому, лишь отрицательным результатом, – совершенным изобличением старого благочестия. Смущенный и беспомощный, божественных дел мастер Евтифрон не в силах определить или показать Сократу «идею» истинного благочестия; но сам Сократ, обличающий своего собеседника, явно знает, чего он хочет. И в самой его диалектике, в самом требовании показать «идею» благочестия, точно так же как в раскрытии всей внутренней лжи ходячих религиозных представлений сказывается глубокая вера в автономию добра: в сфере самой религии и религиозных отношений оно самозаконно, не зависит от случайной прихоти богов; оно не определяется их произволом, но само определяет всякую разумную волю.
Совместим ли такой возвышенный религиозный идеал с языческим политеизмом? Не правы ли были обвинители Сократа, утверждавшие, что он своим учением в корне подрывает отеческую веру? Но вера отеческая была в достаточной мере подорвана и без Сократа и распадалась сама собою в духовном росте греческого общества. Да и сам Сократ, очевидно, хотел не подрывать религию, а, наоборот, очистить ее, утвердить благочестие на высшем и незыблемом разумном основании.
Тем не менее этот высший пророческий идеал несомненно перехватывает за рамки языческого политеизма. Над его ограниченными богами воздвигается высшее идеальное начало объективного Добра, та «Идея Блага», которая впоследствии является в качестве верховного божества в Платоновом государстве. В нашем диалоге философ еще не говорит об этом «умном солнце», которое подает всему жизнь и свет, но уже здесь добро признается началом самодовлеющим, независимым от субъективной прихоти или расположения самих богов. Платон не определяет, каким образом боги относятся к этому высшему началу, нормирующему их волю: но ясно, что с такой точки зрения они должны последовательно обратиться в служебных духов. Для богов в смысле прежнего мифического пантеизма не остается более места: они осуждены и разумным и нравственным чувством.
К какой эпохе в жизни Платона можно с наибольшим вероятием отнести «Евтифрона»? Высказывалось предположение, что он был написан в то самое время, к которому относится воспроизведенный разговор, т. е. в начале процесса Сократа, до суда над ним. Согласно другому мнению, «Евтифрон» был написан вскоре после смерти Сократа, в непосредственном соседстве с «Апологией» и «Критоном». Первое предположение едва ли допустимо. Хотя «Евтифрон» и служит ответом на обвинение в нечестии, выставленное против Сократа, но обнародование этого диалога в начале процесса оказало бы философу плохую услугу и могло бы дать врагам лишнее оружие, так как наш диалог явно направлен против старого благочестия.
Относить «Евтифрона» к чисто сократическому периоду деятельности Платона мешают нам и заключающиеся в нем указания если не на само учение об идеях, составляющее личную особенность Платона, то, во всяком случае, на связанную с этим учением диалектику. «Разве благочестивое, святое не тожественно самому себе во всяком действии, – говорит Сократ, – и разве нечестивое во всем, что ни есть нечестивого, не противоположно всему благочестивому, не подобно себе самому и не имеет, по своему нечестию, некоторую единую общую форму („идею“)?» И далее Сократ требует, чтобы Евтифрон показал ему «тот самый общий вид» (τιδοζ), κоторым все благочестивое – благочестиво; ведь ты же установил, что единая «идея» делает все нечестивое нечестивым или все благочестивое благочестивым", так научи же меня этой самой идее, что она такое, дабы, взирая на нее и пользуясь ею как образцом (παραδειγμα), признавал благочестивым то, что будет подобным ей (6 D E).
Правда, Бониц и Целлер указывают, что здесь слова «идея» и «вид» обозначают лишь форму, а под образом разумеется не первообраз самих вещей, а лишь общее понятие, представляющееся нормой для частных случаев. «Хотя Платон и стоит здесь у порога Сократова учения о понятии, – говорит Целлер, – но он еще не перешагнул через него». Однако где доказательство, что он через него не перешагнул? Бониц ссыпается на параллельные места в «Меноне» (72 С) и «Политике» (262 В), где τιδοζ θ ιδέα δействительно означают лишь «вид» и «форму»; но в этих двух диалогах Платон уже бесспорно очень далеко ушел от «сократической» философии своей первоначальной молодости. Во всяком случае, «единая, всегда тожественная себе самой форма, делающая все благочестивое благочестивым», и служащая «первообразом» или «нормой» для суждений о благочестии единичных поступков, представляет собой чисто платоновскую концепцию Сократовой диалектики, всего более близкую к учению об идеях. «Взирая на единую идею сводить рассеянное во многих местах» и «уметь снова делить по видам» – вот требования, которые Сократ придал истинному диалектику в Платоновом «Федре» (265 Д Е) и которые мы находим и в нашем диалоге: благочестие относится к высшему роду – праведности, которая затем делится на два подвида (12).
Таким образом, в «Евтифроне» мы находим не только методологические особенности позднейшей Платоновой диалектики, но и саму терминологию этой диалектики (идея, вид, образец (παραδειγμα), ρущность (ουσια) – β отличие от παθοζ – ρлучайного свойства). С другой стороны, нам понятно, почему критики затруднялись отделять «Евтифрон» от «сократических» диалогов. Диалектическая разработка вопроса о существе благочестия принадлежит Платону, но сам вопрос несомненно возбужден Сократом, и спор, воспроизведенный Платоном и приуроченный им к началу процесса учителя, служит важным и живым отголоском «Сократической борьбы». Беседа с Евтифроном, очевидно, вымышлена, как и прочие диалоги; но в этой вымышленной форме Платон дает нам действительное историческое содержание, показывает, уясняет нам отношение своего учителя к современному благочестию и объясняет то роковое столкновение, в которое он вступил с его представителями.
Когда же написан был «Евтифрон»? По всей вероятности, по истечении некоторого времени после смерти Сократа, вместе с рядом сочинений, предназначенных частью апологии учителя, частью же – обличению того общества, которое его осудило. Наиболее ярким и сильным из таких обличительных диалогов является «Горгий». В каком отношении к «Горгию» стоит «Евтифрон», сказать трудно: там обличаются риторы и политики, мастера дел человеческих, претендующие знать, что есть справедливость; здесь обличается божественных дел мастер, специалист по благочестию. Благочестивое определяется у Ксенофонта (Mem. IV, 6, 4), как законное относительно богов, в «Евтифроне», – как справедливое по отношению к богослужению, в «Горгии» – как должное по отношению к богам: нетрудно убедиться в тожестве этих трех определений, хотя нельзя решить, которая из трех формул принадлежит Сократу. Susemihl, сравнивая «Горгия» с «Евтифроном», считал последний более поздним, точно так же как Гомперц: в «Горгии» и «Протагоре» благочестие представляется еще особою добродетелью наряду со справедливостью, мужеством, мудростью и воздержанием, между тем как в «Евтифроне» благочестие перестает быть особою добродетелью наряду с справедливостью: благочестивое – праведно, и делание добра и правды есть истинное служение богам как «подателям благ» – воззрение, близкое к тому, какое мы находим в «Государстве» Платона. Вторая книга этого последнего сочинения, заключающая в себе пространное обличение мифологических представлений, "дает содержательный комментарий к сжатому тексту «Евтифрона».