Текст книги "Без заката"
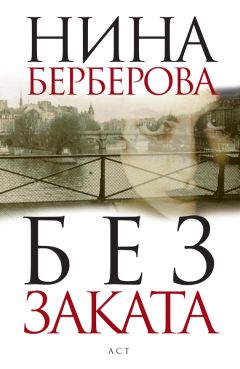
Автор книги: Нина Берберова
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Нина Николаевна Берберова
Без заката
Без заката
I
Сам, закрыв глаза, лежал навзничь у самого края широкой низкой кровати. Казалось, стоит ему сделать движение, и он мешком скатится на козью шкуру, постланную поверх красного бобрика: к седому длинноволосому меху тянулась застывшая Самина рука, зажавшая револьвер, отброшенная выстрелом. Лицо Сама было спокойно и смотрело в потолок, и только черный пробитый висок (уже давно не сочившийся кровью) придавал волне рыжих волос и бледности веснушчатого лба что-то необычайно грустное.
Он был во фраке. Белая грудь все еще топорщилась и выпирала из жилета. Ноги были сдвинуты; обутые в легкие лакированные туфли, они казались ногами спящего человека, наиболее живыми из всего Саминого тела. Левая рука была положена на грудь (вероятно, доктором, хотя почему тогда оставил он висеть правую?): в левой руке искали Самин пульс – и не нашли, конечно. И желтоватая, тоже веснушчатая, с сильными пальцами настоящего (с детства) музыканта, с едва заметным медным пухом, кудряво уходившим под крахмал манжеты, лежала она, словно пошла слушать биение сердца, но не доползла и задумалась, и вот – спит. Шум был за окном, утренний столичный шум, от которого, казалось, рука сейчас проснется и зашевелится, а за ней, под веками, шевельнутся глаза. Но трубный рев автомобилей не воскрешал этого одеревенелого лица. Холодный и страшный для живых и такой неудобный для администрации Гранд-Отеля покой смерти шел от Сама, от тела, которое продолжало стыть и скоро, несмотря на солнечный майский день, грозило стать ледяным.
Доктор – полицейский врач с лысиной, укрытой волосами, – чиновник полиции, газетный проходимец с блокнотом в беспокойных руках и сдержанный мускулистый господин, вызванный из американского посольства, – все побывали здесь, а между ними то и дело проносились лифтные мальчики, коридорные, горничные, служащие похоронного бюро. В полицию, в американское посольство дали знать сразу, когда Сам, велевший разбудить себя в девять, не отворил на стук горничной, державшей в руках поднос с утренним завтраком и сперва осторожно постучавшей локтем. И тогда же, по телефону из стеклянной будки, соединился портье с некой дамой, адрес которой и телефон были оставлены Самом на ночном столике. «Вас просят приехать, – сказал ей чужой голос, который показался слишком повелительным. – С вашим другом случилось несчастье». «Где? С кем?» – недоверчиво спросила дама, решив, что кто-то шутит, и в душе испытывая брезгливую досаду. «С вашим другом в Гранд-Отеле». Молчание. «У меня нет друга в Гранд-Отеле, прошу оставить меня в покое». – «Мадам, с господином Адлером…» Портье испытал мгновение жестокой радости попадания в цель: на другом конце проволоки кто-то замер. «Господин Адлер опасно болен. Он дал ваш адрес». Она ловила какие-то слова в ускользающей памяти. «Он давно в Париже?» – спросила она. «Два дня».
Эта дама – впрочем, больше похожая на молоденькую девушку, – теперь стояла молча посреди просторного номера; дверь в ванную была открыта, и там кто-то шаркал по каменному полу. В окне была видна площадь Оперы, начало Капуцинского бульвара, будто кто-то на экране окна пустил старую ленту кинематографа. Вот сейчас на паре белых лошадей выкатит из-за угла Макс Линдер, стрельнет белками в проходящую красавицу, закроется от городового приподнятым цилиндром. Как это было давно! Кинематограф во дворе невзрачного дома на Невском – не то «Унион», не то «Художественный», на полотне, в черном дожде потрескавшейся пленки, город площадей, арок и автомобилей, с профилем железной башни в клубящемся облаками небе Иль-де-Франса. И она с Самом – в глубине черного зала, тайком от всех, в клятвенной тайне первого бегства из дому вдвоем…
И вот он лежит здесь, на этой кровати, с еще не выдернутым револьвером в костенеющей руке, еще вчера, должно быть, державшей смычок, а за окном – Париж, этот перекресток, впервые увиденный на экране лет десять тому назад, увиденный в тот вечер, когда шел снежок, искрились фонари, цветы за стеклом цветочного магазина обещали такую счастливую, такую огромную жизнь, в тот вечер, когда на нем была котиковая ушастая шапка, а на ней – серая шубка, слегка потертая ранцем на плечах.
Она стоит над ним и силится узнать в этом слишком мертвом лице те живые черты, которые до того, как она переступила порог этой комнаты, жили в ее воспоминаниях. Это похоже на то, как если бы она старалась наложить негатив на готовую фотографию так, чтобы они совпали, чтобы не осталось трещин – белых и черных, – и это никак не удается ей, словно она это делает во сне. В руках она держит конверт, на котором написаны ее адрес, ее имя, руки ее в перчатках, и слезы, падая на них, ей не мешают и ее не рассеивают. Она смотрит на одетый во фрак труп, с которым была у нее в жизни целая долгая история их детства, без которого в будущем была пустота – это место никогда никем не может быть замещено, она думает о том, что кинематограф за окном продолжается, что жизнь продолжается, что надо бы позвонить домой, сказать, что она сейчас вернется, протелеграфировать Полине, Саминой сестре, куда-то в швейцарский горный рай, Полине, которая все представляется тоненькой прелестной девушкой, какой была в Петербурге перед отъездом, и невозможно уверить себя, что она располнела, родила двух детей и дико ревнует своего толстого пучеглазого мужа.
А сильней всего хочется ей вернуться домой, к Саминым письмам, потому что она теперь явственно вспомнила: там были намеки на то, что случилось, там были не угрозы, не жалобы, но какие-то страшные иронические о себе слова, от которых для него, оказывается, шел прямой, проторенный путь к смерти, а для нее они не имели никаких последствий, она скользила по ним, она забывала их. Он начал писать ей год тому назад, после того как она оказалась за границей и они нашли друг друга. В эти годы, с тех пор как они расстались, была заключена часть жизни – их обоих разная юность. Она была в Париже, он был в Америке. Дирижер Филадельфийского симфонического оркестра покровительствовал ему. Однажды Сам прислал ей длинную газетную вырезку – отчет о первом своем концерте, потом несколько раз присылал фотографии: вот он во фраке, скрипка у плеча, смычок на отлете; вот он в купальном костюме, держит над головой огромный мяч (видно, какой он стал крепконогий); вот он над каким-то обрывом с товарищем (тоже русским, теперь музыкальным критиком) и двумя девушками. Одна из них положила ему руку на плечо. «Знаешь, я немного влюблен, – писал он, – в одну писклявую дурочку. Она носит такие бантики, что выдержать невозможно». Потом его ждали, он должен был осенью приехать в Европу, отец перед смертью хотел проститься с ним, но он не приехал, и старого Адлера похоронили без него. Да, они ни разу не виделись за эти пять лет, но он не забыл ее: вчера он написал ей свое последнее письмо, которое она глотнула, едва войдя в комнату, и сейчас ей кажется, что это он еще не успел ей сказать, что она все это еще успела услышать, а не прочесть… Это утро. Приглушенный шум, как море, поднимается к окнам. Стеклянная люстра отвечает слабым звоном автомобильным гудкам, грохоту автобусов. Вера подходит к постели, и, так как сесть некуда – Сам лежит у края, – она садится рядом на стул, берет его руку и смотрит на него. Это лежит ее мертвое детство, ее мертвое прошлое, так внезапно и грустно возвращенное ей. От ее жизни отщепили кусок, и кусок этот будут хоронить с еврейскими песнопениями, придавят его каменным пятикнижием, и раввин, тот же, который хоронил Саминого отца, скажет коротенькую речь о Саме, которого он не знал, но которого поместит в лоне Авраамовом, вместе с Исааком и Иаковом.
II
Дом когда-то был особняком. На фасаде, выходившем в старую тихую улицу, была прибита доска: здесь жил и умер французский вельможа начала XVIII столетия. Теперь здесь были квартиры – огромные холодные комнаты с высокими потолками, с полукруглыми окнами, обшитые темным деревом, затянутым грубым шелком. Здесь нельзя было переставить зеркал – они были вделаны в простенки, нельзя было сдвинуть шкапа, дивана – все это давно вросло в пол, и когда хотелось перевесить картину или просто снять ее, отправить в чулан (портреты неизвестных, бонапартовых времен баталии), то оказывалось, что и это сделать невозможно, настолько выгорел стенной шелк. А под толстыми коврами скрывался черный скрипучий паркет в щелях, и в солнечный день в столбе пыли у портьеры было видно, как тяжело летит с кисти на кисть сытая моль.
Вера вошла и прислушалась.
Тихо было в доме и тихо за большими окнами, где продолжалось время. Запах старой пыли, двухсотлетней сырости начинался уже на лестнице – широкой, витой, каменной, с огромной паутиной, висящей, как гамак, в пролете. Здесь в квартире много и подолгу отворяли окна (был больной), и все-таки пахло прошлым веком – от этого века Веру мутило. Впрочем, это был не прошлый век («пара и электричества»), а век позапрошлый, который дремал здесь в неуничижимом своем величии и обременительной прочности. На громоздкую вешалку Вера накинула шляпу и пальто. В квартире не было ни ребенка, ни животного, которые могли бы учуять ее приход. Она осторожно прошла к себе в комнату. С кухни донеслось пение прислуги.
Осторожно, так, чтобы в соседней комнате ничего не было слышно, она села к столу, выдвинула ящик. Отсюда она иногда прислушивалась к тому, что делается за стеной, за дверью, к шороху, к дыханию – и теперь надо было сделать все, чтобы там не догадались о ее возвращении, не шуршать бумагами. Самины письма, его фотографии, даже та газетная вырезка – все было цело. В его телеграмме, полученной несколько дней назад, – «Буду в Париже в конце недели. Восемнадцатого концерт. Сообщу день и час приезда» – теперь сквозил обман, заранее обдуманное намерение. Вера вынула из сумки его сегодняшнее письмо и еще раз перечитала его:
«Верка, прости за беллетристику, но я стреляюсь, не увидев тебя. Вероятно, просто потому, что мне не особенно этого хочется. И хорошо. Жизнь обманула, вот в чем дело. Она победила (обманным образом), и я сдаюсь с честью, пока не поздно. Прощай!
В чем оправдываться? И перед кем? Перед тобой? Но ведь ты и так скажешь: невиновен. Слишком много было обещано. Как смогли столько мне обещать? Ведь были даны не только способности, была дана “гениальная болезнь”, рассеянный взгляд… все, что нужно. А вырос молодой человек, способный… к скрипке? к коммерции? Все случайно.
Я не стал первым, и даже не стал вторым, а быть десятым не хочу. Я когда-то хотел быть самым лучшим. Люди, Бог, я сам – все уверяло, что я – особенный. А теперь мне все равно. Скучно. Хотелось того, что не удалось, а все, что давалось, было неинтересно. Устал. Ты скажешь: рано, еще нельзя судить, надо еще стараться. Отвечаю тебе на это: наоборот! Надо спешить, иначе потом не успею.
Верка, золотая моя, ты сейчас же дай знать Полине и дяде (адреса в моей записной книжке – выписывать лень). Гаднельман (мой приятель и импресарио) и так придет. Ему сделаны необходимые распоряжения.
Если бы ты знала, какой соблазн сейчас (двенадцать часов ночи) выйти из Гранд-Отеля (опять беллетристика), взять автомобиль, примчаться к тебе, достучаться, дозвониться, расцеловать тебя, взглянуть на него, закричать: как ты постарела! И услышать от тебя слабоватенькое, но милое слово утешения… А впрочем – не так уж велик этот соблазн, иначе бы бросился, конечно. Остыл я, ко всему остыл, ко всем. И к тебе… Верка, прощай! Не хочу размякать душой, а то все продам и отращу брюшко, и крашеной жене вечерами буду наигрывать романсы. Если есть что спасать, так только отчаяние свое.
Помнишь – пусть это сентиментально, но сейчас все позволено, даже разнюниться, – помнишь, Верка, как мы с тобой в Питере, у нас, иногда в сумерках лежали на какой-то шкуре, болтали или молчали? Ведь это лучшее, что у меня в жизни было, клянусь тебе, да еще иголки в сердце перед первым публичным выступлением. А с бабами никогда ничего путного не выходило. У меня на всем теле веснушки, и это, наверное, смешно. Кто знает, может быть, и любовь – обман, такой же, как и жизнь вообще?
Помнишь ледяную гору в Таврическом? Помнишь вообще Россию, которая где-то есть и, может быть, тебе вернется, а мне – никогда? Помнишь ли себя, Верка, какая ты чудная была, некрасивая, толстая? Жизнь не стоит тебя. Ты, может быть, тоже когда-нибудь умрешь, как я. Только кому ты тогда напишешь свое последнее письмо, бедная моя? Неужели какому-нибудь кобелю, прохвосту, который тебя не стоит? Верка, Верка!
Как мне себя жаль, как мне тебя жаль. Как я люблю тебя, себя и всех. Но жизнь – это враг, это ватерклозет какой-то, это – надувательство. Черт с ней! Хорошо хоть, что есть кому в этой жизни “прощай” сказать, и “спасибо”, и “прости” за всякие там беспокойства. Не плачь, милая, милая, милая моя! Не плачь…»
Она плакала, неслышно; глядя на нее со спины, никто бы ничего не заметил – ни рыданий, ни всхлипываний, она дышала, как все люди, вовсе не умеющие плакать и никогда не плачущие, а слезы текли так сильно, что она не успевала утирать их, она роняла их вокруг: на стол, на себя, на ковер; она встала и пошла к дверям. Ей нужно было к кому-то пойти, кому-нибудь рассказать – и она пожалела, что в доме нет ребенка или животного. Все было тихо. За дверью, в спальне, тоже. На кухне Людмила возилась с завтраком. Внизу жила старая драматическая актриса с молодым любовником. На углу была мелочная лавка. Земляника. Яблоки. Дальше был город, в котором жили чужие и знакомые. Рассказывать о Саме было совершенно некому. Если бы здесь была собака, какой-нибудь пес – Дианка или Джек или как их еще зовут обыкновенно? Она бы села с ней куда-нибудь в угол – в темный угол, их много в квартире, – рассказала бы о Саме, о себе, о том, как он появился в ее жизни и что это было. Никого. Она прокралась в гостиную, все продолжая капать слезами вокруг себя. В гостиной было всегда темно и всегда – даже летом – холодно. Из кухни доносилось какое-то танго, которое играли в ресторанах лет пятнадцать тому назад. Тихо. Как это говорится: «И не ударит Божий гром?» Нет, не так. Вот сюда она села бы, стала бы смотреть в пустой громадный камин. Она даже представила себе, как бы начала свой рассказ. Она бы сказала:
«Он появился однажды, перед вечером…» – и так далее.
И это было бы приблизительно так.
III
Он появился в суховатый морозный день, перед вечером. Воздух чисто и остро пахнул петербургской зимой.
Под деревьями, между черными стволами, где первый снег так и оставался лежать до первых дней весны, куда дети Таврического сада бегали прятаться или за маленьким делом, ничком лежал мальчик лет десяти и не плакал.
– Тебя запрут, – из жалостливого озорства крикнула Вера, не зная, кто это. – Пора домой!
Но мальчик не двинулся. В быстро падающем вечере была видна его отброшенная рука.
– Верочка, да ведь мальчик-то замерз! – воскликнула Настя и побежала, полетела по снегу под деревья. – Мальчик, мальчик, Царица Небесная! – красной, жесткой ладонью она вдруг забила его по щекам, потом схватила снегу и безжалостно растерла ему лицо. А кругом по-прежнему не было ни няньки, никого.
Мальчик откачнулся в Настиных руках, открыл глаза, распустил рот и приготовился заплакать.
– Чей ты? – спросила Настя, комкая ему руки, нахлобучивая шапку. – Где живешь?
– Я – Сам, – сказал мальчик.
– Чего это ты «сам»? Где живешь? Ну!
Мальчик заплакал, пряча веснушчатое толстогубое лицо.
– Это его так зовут, что ли? – сказала Вера и сделала два шага к нему.
– А ты его знаешь?
– Нет, он чужой.
– Так надо поискать кого-нибудь, кто с ним, не один же он пришел, он богатенький, погляди на шубку, башлычок, ручки чистые. – Настя поволокла Сама к дорожке. – Да кто с тобой? Мадмазель? Какая? Да что ж ты такой слабоумный!
Вера медленно пошла за ними.
Однажды к ней в комнату залетел воробей. Была весна, и растворили майковскую первую раму. Воробей, пометавшись по комнате, попался наконец в руки, и Вере дали погладить его теплую твердую головку; потом он выпорхнул обратно в небо, и стало ясно, что он не вернется больше никогда, что его невозможно даже отличить от других таких же воробьев, тревожными стайками прилетающих на городской двор, что нельзя в жизни все знать, все иметь, всех любить и всему радоваться. И глядя вслед Насте, уводившей Сама по бугристой натоптанной дорожке, Вера спрашивала себя, можно ли будет узнать и полюбить этого мальчика и радоваться ему, можно ли будет сохранить его для себя одной?
Он был чужой, она до сих пор его в саду не видела; «свои» – это были дети с площадки, которые испокон веков были на «ты» друг с другом, менялись салазками и по двое бегали секретничать на мостик. Сам был мал для них, но то, что он оказался сегодня один в темнеющем снежном саду, придало ему вдруг таинственную, героическую прелесть – несмотря на его слезы, всхлипы и перепуганный вид. Его новенькие боты оставляли маленькие следы в лиловом снегу; раза два он по требованию Насти громко позвал кого-то, обращаясь к деревьям, к снежной тишине. В голосе его дребезжали слезы. А кругом не было никого, воздух искрился и молчал. И Вера шла и думала, какие у найденного мальчика рыжие волосы, до сих пор она думала, что рыжими бывают одни девочки…
Бережно обошли они весь этот угол сада, дошли до ледяных гор, до катка, где поздние катальщики, румяные растрепанные девочки и горлопаны-гимназисты сводили счеты на звонком льду катка.
– Я думаю, с ним дурнота была, – сказала Настя, оглянувшись на Веру. – Потому он ничего и сказать не может. Сторож его в участок отведет. – Мальчик шел все медленнее и начинал заметно дрожать.
Теперь все трое шли к выходу, к сторожевой будке, где на лавочке, глухой и сонный, сидел сторож. Сторож Настю знал.
– Французинка, гувернантка, – ворчал сторож, – за детьми приглядеть не умеют. Коченеет сыночек, ему бы тепленького испить. Адресок оставьте свой, Настасья Егоровна, берите его. Экой случай! Небось хватятся…
Но Настя побоялась уводить мальчика и тоже присела на лавочку: неужели так никто и не придет за Самом? Становилось темно и холодно, пора было запирать решетку. Мальчик дрожал все сильнее, и было видно по его лицу, что не все еще слезы выплаканы.
Вера стояла поодаль, стараясь услышать, о чем говорят, стараясь рассмотреть мальчика до последней пуговицы.
– Да как же ты улицы своей не знаешь? А еще мальчик! – укоряла Настя. – Эх ты, кавалер на обратный манер!
Безжизненное лицо Сама на мгновение засветилось мыслью, потом он снова впал в прежнее свое безразличие. Только краска появилась в лице и придала ему надутый, напряженный вид.
– Позвольте вас пригласить к нам, – сказала Вера, подходя вприпрыжку. – А потом все устроится.
– Дура, – не разжимая зубов, выжал Сам, набравшись храбрости.
Но больше оставаться в саду было нельзя. Дорожки ушли в черный вечерний мрак, последними прошли подростки с катка, гремя коньками. Сад приготовился к ночи и одиночеству, а улица за воротами вся была в огнях, и пропало небо, откуда – из ничего – слетали иногда отдельные снежинки. Настя взяла Веру и Сама за руки и решительным шагом перевела их через мостовую. Сам был взят в плен, и Вера, косясь глазом, все время незаметно следила за ним. Так они шагали, и было беспокойно, было тоскливо, и сердце истекало неизвестностью и грустью.
На звонок открыла кухарка, и в переднюю, шурша канаусовой юбкой, вбежала мать: что так поздно? Чужой мальчик шагнул в переднюю, и она удивилась, увидя мальчика.
«Он пойман!» – думала Вера. Надо осмотреть двери и окна, чтобы не выпустить его, оставить для себя, на память об этом синем, обыкновенном зимнем дне. Он станет жить здесь, и больше не будет пустой эта детская жизнь – только бы он не вспомнил, откуда он, с какой улицы, из какого дома. Это она нашла его, и теперь оставит себе, и все отдаст за него: игры, и книги, и много обещанных радостей; этот рыжий мальчик станет ее собственностью.
А Настя говорила без умолку, и ахала кухарка, пока Сама раздевали и вели в столовую, прямо к горячему молоку, приготовленному для Веры. И Сам шел, как заведенный, опустив голову.
– Улицу, улицу помнишь? – спрашивала мать, подхватывая прядь светлых волос под гребень. – Да что же ты все молчишь, не бойся, не плачь, вспомни… Ах, Боже мой, что у него сейчас дома делается, воображаю. Мама есть у тебя?
– Есть, – сказал Сам и потянул носом.
– Фамилия твоя как? Как папу зовут? Вспомни, голубчик, милый, ну подумай, ведь ты совсем большой.
Опять какая-то мысль озарила Самино лицо. Он сделал усилие, задержал дыхание и, опрокинув чашку, заливая вокруг себя скатерть молоком, почти крикнул: «Адлер!» – и вдруг покатился смехом, звонко, чисто, будто звенел колокольчиком, и на мгновение замолк, и снова рассмеялся, и уже не мог остановить колокольчика: трезвон перешел в рыдание, в хохот, в долгую громкую истерику, во время которой он судорожно начал биться между стулом и столом, слезы текли у него по лицу, грудь в матроске разрывалась от плача. Его схватили, понесли куда-то, и там заметались, ища валерьянку, и, найдя, осторожно покапали ею на кусок сахара.
Разгадка приблизилась, и Вера, стоя у кровати, на которую уложили мальчика, сдерживая слезы, смотрела на то, что происходит. У матери находились одно за другим нежные странные слова, которые Вера, пораженная, слушала с тайным упоением. С ней говорили совсем иначе: во-первых, она была девочкой, и никто никогда не называл ее дружком, голубчиком и дурачком. Во-вторых, она никогда так страшно не плакала, никогда ничем не болела, и над ней, среди бела дня, никто не хлопотал, озабоченный и ласковый.
– Настя, телефонную книгу! – крикнула мать.
Разгадка приближалась. Вот еще немного, и вещая книга выдаст все, Сам вернется в потерянный дом, и Вера останется одна, как прежде. И потому надо спешить. Пока мать листает страницы, Вера подходит к Саму и тихонько наклоняется над ним. Она проводит пальцами по его мокрому лицу, трогает губами его волосы и чувствует, что он пахнет знакомым, птичьим теплом.
– Адлер, Александр Семенович, Большая Дворянская, дом 21, – читает мать, нет, это должно быть гораздо ближе… Адлер, Альберт Григорьевич, корсетная мастерская – не похоже… Верочка, что же мы делать будем? Постой! Адлер, Борис Исаевич, присяжный поверенный и присяжный стряпчий… и на нашей улице, гляди! Дом номер 7 – напротив. А ну-ка, вставай, лежебока, может быть, ты дом узнаешь, а нет – в участок позвоним.
Отодвигают холодную тяжелую штору, на подоконнике искрится снег, и дышит холодом черное стекло. Там горит фонарь, люди идут по снежному тротуару. Сам неподвижно стоит с опухшими щеками и смотрит туда, где напротив – окно в окно – горит люстра в красном доме.
И тогда вдруг поднимаются заплаканные веки, круглятся зеленые глаза. Сам раскрывает рот, и видно, что вместо молочного, выпавшего, уже растет у него сбоку тупой и сильный настоящий зуб. Он все вспомнил, он вздрагивает и обводит глазами комнату, он даже пытается объяснить, что с ним иногда бывают такие обмороки, после которых он забывает все. Он сразу делается почти взрослым. Скорей, скорей, звонить домой, маме, – он брызжет слюной в Веру, шаркает ногой то в одну сторону, то в другую, благодарю вас, спасибо, пожалуйста – других слов он не произносит, он просит простить его за беспокойство и, наконец, бежит к телефону.
Вера остается одна, пока из столовой доносится Самин голос, повзрослевший, уверенный и чистый: да, мамочка, нет, мамочка, хорошо, мамочка. Дом напротив, как корабль, причалил к Вериной пристани, кажется, что еще утром на месте его был пустырь – его выстроили в один час, населили людьми, о которых вдруг стало так много известно, и мальчик, из неведомой дали приплывший, оказался попросту соседом – и его ни приручить, ни удержать нельзя. Сейчас за ним придут и возьмут его.
В передней позвонили, и Вера выглянула туда. Там стоял невысокий плотный господин в бобровой шубе, в золотом пенсне, распустив концы белого кашне по обеим сторонам груди. От него пахло свежими крепкими духами. Он уже прижимал к себе и тискал Сама, на которого и мать, и Настя старались натянуть шубу.
– Извините за беспокойство, и спасибо, спасибо от себя и от жены. Ах Господи, ну что за мальчик! С ним это бывает, но Вяжлинский сказал, что пройдет… Мадемуазель новая, по улицам искала его, топиться хотела в проруби. А мы – ну просто в отчаянии были, золотко мое! Вяжлинскому верю, как Богу. Крючком застегни, у воротника… Спасибо еще и еще, от всего сердца спасибо.
Сам, довольный и уверенный в себе, вертелся перед Настей. Когда он подошел к Вере, он вдруг стал важен и отвел глаза в сторону – она была чуть выше него, и, чтобы взглянуть ей в лицо, ему надо было взглянуть вверх.
– Благодарю вас, – сказал он и поковырял варежку.
– Да. Вот как! – вздохнула Вера без улыбки.
– Приходите к нам в гости, – сказал Сам, внезапно решившись вскинуть глаза и багровея.
– Когда? Сейчас? – растерялась она от радости. Он взглянул на отца.
– Проси завтра днем, к чаю с пирожными. Какая хорошая девочка. Ай, какая у ней косица!
В это время Сам потянулся к Вериному лицу и, чиркнув мягким носом по ее щеке, поцеловал воздух около ее уха.
Она оставалась стоять, когда дверь захлопнулась и мать, почему-то строго взглянув на нее, потушила в передней свет. Не было в мире такого замка, которым можно было бы удержать в доме чужого мальчика, не было такой силы, которая дала бы Вере возможность увести его к себе, посадить, сесть самой рядом, и смотреть на него без конца, на его веснушки, на его матроску, и слушать его, и говорить ему все, что взбредет на ум, и гладить его. Он не понял, что такое Вера, и выдал себя, он не захотел жить на свете ради нее одной, и от всего этого страшного и необычайного приближения осталось одно: она могла теперь смотреть часами в окно через широкую зимнюю улицу, которая с этого вечера – как этот город, как мир – стала тоже немножко ее собственностью.









































