Текст книги "Без заката"
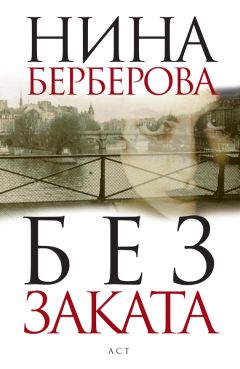
Автор книги: Нина Берберова
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
IV
Приготовления начались с утра: была надета чистая рубашка, вышитая городками, и штаны, которые хрустели, как картон; самые тонкие (и все-таки толстые) рубчатые чулки, платье, отглаженное Настей, башмаки на пуговицах, которые скрипели и блестели так, что не заметить их было нельзя. Звонко выполоскав зубы, Вера несколько раз перевязала ленту в косе – на самом конце: коса выглядела длиннее, у затылка – Вера казалась взрослее. Перед самым выходом она решила почистить ногти и сделала это чистым стальным пером. К зеркалу она подошла всего раз: посмотреть, чист ли нос? Она без зеркала прекрасно себя знала и высокого мнения о себе не была.
– Люди, которые нам не компания, – сказал отец, посмотрев на противоположную сторону улицы, где плыл, и сиял, и звучал Самин дом. Но это было сказано, конечно, о господине Адлере и его супруге – Сама отец не знал, как знала его она. И вот в столовой бьет три часа, Настя накидывает на голову платок, закрывающий ее до колен. Мать завязывает Вере капор, холодными нежными пальцами задевая ей лицо.
– Обратно придешь, когда почувствуешь, что надоела. Не позже половины шестого. Я буду стоять у окна и смотреть.
Вера летит вниз, потом по снегу через улицу, в подъезд. Швейцар запирает Веру и Настю в лифт; протяжно вздыхая, лифт поднимается на площадке – зеленые лопасти искусственных растений. Тишина. Снег начинает валить за окнами – гуще, гуще…
Дверь открыла горничная, но не на горничную смотрела Вера, а на длинноногую особу в розовом платье, в черных локонах, с тонким треугольным лицом. «И это тебе не компания», – подумала Вера: особе на вид было по крайней мере лет пятнадцать. Она тоже смотрела на Веру, но не здоровалась и насмешливо поводила бровями. Перед тем как позвонили, она надевала боты, и теперь, обув одну ногу, захромала в комнаты и бесцеремонно крикнула:
– Самуил! К тебе толстая девочка пришла.
Потом вернулась, равнодушно оделась, перетянулась пояском и, помахивая горностаевой муфтой, ушла одна, как взрослая – нарядная, стройная, холодная.
И тогда раздался топот по коридору. Он кинулся на Веру с какой-то смешной медвежьей прытью, нервно, но все-таки не совсем по-вчерашнему хохоча, потом бросился к Насте, красный, довольный, что и она тут, и потом отступил на шаг, любуясь, как старенькая мадемуазель в очках на крошечном носу жмет Насте руку и благодарит за вчерашнее. И когда Настя, смутясь до какого-то не во время оброненного смешка, убегает, он еще раз виснет на Вере. Она стоит как столб, сияя от счастья, не зная, можно ли его обнять? И только когда в детской мадемуазель оставляет их (она заранее решила, что так будет лучше, что в этом «система») и они, наконец, одни, Вера стискивает Самины плечи и они хохоча валятся на диван – огромный, старый, похожий на обошедший три раза вокруг света плашкоут.
Они лежат поперек, свесив четыре довольно схожих ноги, смотрят в потолок и разговаривают.
Она все еще боялась, просыпаясь ночью и нынче утром, что не будет времени все рассказать о себе и услышать о нем: десять лет жизни врозь! Хорошо, что не двадцать, не тридцать. Она боялась, что не успеет околдовать его, как вчера не успела, что время, так медленно приближавшее ее к трем часам, хлынет потом водопадом, и придется уйти домой, не досказав, не дослушав. Но как только они оказались одни в большой Саминой классной и она почувствовала, что он лежит рядом, что вот его рука – с маленькими потными пальцами, вот – лицо, еще не до конца рассмотренное, но такое любимое, с пятном слившихся веснушек на скуле, с черненькой ноздрей, с глазом, смотрящим на нее весело и нежно, – как только она почувствовала, что они вместе, она удивилась наплыву радостной уверенности, что все будет именно так, как ей мечталось. Больше всего ее удивляло и делало счастливой то, что огромные круглые часы над их головами мерно и звучно тикали, никуда не срываясь, что Сам никуда от нее не бежал, что никто не входил и не указывал, что им делать. И все это в душе она называла счастьем, потому что оно длилось.
Сам начал издалека – от первых своих дней, когда он родился таким маленьким, что его можно было рассмотреть только в лупу. Потом он вырос в вершок, потом в два вершка, потом в пять. Он рос от земли, как деревцо, только с ногами – он хорошо это помнит и уверяет, что все люди – и Вера, конечно, тоже – растут от земли. «Не может быть!» – удивляется она.
– Неважно, откуда они выходят, – на всякий случай говорит Сам, намекая на мамин живот, – важно, что выходят они совсем малюсенькими, так что их почти не видно, и потом быстро-быстро-быстро, в один месяц, вырастают в аршин, но начинаются все от земли.
– Не может быть! – повторяет Вера, вытаращив глаза, сколько возможно.
Да. И он хорошо помнит, как он был двухвершковым: его купали в полоскательнице, и однажды, гуляя между чашками по столу, он упал в варенье. Папа носил его в кармане фрака в суд, а спал он в ночной туфельке сестры Полины.
Вера глотает в горле хохот и говорит:
– Это, конечно, очень возможно, но наверное сказать этого нельзя.
И тогда Сам вскакивает с дивана и кричит:
– Да ведь это я все выдумал! Да ведь этого быть не может! – и счастливый кидается обратно.
Правда о его памяти состоит в том, что он вообще ничего не помнит, кроме музыки, да еще он может в уме множить цифры, но это доктор ему запретил. В детстве, когда ему было три года, он болел менингитом. Однажды, когда он выздоравливал (это было гулкой весной, и вот это самое окошко было открыто), по улице шел полк солдат, тихо шаркая по мостовой, и вдруг сорок трубачей грянули военный марш. Говорят, он закричал так страшно, что у него пошла носом кровь. Потом с ним был обморок. Теперь обмороки бывают все реже.
Когда он рассказывал ей о своей болезни, он не оправдывался во вчерашнем, но и не хвастал загадочностью своей, а просто признавался в чем-то немножко неудобном и для него роковом. Вот и шкапик с лекарствами – собственными, его, – стоит тут же в классной. А это – книги, тоже собственные. А это – скрипка.
– Я – скрипач. А ты кто?
И Вера машинально отвечает ему:
– Я – никто.
Он продолжает свой рассказ. Она слушает жадно, ей кажется, что нельзя пропустить слова, что ему надо выговориться. Она поднимается на локте и долго смотрит на него, рассматривает его губастое лицо, которым он гримасничает в ее сторону. Она внимательно слушает, и ей кажется, что вчерашнее ее колдовство над ним не пропало даром. Он будет принадлежать ей. Он будет принадлежать ей.
После чая в угол гостиной, образованный портьерой окна и портьерой двери, они натаскали подушечек со всей квартиры – кожаные, кабинетные, шелковые, будуарные, – взяли у живущей на покое нянюшки клетчатый платок, розовый коврик от Полининой постели и устроили себе пещеру, сколов булавками и кнопками какие-то простыни, пледы и шторы. И когда кончили эту постройку, уселись в темноте усталые, довольные и молчали. И потом опять потекли слова, кто-то изредка проходил по комнате – мадемуазель, помощник Бориса Исаевича, – поглядывал в их сторону, но не приближался и ни о чем не спрашивал. Над роялем горел канделябр – к ним едва проникал его свет. Становилось жарко. Рассказывала Вера. Самым удивительным было то, что она была нестерпимо, невероятно счастлива сидеть так и рассказывать. А он, маленький, сидевший почти на полу, подпершись обеими руками, слушал – и иногда было невтерпеж обоим от радостного клокотания в груди, и они заливались смехом, так, по неизвестному поводу.
Рассказ шел об отце, о матери, о дедушке, который с ними жил. Рассказ шел о последнем лете в деревне, о лошадях, коровах, собаках (Сам боялся животных и никогда не трогал). Потом о книгах, о мечтах, о многом. И после опять было молчание. Пока вдруг где-то близко, тонко и чисто, не пробило шесть часов.
Вера почувствовала, как у нее отнимаются ноги от ужаса. Она с трудом вскочила. «Куда? Уже? Ты только что пришла!»
– Мне попадет, – сказала она откровенно.
Но оказалось, что давно уже все улажено по телефону. Вера не вернется обедать и вечером тоже… Она, не он, была в плену.
Она теперь ходила по огромному кабинету Бориса Исаевича, садилась то в одно кресло, то в другое; шла в гостиную, где висели пестрые картины и над мраморной голой женщиной зажигался маленький рефлектор, бросавший белый свет на закинутые руки и желтый полусвет на ковер, на голую женщину с противоположной стены смотрел Лев Толстой из черноты траурной рамы. Малиновый бархат тек по окнам, по креслам, мешаясь с пурпуровым атласом, по роялю, Вера плыла, она уплывала все дальше по огромным нарядным комнатам, и было странно подходить к окнам, поднимать вышитый тюль и видеть – словно смотреть из окна в явь – все ту же улицу, на которой – с той стороны, вон в том окне – так долго жилось и мечталось о таком вот именно дне. Сам ходил за ней следом, стоял с ней рядом. Опять они забирались в угол, куда кто-то принес им тарелку с финиками. Они садились на подушки. Все продолжались рассказы. Дедушка был совсем старый и лицом похож на татарина; дедушка уже давно болел и мог скоро умереть.
– И я послежу, когда он умирать станет. Непременно. Я хочу узнать, как это бывает. Такой случай! Ты подумай! Я подсмотрю, я все узнаю.
– Что же ты узнаешь?
– Про то, как умирают.
– А когда это будет?
Они шептались.
Их за коврами не было ни видно, ни слышно. Когда Борис Исаевич вернулся домой, их позвали обедать.
– Где дети?! – спросил он, мелким и быстрым своим шагом пробегая по гостиной и радуясь беспорядку.
Они вышли из своей полутьмы. «А!» – закричал он и замахал руками. В руках были пакеты. «Здравствуйте, барышня. Ну как? Нравится вам у нас?» Из-за спины его вдруг выходят полное собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя и пара сверкающих холодных коньков. «Это – вам-с».
Праздник продолжался. Опять они были в столовой. К обеду были гости: известный певец, господин с длинной черной и узкой бородой, никому не дававший сказать ни слова, какие-то дамы. Все сливалось для Веры в тумане: мадемуазель, и длиннолицый помощник, и Полина – все сливалось, и только его лицо с заговорщицкими, лукавыми, зелеными глазами было перед ней, красный вихор над лбом, дыра вместо зуба в улыбке, шепот: «Ты битые сливки любишь? Однажды я шваброй набил ванну сливок, просидел в ней всю ночь, а потом их съели…» И хохот в салфетку, и церемонный глоток из стакана – воды, разбавленной вином, – волшебный напиток!
Где она? Почему она здесь? Что с ее сердцем? Не оно – вся она клокочет и бьется незримо для других – сама в себе – от дикого, чудесного ощущения жизни. Заговор дружбы.
– По губам понимаешь? – тихо спрашивает она через стол.
Он кивает, глядя ей в рот. Горничная из-под его руки уносит недоеденного им рябчика.
– Заговор дружбы, – читает он у нее на губах.
– Наш пароль, – отвечает он так же. – Сделай что-нибудь, чтобы его закрепить.
Она кладет себе в рот корочку черного хлеба. Он делает то же. Вместе, одновременно, они проглатывают и понимают друг друга.
– Мама, я не хочу, чтобы она уходила, – говорит он после обеда.
– Она и не уйдет. Папа поведет вас в театр. Мы уже сговорились по телефону.
Как, еще? Мечется снег под фонарями, лошадь смирно подрагивает под синей сеткой, отстегнута полость. Борис Исаевич первый влезает, в бобрах и духах, втягивает за собой в сани Веру и Сама. Быстро подоткнута полость, вьется облако пара, мутнеют часы на поясе кучера. Вера ставит обе ноги (думая, что это скамеечка) на неподвижную ногу Бориса Исаевича. Она сидит в середине, спрятав руки. Сам валится на нее на поворотах – она чувствует его плотную тяжесть; он дышит на нее теплом, она жмурится. Лошадь рвет снег копытами; большая меховая рука Бориса Исаевича зажимает ее и Сама сзади. Кто у кого в плену, она у Сама или Сам у нее? Неизвестно. Только пусть это длится, потому что – счастье.
И это длится. Все дальше и дальше. Этому нет конца. Ветер режет лицо, в глазах сквозь слезы мечутся какие-то огни, рука зажимает обоих все крепче, все теплее. Борис Исаевич изредка покрякивает, у него индевеют усы и вместо пенсне на глазах – два снежных кома.
– Не холодно, золотки? – спрашивает он, но Вера не отвечает, а Сам не слышит. Ей кажется, что она летит по воздуху и громко поет, ей кажется, что сейчас она расколется и из нее, из груди ее, из полотняного на полотняных пуговицах лифчика, вылетит к Богу ее душа.
И в ту минуту, когда сердце готово разлететься вдребезги, внезапно отпускает рука за спиной, прекращается ветер. Они у подъезда театра.
V
«Неужели это та же вода, – думала Вера, закручивая кран в ванной, – та же, которая в пруду, реке и море? Эта вода какая-то сделанная».
Ванна была готова, и Вера с опаской села в нее. Мать сейчас же со смехом выжала ей в лицо губку, и Вера, фыркая, легла в воду, воображая, что уплывающая от нее мочалка и есть тот чудесный необитаемый остров, на котором поселится большой палец ее правой ноги.
Ванная колонка продолжала гудеть от ветреного жара, и в красной ее меди плавился электрический свет, росистый пот стекал по стенам, и в горячем пару Вера, закрывая глаза, облепляла себя мыльной пеной и терла, терла мочалкой до красноты свой живот. Потерев, смиренно подставив под синий кувшин все свои позвонки и выждав, пока стечет вода, она вылезала, задыхаясь в накинутой на нее толстой простыне, и с трудом, словно внезапно увеличившись в размере, натягивала чулки, теплое белье, коричневое свое платье.
Тогда вынималась из волос одна-единственная огромная кривая шпилька, державшая все это время ее гладкую холодную косу, вытиралось розовое курносое лицо, и Вера, чуть поскрипывая высокими башмаками, с сонной слабостью в коленях, переходила к себе в комнату и утыкалась в книгу, а в ванной в это время метла, тряпка и щетка мыли и терли следы Вериных брызг и, булькая, уходила в далекое и душное странствование все та же вода.
Потом с грохотом приносилась из кухни новая вязанка березовых поленьев, и снова начинался треск и гуденье; мать повязывала волосы платком, вынимала из-под капота сиреневый корсет с двумя чашечками для груди и запиралась. Вера откладывала книгу.
– Мама, пусти.
Раздавался смех и плесканье.
– Я уже… я уже сижу.
– Почему ты опять заперлась?
– Чтобы ты не вошла.
– Почему?
– Потому что мне тебя стыдно.
– А летом в море?
Смех, опять плесканье.
– Ну, в море это другое, там все голые, а тут я одна.
Вера пытается заглянуть в замочную скважину: там виден белый локоть, летающая вверх и вниз пенная мочалка.
Внезапно что-то летит по воздуху и повисает на ручке двери. Ничего не видно. Это значит, что мать уже ступила на коврик маленькой своей ногой. И вот она начинает тихонько петь, и слышно, как что-то близко от Веры скрипит и дышит.
Она пахла, как пахли когда-то молодые женщины, никогда не употреблявшие ни духов, ни притираний и носившие подкрахмаленное белье. На теле у нее не было ни единого волоска, не заметно было ни одной косточки; и без сиреневого корсета тело ее сохраняло форму амфоры. Самым неприличным считала она показывать ноги (когда на ветру загибалось платье), а на балы выезжала с оголенной грудью – такова была мода.
Вера становилась ей тяжела, но она все продолжала сажать ее к себе на колени, удивлялась, как мало похожа ее громоздкая дочь на нее. Они обнимались тогда сладко и длительно, прижимались друг к другу с нежностью, целовались долго и звонко, признавались друг другу в огромной, вечной любви.
– Да ты понимаешь ли, что это такое? – спрашивала мать, держа Веру близко подле себя. – Да ты понимаешь ли, что пока я жива, ты у меня как на ниточке: я всю тебя чувствую, я сны твои знаю, я всякую твою мысленку угадываю. Понимаешь ты это?
Вера кивала, верила этому и не верила. Ей казалось, что у матери душа сделана из топленого жемчуга и даже цветом похожа на него.
– Дедушка говорит, что у тебя женихи по всему свету раскиданы, – говорила она.
Мать принималась хохотать, розовела, ловила падающие из-под гребня волосы.
– А ты дедушке не верь.
Но на самом деле это так и было: четверым отказала она, прежде чем выйти замуж, и эти четверо, один за другим, исчезли из ее жизни, неизвестно куда.
– А вдруг они найдутся?
– Ну так что ж!
Ах, как она произносила эти слова. Они приходили ей на уста нечасто, но зато, когда приходили, выдавали всю ее душу: такой, должно быть, была она когда-то, когда отказывала тем четверым. Такой, наверное, останется на всю жизнь.
Она пахла миндалем, а волосы ее – чем-то терпким, особенно только что вымытые, и тогда тем же терпким пахло и в ванной, и даже в комнатах, где она сушила свои длинные, волнистые пепельные пряди. Настя выплескивала в ведро мыльную пену из огромных узорных тазов, она наклонялась, и гремели в ее руках кувшины, переставляемые на залитом водой блестящем полу.
И такой гладкостью и свежестью светился тогда – без единой морщинки, без единой заботы – материнский покатый лоб, что Вера вырывала из маленькой книжки матовый листик пудреной бумаги и вытирала ей лицо, чтобы не так смешно блестело.
Обнимались они обыкновенно в креслах, в спальне. Двоилось сердце между любовью ко всему миру и любовью к матери. Обыкновенно это бывало между вечером и ночью – и, право, неважно было, как люди называли этот час. Там, в окне напротив, горела люстра – как каждый вечер у Сама в классной на окне висел матерчатый петух – знак, что Сам дома. Отец читал в столовой. Дедушка иногда тащился к ним и молча сидел, смотрел на них и вздыхал, совсем старый, подорванный болезнью.
– Дедушка, – кричали ему в ухо (все звали его так, даже Настя), – что сегодня болит?
И он, улыбаясь, показывал то на неживые свои ноги, то на ревматические руки. Вера всегда ждала от него чего-то неожиданного – Бог весть почему! Однажды дедушка улыбнулся своей обычной улыбкой, да так и остался месяца на два – неподвижный, немой, с перекошенным ртом. Потом опять поднялся на свои скрипучие отекшие ноги и пошел бродить. И все это – и смерть, которая вот-вот должна была дедушку осилить, – ничуть не казалось Вере ни мрачным, ни страшным: она считала это таким же естественным, как то, что сама она здорова, живет и будет жить долго.
Долго. То есть почти вечно. Снег, который она слизывала с обшлага, был пресен, как просфора, но солнце, в день неожиданно очень, очень длинный и светлый, жгуче растопило его. Оно топит все, топит город; веет ветром с моря; чавкает улица; слетает в воздух капель, и вот уже набухает Таврический сад водой, листвой, щебетом, и на мостках пахнет Фонтанкою, плесенью, Сам уверяет: Венецией. Это – весна.
Сам был в Венеции, он был в Ницце, в Биаррице, в Швейцарии: папа любит Италию, мама – Тироль, Полине нравится Франция. Но он забывал звучные, нарядные названия, где было столько ц, помнил то запахи, то погоду, то музыку: знаменитого скрипача в коротеньких штанишках (Париж), симфонические концерты (Вена); или еще свою болезнь – тяжкое следствие детской кори, которая ползимы продержала его с матерью в Берлине.
Бывали дни, когда он почти не мог говорить от непонятного мозгового утомления. Математика была ему запрещена. По утрам к нему приходил учитель, который в следующую затем зиму поселился у Адлеров, сменив мадемуазель. Предметы, которым учился Сам, были вне всякой классной программы, никаких экзаменов он никуда не держал. Учитель просто рассказывал ему всякие любопытные вещи, которые он или очень скоро забывал, или неузнаваемо в воображении переделывал: о людях, разных стран и разных времен, о жизни земли, о слонах, о звездах, о человеке, о русской политике. Два раза в неделю Сама возили на урок к Ауэру.
Труднее всего было для Веры привыкнуть к скрипке. Сначала она только удивлялась его игре, ничего в ней не слыша. Сам при ней играл, впрочем, довольно редко: в те часы, когда он занимался, она не приходила; вечером, когда у Адлеров бывали гости и Сам, по просьбе матери, играл, Веру не приглашали. По воскресеньям, когда она на целый день уходила к Адлерам, он иногда брался играть. В первое время она только поражалась беготне его пальцев по грифу и силе и точности правой руки; однажды она услышала какую-то мелодию в том сложном и быстром, что он играл. Она ей очень понравилась, до сих пор музыка казалась ей делом слишком важным, чтобы быть делом душевным, ко всему, что было слишком душевным, Вера относилась с некоторым смущением: к цыганским романсам; к весьма печальным речам господина с узкой черной бородкой, бывавшего у Адлеров, – речам о России, о Будущем, о Человечестве; к клятве в верности, данной ей одной знакомой девочкой – ненужной и смешной; к открытке, прикрепленной Настей в людской: господин и дама, сросшись лбами, опустили глаза, рассматривая цветок.
Но скрипкой душа ее была задета по-иному: это было похоже на то, как налетали иногда стихи, как налетала молитва или просто – безымянный восторг при виде звезд в небе, цветов в поле. Говорить же об этом было нельзя.
Да и некому. Когда они сияли ночью над головой, когда из сада тянуло левкоем, долгим летом, Вера бывала одна – Сам нечасто писал ей с берегов теплого моря, а она не очень-то умела выражать свои мысли на бумаге. Она ждала зимы, матерчатого петуха в окне, хитростью выкроенных из детских, туго набитых учением и чтением будней, переглядываний, знаков, телефонных разговоров (до полного онемения ушей), встреч. А пока, отложив книгу или задачник, она шла пускать змея в сад, куда приходили две девочки-двойняшки, считавшиеся почему-то ее подругами и жившие на соседней даче.
Летом она успевала разглядеть жизнь вокруг себя – зимой на это не было достаточно времени, – жизнь сада, двора, поля. Летом она вырастала, менялась. И от всего было ей весело – и от приезда, и от отъезда, и от собственного роста, и от постоянного аппетита, и от ровного загара. Дня за два до отъезда в город она пошла с Настей в лес, вспомнив, как она сюда выбежала три месяца назад, в первый день приезда в деревню, как не могла вдосталь наглотаться этого воздуха, и как теперь при мысли об отъезде она опять не знает, чему она рада? И все было хорошо: и дача, и Петербург, и лето, и осень, и последние астры на клумбе, которые срезали в последнюю минуту и которые подхватила мать, и извозчичья пара, куда усадили деда, и весь в мухах и плевках досчатый вокзал, окруженный хлебной и лесной сонью, куда налетел курьерский и скучные, невыспавшиеся пассажиры (вчера вечером – из Москвы), потеснившиеся, чтобы дать место дачникам.
Сквозь этот курьерский проходила Вера в зиму. С влажным буйством кружились в Таврическом листья, сухие сучья наводили тонкий узор на бесцветное, бледное небо. Теплый поток гольфштремного воздуха стынет, сыплется с шуб жирный нафталин, раскатывается потертый ковер. Пылает, стреляет искрами печка. И однажды, когда Вера возвращается из школы, она видит: в доме напротив моют окна, смывая с них мел и нарисованные Самом еще весной рожи; там снимают с окуклившейся люстры чехол. И через два дня Сам звонит у двери: как он худ, как дурно загорел, как невероятно резко и болезненно вырос!
Мимо громадных, как будки, старых шкапов отправляются они в тесную Верину комнату, где, как и во всей квартире, пахнет слегка кухней и табаком – и с этим ничего не поделаешь.
– Дедушка еще жив? – спрашивает Сам и садится к столу, заклеенному клякспапиром, а она – на табуретку у окна, быстро окинув взглядом комнату: все ли в порядке? – постель под пикейным одеялом, умывальник с педалью, два портрета на стене: Пушкина и бабушки.
– Как хорошо, что ты вернулся! – говорит она. – Как хорошо, что осень. Пушкин тоже любил осень.
Он кладет локти на стол, глаза его делаются узкими и темнеют.
– Я буду держать экзамен в консерваторию, – говорит он. – Экстерном. А Полина чуть замуж не вышла.
Вера всплескивает руками. В Самином напряженном и непохожем на правду рассказе Вера видит далекий берег, белые камни, пальмы в три обхвата, длинную красную лодку и шумное гнездо кричащих чаек в скале; Вера слышит ночную музыку в тесных переулках, вьющихся между мраморных отелей и дальше, тишину, где кончаются бедные, грязные, плоские, как тюремные стены, дома и начинается холмистая итальянская земля, все выше, все круче, все прохладнее: вот за тем поворотом необходимо запахнуться, а за следующим – повязать на шею шарф. Навстречу спускается осел, острыми копытцами нащупывая крутой щебень. Серебрятся оливковые рощи по обеим сторонам дороги, и вот льется золотое-золотое – девяносто шестой пробы, честное слово солдата! – золотое вино в толстые стаканы. И кипарисы недвижны на высокой горе, где, помнишь, Гектор Сервадак откололся с куском земли и полетел в пространство, у Жюля Верна.
Сам переставил ее вещи на стол, сломал тонко очиненный карандаш, поковырял будильник. Потом положил рыжую голову на стол, на Верины тетрадки, и вдруг заснул. Это бывало с ним. Господи, чего только с ним не бывало!









































