Текст книги "Без заката"
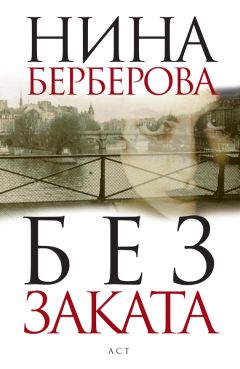
Автор книги: Нина Берберова
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
XIV
Был шестой час утра, и еще совсем темно. Облака закрыли луну. Морозило. По снегу, неслышно, Вера пошла по направлению к дому, ходьбы было минут десять, и в эти десять минут она не встретила ни одной живой души. Ей даже пришло в голову, что законом запрещено ходить по Петербургу в этот час. Она вспомнила, что еще недавно у этого заколоченного досками кооператива сняли с прохожего шубу – об этом рассказывал отец. Но страха она не чувствовала. Ей даже нравилось, что она одна, совсем одна, в широких пустых улицах. Вот если бы, например, кто-нибудь взглянул на нее сверху – не бог, конечно, не о боге она сейчас думает, – но человек, сидящий, скажем, в воздушном шаре. Он увидел бы величавый лабиринт и маленькую в нем мышь или ящерицу, может быть, он бы даже принял ее за человека – взрослого, храброго, гордого, предпринявшего кругосветное… И если что случается в этом путешествии, то это так и надо. Потому что все, что случается, – хорошо.
Но на любовь это не похоже. Кто знает, может быть, если бы он дал ей расплакаться, если бы он сказал ей что-нибудь, что в написанном виде, например, могло бы оказаться смешным, что-нибудь такое обыкновенное и единственное – это стало бы любовью. Он не сделал этого. Спасибо ему. Как хорошо, что он не сделал этого!
Но как грустно, что этого не было. Вот и ночь прошла, прошел ее «первый бал» (Наташа Ростова, Андрей Болконский – ау, где вы?), и она одна бежит домой и, кажется, плачет. И никто не сказал ей, что хочет знать про нее, где она живет, что делает, что думает, когда опять придет? «Маруся». И больше ничего. А ведь он мог сделать с ее сердцем что угодно, и тогда это был бы плен. Слава богу, он не сделал этого!
У нее был ключ от квартиры, и она неслышно вошла, разделась и осторожно, боясь скрипнуть дверью, докралась до своей комнаты. На постели под одеялом кто-то лежал.
– Мама!
Она открыла глаза.
– Знала, что не разбудишь, дрянь, потому и улеглась здесь, чтобы непременно все знать. Рассказывай.
– Расскажи лучше ты, как это у вас бывало. Гремела музыка, бряцали шпоры, пары скользили по паркету…
– Мы обыкновенно приглашали тапера.
– …он говорил: я люблю вас. Она отвечала: спросите маменьку.
– Это так с нашими бабушками разговаривали.
– …и они выходили на балкон, съедали мороженое, простужались и умирали. Или нет, они женились, и у них были дети.
– А у вас не так?
– Совсем не так. И тебе бы не понравилось.
– Неужели под гармошку?
Она разделась, умылась за ширмой, расплескав воду, перелив полное ведро, и легла рядом, стиснув мать в объятии.
– От тебя пахнет табаком и водкой. А что за публика была? В кулак сморкались?
Вера слегка отпустила мать.
– Публика была самая разнообразная: кое-кто сморкался в кулак, а другие были хоть и пьяные, но очень вежливые.
– Воображаю.
– Извинялись за каждый пустяк. Был один даже вполне трезвый; архиереи по стенкам висели.
Они еще долго шептались, но уже не о том, что было, а том, как они друг друга любят. И мать иногда смеялась тихонько и радостно, как будто не было седины, как будто не продали лисью ротонду, и, незаметно подушкой утирая глаза и нос, смеялась иногда сама Вера, так, словно и впрямь ничего не случилось.
Когда мать ушла, еще и еще раз обняв и расцеловав ее, в Вере медленно стала выпрямляться невидимая, спиралью сжатая пружина. Опять, как тогда, она закинула обе руки за голову, и ей представилось, что кто-то у изголовья заслоняет ей окно. Изо всех своих сил она старалась ничего не дать себе вспомнить: ведь если не помнить, то, значит, ничего и не было – так когда-то (еще во времена Сама) они установили. Если бы можно было на месте всего бывшего удержать сейчас в воображении рыжую голову пропавшего из ее жизни мальчика… Ребячество! Было. Было что-то, что никогда уже не хватит сил повторить. Невозможно пережить во второй раз такое мгновенное сиротство, такую жестокую свою ненужность.
Она лежала и смотрела перед собой, и петлями шли ее мысли, возвращаясь все к тому же мучительному часу в чужой комнате, в Венцовской квартире. Все, когда-либо читанное или слышанное о телесной любви, вспоминалось, плыло на нее, душило ее, она не могла найти во всем этом себе и своей встрече места. Кто-то из Гренландии шел в Берингов пролив по льдинам. Льдины стукались одна о другую. Кричал ребенок. Это был ребенок путиловца, жившего в дедушкиной комнате (а жена его была беременна четвертым). В окне начинался нестрашный, пустой зимний рассвет. В мозгу мучительно возникал полузабытый евангельский стих. Льдины гремели; в звонкой морозной пустыне она была одна, она скользила… на кубовых своих саночках, туда, где в сугробах, может быть, еще ждет ее мальчик в ушастой шапке. Но где-то далеко от станции со смешным названием отходил поезд. Цвела сирень, и кто-то веткой махал ей из окна вагона…
XV
– О тебе спрашивали, – сказала спустя неделю Шурка Венцова, входя к Вере, – хотят наново познакомиться, говорят: было темно, не рассмотрели.
У Веры заходило в сердце, как перед несчастьем.
– И ты сказала ему, как меня зовут?
Нет, Шурка ему этого не сказала, да он и не спрашивал. Он просто попросил непременно опять когда-нибудь пригласить эту высокую красивую барышню в большом воротнике.
– Это про меня – красивую?
– Про тебя.
– Очевидно, и впрямь было темно.
И вот Шурка пришла за Верой, чтобы увести ее к себе.
– Нет, я не пойду, мне некогда. А он что, ждет?
– Он живет у нас.
– Тем более можно в другой день. Он, между прочим, сказал мне тогда, что вовсе не живет у вас. Значит, соврал.
Это возвращение меняло все. Она так растерялась, что не чувствовала никакой радости; она, которая, по словам матери, решительно от всего испытывала радость, именно сейчас, когда было отчего кинуться на Шурку, запеть, зашуметь, молчала и стояла неподвижно, окаменев внутри, каменными глазами смотря в Шуркины лучистые глаза. Зачем он вызывал ее, зачем возвращался, чего хотел? Поздно. Не надо.
Но Шурка заставила Веру одеться, и они вышли на улицу. «Тогда пойдем крюком, погода больно хороша», – предложила Вера. И они пошли крюком.
Это было смутное желание оттянуть время. Кто он? Печорин, неделю ее мучивший, прежде чем появиться снова (она, впрочем, нисколько не мучилась и сейчас же даст ему это понять); или просто занятый делами человек (уезжал, скажем, в командировку и только вчера вернулся), который не прочь возобновить приключение; или за эту неделю ему удалось забыть все, что между ними было, и осталась о Вере какая-то иная, немножко волшебная память, и он хочет теперь начать с начала, с другого начала, наверное, с очень трудного начала.
– Зайдем сюда, – говорит Вера и тянет Шурку в недавно открывшийся, кажется, пока единственный в городе часовой магазин. – Мне давно хотелось.
– У нас не магазин, у нас часовых дел мастерская, – судорожно говорит перепуганный звучным словом маленький человек.
– Все равно. Я хочу кольцо продать.
– Золотое?
Вера снимает с безымянного пальца золотое с рубином и алмазами колечко. Маленький человек смотрит в лупу: рубин плавленый, алмазные осколки вообще ничего не стоят, Он быстро, как пломбу из зуба, выковыривает рубин, бросает на весы.
– Зачем ты это? – спрашивает Шурка.
Спрятав деньги в сумку, Вера уже на улице объясняет: ей нужно сделать покупки, смешные, но необходимые, а денег нет. Пудра, духи. Пара чулок. Шпильки. Бусы. Ничего этого у нее не имеется.
– Валяй, – отвечает Шурка.
Одно было несомненно: он захотел, чтобы она пришла. Впервые дошло до нее что-то из его сердца. У него было сердце. Мысль эта показалась ей такой сладкой и мутной, что невозможно было ухватиться за нее, всей своей тяжестью повиснуть на ней. Осторожно, чтобы только не оборвать чего-то очень нежного! Он восполнял своим желанием увидеть ее пустоту, которую сам вокруг них обоих создал.
Шурка опять рассказывала Вере свой сценарий, какие-то муки и восторги, которые всецело зависели от Матренинского. Был ясный зимний день, на Невском тротуары были занесены сугробами, и прохожие шли по мостовой. В подвале дома, напротив Гостиного Двора, всего несколько дней, как открылась первая кондитерская со столиками. Вера втянула Шурку в низок. Только бы подольше!
Удивительно было это сидение друг против друга, в темноватой, жарко натопленной комнате; подавальщица принесла два стакана кофе и два пирожных с сальными украшениями. В вазочке лежали печенья и пахло кокосовым орехом.
– Не арестуют? – Вдруг спросила Вера и Шурка сердито ответила:
– Пей уж скорей, с тобой всегда так.
Но как сама она решит отвечать на все это? Вот она идет к нему по первому его зову. Да, идет – и уже есть в ней что-то собачье. Почему? Любви… Ничего больше. Ей хочется любви. Она думала, что там, у Венцовых, ночью, когда он положил ей руку на лицо, может быть, любовь. Потом, когда он спросил ее, как ее зовут, ей опять, несмотря ни на что, показалось, что это невозможно. И сейчас опять.
Она доходила досыта, и, когда они пришли к Шурке в дом, у Веры было на душе спокойно, немножко блаженно. Шурка распахнула перед ней дверь венцовского зальца:
– Вот, знакомьтесь, граждане. Простите, Александр Альбертович, что мы поздно.
И Вера увидела не того, кого ожидала увидеть.
Воспоминания размотались мгновенно: трезвый, молчаливый, очень серьезный, он не танцевал тогда и не пил, а смотрел то в гитарные струны, то – с любопытством и без всякого отвращения – на людей вокруг себя, с которыми у него ничего не было общего. Непонятно было, как очутился он среди них. «Совершенно случайно, – объяснил он потом Вере, – знакомые моих знакомых указали мне Александры Гурьевны комнату. Еще в двадцатом году я переехал, после того, как мой отец…»
Это была длинная история.
XVI
Два огромных светлых глаза, тонкое бледное лицо, тонкие легкие волосы, узкая рука. Он тогда казался моложе, чем был на самом деле. Одет он был, как одевались люди еще года четыре тому назад – воротничок, галстук и пробор, – и ни пятнышка, ни пылинки на всем этом. Но в его старомодности – при его молодости – не было ничего ни смешного, ни противного. Лицо его искупало заранее все.
– Сегодня холодно? – спросил он, когда Вера села.
– Право, не заметила, кажется, холодно.
– Я думал, вы уж и не придете. Пять часов. Боялся, что вы больны.
– Я никогда не болею.
Он сложил руки на коленях и вдруг что-то вспомнил и засмеялся.
– А я ведь что-то нашел!
Вера посмотрела на него пристально.
– Я нашел в моей комнате, под софой, – и он опять засмеялся. И вдруг вынул из бокового кармана гребешок, Верин гребешок, которого она на следующее утро не могла доискаться.
– По этому я узнал, что вы были у меня в гостях.
Он посмотрел на нее, и было в его глазах что-то нечеловеческое, восторженное и больное. Они сидели у незанавешенного окна, в потолке горела лампа; перед ними стоял столик, и Вера положила одну руку перед собой плашмя на лаковую его доску, другая висела вдоль стула. Он смотрел на Веру, потом на Верину руку, потом опять на Верино лицо. От ходьбы на морозе щеки ее стали темно-розовыми, но глаза показались ему невеселыми, и она теперь все старалась смотреть мимо него.
– Я думал всю эту неделю, – сказал он тихо и почему-то грустно, – что если кого-нибудь можно любить в этом ужасном, отвратительном мире злобы и грязи, то, вероятно, только вас.
Она нахмурилась и еще дальше отвела глаза.
– Не сердитесь, пожалуйста. Я ведь не наверное говорю, что мне только так кажется. Я ведь не делаю вам любовного признания. Боже упаси!
Он еще раз внимательно засмотрелся на ее лицо, она убрала руку со столика, но он не сделал никакой попытки удержать ее.
– Вот я вам расскажу про себя. Отец мой – француз, то есть он был французом, а потом стал русским. И, представьте, его расстреляли, приняв за шпиона. Но самое удивительное, что, вероятно, это так и было, потому что он мучился после революции и говорил, что все средства хороши, только бы бороться.
Вера слушала. Ей нравилось, что он от нее не требует разговора.
– Мать моя – представьте, это очень странно! – немка. И я по-немецки говорю очень хорошо, как по-русски. Она была переводчицей модных романов: Шницдератам и Гофмансталя. Я даже знаю всякие глупые немецкие песни, какие поют детям, потому что она мне их пела. Но я больше люблю Францию. За границей я, впрочем, никогда не был. Мать была старше отца и умерла во время войны, война очень сильно на нее подействовала. Вы слушаете?
– Пожалуйста, рассказывайте дальше.
– Потом у меня был брат, старше меня на шестнадцать лет. Да, представьте, на шестнадцать лет! Он жил в Париже, он был очень богат. Он был убит на войне. У него осталась вдова, и она зовет меня в Париж. Зовут ее Лизи. Она недавно прислала мне посылку.
– Вот хорошо! – не удержалась Вера. – Что же там было?
– Там было, во-первых, коверкотовое пальто, потом там был одеколон, три катушки ниток, шоколад, две пары кальсон (простите, что я так говорю) и теплые перчатки. Шоколад и катушки я отдал Александре Гурьевне, а перчатки подарил Генечке. И вам, если только вы позволите, мне хотелось на память отлить в бутылочку немножко одеколона. Он чудно пахнет.
Что-то шевельнулось у Веры в горле и подкатило к глазам.
– Спасибо, – и она опустила лицо, – вы лучше сохраните его для себя.
Он перевел дыхание.
– Теперь я вам расскажу о себе. Я жил с отцом и, когда окончил Анненшуле, поступил на филологический.
– Почему на филологический? Что же вы собирались делать?
– Ничего. Поступил потому, что хотел высшее образование получить, а какого рода – безразлично. Деньги у отца были, а способностей у меня определенных ни к чему не проявилось. Поступил, поучился год. Потом – вот. Революция, остался один, болел.
– Как же вы сейчас живете?
– Уроки даю. И потом мне, право, так мало надо. За меня хлопочут в Москве дальние родственники. Тогда я уеду.
– Боже мой, как все это грустно! – воскликнула Вера.
– Россия очень грустная страна, – ответил он. И в комнате стало совсем тихо.
Она сидела рядом с ним, и ей казалось, что он не дышит, не пульсирует, – такая была тишина. Мир, разбросанный, раздробленный, взвихренный мир вдруг сошелся в одной точке, в ее недоумении перед этим человеком, и она почувствовала такую дикую, такую слепую потребность доброты, что все остальные томившие ее чувства и попытки чувств вдруг рухнули. Она поняла, что все то, что жгло ее эти последние месяцы и, может быть, даже годы, было желанием быть к кому-нибудь доброй. И она угадала, что только доброта может сделать ее опять, как в детстве, счастливой, что только доброта, одна доброта есть для нее сейчас любовь. А все остальное – измена и одиночество.
– А чем же вы болели? – спросила она после молчания.
– Легкими, – и он ясно и с готовностью поймал на этот раз ее взгляд. – Они у меня слабые. У отца они тоже были слабые. Я сейчас принесу вам карточки. – Делая огромные шаги, он вышел из комнаты и очень быстро вернулся. – Вот мой отец, – сказал он и протянул кабинетную фотографию: красивый господин с пышными усами в высоком крахмальном воротничке.
– Отец болел, потом вылечился. Я тоже, наверное, вылечусь. Он был очень веселый и, представьте, – немножко стыдно это сказать – но главным в жизни для него были женщины. И всегда очень красивые дамы. Помню, раз понадобилась ему в декабре месяце белая сирень… Впрочем, это в другой раз вам расскажу. А вот моя мать. Видите, какая важная.
С карточки смотрело строгое лицо в пенсне. Бюст дамы начинался у самых плеч, подпертый корсетом.
Он спрятал фотографии в старый конверт и задумался. Они опять некоторое время просидели молча.
– Как вы думаете, где Шурочка? – спросила Вера, хотя догадалась, что Шурочки давно нет дома.
– Я думаю, Александра Гурьевна ушла с господином Матренинским. Он сидел в столовой, когда вы пришли.
– Почему же он не сидел здесь с вами?
– Он был сердит, по-моему, на что-то сердит.
– На вас сердит! – воскликнула Вера. – Но как же можно на вас сердиться? – почувствовав, что этот вопрос может прозвучать нежнее, чем нужно, она на всякий случай усмехнулась: – Ну, расскажите что-нибудь.
Он опять перевел дыхание.
– Все, что хотите. Про сирень? Или про то, как я один раз оживил утопленника?
– Вы оживили утопленника?
– Да. Впрочем, это я вам завтра расскажу.
– Почему вы думаете, что завтра я опять приду?
– Нет, я не смею. Но я хотел попросить вас разрешения придти завтра к вам.
Она вдруг обернулась к нему, положила руку на его обшлаг.
– Один, – сказала она, – без мамы, без папы, и даже собственно неизвестно, какой национальности, и без всякой профессии. И болеете легкими. И… что еще?
Глаза у нее были очень грустные и блестели, как никогда. Сердце в груди, казалось, истекает чем-то горячим и соленым.
Он положил руку на ее руку. Он только странно улыбался бледно-розовыми тонкими губами. Потом, в коридоре, он помог ей одеться, и каждое движение его показалось Вере полным никому сейчас не нужного, какого-то напрасного благородства.
XVII
Он стал приходить каждый день, в толстой фуфайке и коверкотовом заграничном своем пальто. Он сильно страдал в нем от морозов, но не мог объяснить, что сталось с его прежней шубой (много позже выяснилось, что ее выпросил у него Матренинский). Он совершенно не стремился остаться с Верой вдвоем, лишь бы она была подле него, а был ли еще кто-нибудь в комнате, его мало беспокоило. Обыкновенно он садился в столовой на стул, зажав кисти рук между колен, и не спускал с нее глаз. Это была самая теплая комната во всей квартире, тут стояла железная, выложенная кирпичом печка, на ней – чайник, в духовке – горшок с кашей. Александр Альбертович приходил после обеда и всегда от угощения отказывался.
Отец сидел тут же, на конце стола; инженерное его ремесло теперь все больше делалось почетным. Ероша густые седые волосы, изредка крякая, он рыскал с толстым карандашом по каким-то очень летучим бумагам, совал острый нос в какую-то книгу или, все это сдвинув, закрывался «Правдой». И когда на чей-нибудь вопрос, к нему обращенный, он мгновенно выныривал из-за газетного листа, он все еще молодо сверкал глазами и зубами на желтом татарском лице и отвечал когда-то бывшим резковатым, а теперь хриплым голосом; и невозможно было сосчитать, сколько стаканов чаю (давно без сахару) выпивал он за вечер, во всяком случае; не менее десятка.
Напротив отца, в кресле с подушечкой, сидела мать и раскладывала пасьянсы – старыми русскими картами с розовым и голубым крапом. Это занятие не шло ей, оно ее старило, но об этом она не заботилась: она уставала за день и вот, когда посуда бывала перемыта, и на завтра кое-что сготовлено, и перестираны были тряпки, и в уборной подтерто (за путиловцами), и руки ее – нежные прохладные руки – отмыты и насухо вытерты, она садилась в кресло с подушечкой и бралась за колоду. И Вера садилась рядом с иглой и старым штопальным грибом, и то это была отцовская ластиковая заплата, то собственная ползущая под иголкой когда-то гимнастическая юбка.
Александр Альбертович рассказывал очень тихо, чтобы не мешать чтению «Правды», и в рассказах его было всегда столько неожиданного, удивительного и трогательного, что Вера иногда не выдерживала и вскидывала на него глаза, а мать, окончив пасьянс, сидела, склонившись над картами, и молча продолжала слушать или принималась, все на столе смешав, тихонько смеяться. Смеялась она теперь совсем тихо, но все так же длительно и чисто. И было рассказано в те вечера и про сирень, и про утопленника, и про многое, многое другое.
Иногда в своих рассказах он доходил до последних лет, и, когда говорил, как тащили отца по снегу, как пропадали передачи где-то между Гороховой и Шпалерной (а в тюрьме давали овес), когда рассказывал, как уезжали летом знакомые французские оптанты – через Польшу, через Европу, туда, в далекую страну мира, победы, свободы, – было у него в глазах что-то, чего нельзя было вынести. Он тогда еще больше понижал голос, чтобы его не слышал Верин отец, который однажды вдруг заспорил с ним о политике, и это было тяжело слушать. И тогда Вере казалось (уже тогда!), что сам он всех несчастнее – и оптантов этих (болевших цингой), и всех, всех старых, измученных людей, которых где-либо, когда-либо тащили на расстрел.
Наступил март, и в квартире стало теплее. Можно было сидеть теперь в Вериной комнате. Кутаясь в старый Настин платок, она устраивалась в низком на трех ногах кресле, а он где-нибудь, непременно на самом неудобном стуле. Они были вдвоем. Вера читала. Это был период постоянного жадного, безразборчивого чтения. Александр Альбертович тоже держал на коленях книгу. И нельзя было сказать, что он вовсе не глядит на нее, но почему-то любая страница наводила на него облако текучих и – он сам это знал – бесполезных мыслей.
– И никогда, никогда, – спрашивала Вера, подпершись о колено рукой, – не замирало у вас внутри от чего-нибудь совершенно дурацкого, от росы, от рассвета, от мысли, что никакая смерть не отнимет у вас чего-то самого главного? А? Подумайте.
– Нет.
– Вы не помните, чтобы что-нибудь вас когда-нибудь обрадовало до обморока, до потери рассудка?
– Нет.
– И вы не крикнули бы «еще минуточку», если бы оказались под виселицей?
– Нет… Знаете, я никогда не покончу с собой, но если бы меня кто-нибудь убил…
– Вас нельзя убить.
Иногда, ночью, она выходила провожать его до угла, стояла и смотрела, как он переходит улицу, еще раз снимает шляпу и скрывается. Несколько раз она пробовала молиться за него. Однажды она подумала, смотря ему вслед, что он, наверное, очень легок и что если лечь и дать ему пройти по ней, то не будет больно. В день, когда начался ледоход, она предложила ему пойти на Неву.
– Мне никак нельзя, – ответил он. – Эти дни у меня самые страшные.
У нее сжалось сердце. «И не надо, – сказала она. – И я не пойду». Он посмотрел беспокойно. «Нет, вы идите, вам надо».
Но она не пошла. «Все – в меру, – сказала она себе. – Если бы можно было вместе пойти и стоять там, в солнце и ветре, и при этом вот так любить, душа бы не выдержала. Нельзя. Все в меру».
Вечером он пришел, как обычно. «Посидим у вас, – сказал он, – мне нужно вам кое-что сказать».
Вера с трудом открыла давно не открывавшуюся печную заслонку, засучив рукав, нащупала и вынула вьюшки и принесла из чулана ворох старых газет. Она медленно начала скручивать жгуты, зажигать и бросать их в печку. Ветер загудел в трубе. Был бешеный, рвущийся ввысь огонь, был даже некоторый мгновенный жар и, вероятно, в небе, над трубой, розовый отсвет.
– Я сегодня получил одну бумагу, – начал он, испытывая тревожное блаженство от тепла, от мысли, что загорится сажа и будет пожар, от того, что Вера сидит близко и спиной к нему. – Я получил из Москвы разрешение на выезд. Я долго ждал его. Но если вы не хотите ехать со мной, я останусь.
Он помолчал, она продолжала скручивать и рвать газеты.
– Знаете, как вам надо будет ехать? Моей женой. Вас впишут мне в паспорт. Я хочу еще вам сказать, что в Париже вы ни в чем не будете нуждаться. Брат оставил мне. Там Лизи.
Она обернулась.
– Видите ли, какая история, – сказала она деловито, – я могу и здесь. Я могу и без Парижа.
Он серьезно и без всякой робости взглянул ей в лицо.
– Я знаю, что вы можете по-всякому, потому что вам двадцать лет. И в тридцать, и в сорок вы тоже сможете по-всякому, потому что вам сейчас двадцать лет. Я знаю, что вы из тех, которых ничем не испугаешь и ничем не соблазнишь… Я знаю… Пожалуйста, не прерывайте меня. Я люблю вас. Никого до вас я не любил.
«Верю», – сказала она про себя.
– Никого не хотел любить, думал, что и не могу любить. Я ничего не умею делать и не хочу уметь. А вы для меня – все равно что жизнь.
– Которой, кажется, вы не дорожите?
Он подумал, глядя в сторону.
– Значит – больше.
Печка с ревом пылала перед ними, и казалось, что вся комната в пламени.
– Я думал до вас, – продолжал Александр Альбертович, – что так это и будет. Мне представлялись раньше различные отвлеченные «жесты» любви: ничком у ног, объятие, не знаю, что еще. Вы знаете мой «жест»? Я вцепился в вас. Вы только представьте себе человека, который умирает от жизни. На лбу у него лед, на груди – мешок с кислородом, руки его в чьей-то родной руке. Так вот все это – вы: и лед, и кислород, и рука…
Она бросила последний жгут в печку и, сидя на полу, обняла свои колени, не отводя глаз от потухающего огня.
– Я прошу вас стать моей женой. Подождите, не отвечайте, я еще не сказал вам главного.
В эту минуту неожиданное волнение изменило его лицо. Он встал, прошелся раза два по узкой тесной комнате и опять сел.
– Я не предлагаю вам того страшного, мерзкого и животного соединения, о котором Леонардо да Винчи сказал, что оно уродливо, смешно и всегда унизительно для человека. Если вы сами захотите его, оно произойдет. Но оно, конечно, не имеет ничего общего с любовью, и разве можно строить жизнь на случайном телесном ощущении, которое сегодня вам приятно, а завтра для вас – утомительно?
Он говорил еще, слова его теперь шли мимо Веры: она стучала зубами, куталась в платок, сжимала руками колени. Леонардо да Винчи. Значит, кто-то до нее уже думал об этом… Леонардо да Винчи… Джоконда… кажется, ее кто-то когда-то украл. Она поедет в Париж, она пойдет ее смотреть. Борис Исаевич Адлер находил, что Джоконда совершенно неинтересная женщина… Александр Альбертович говорит «повенчаемся» вместо «поженимся». Это смешно. Боже мой, как он худ, какие на нем протертые брюки!
Она с трудом сдерживала в себе все усиливающуюся дрожь. Он не просил у нее ответа, да она бы и не могла сейчас его дать. Он наклонился к ней и поцеловал ее в голову и начал тереться лицом о ее густые, заложенные жгутом на затылке волосы. С тихим звуком выпала одна шпилька, он вынул другую, волосы упали. Он смял их обеими руками, накрутил их на пальцы, запустил в них руки.
– Какие густые, – сказал он шепотом, – какие холодные.
Потом он положил ей на шею тоже холодные тонкие свои пальцы. И вдруг она перестала дрожать и обернулась к нему, все продолжая сидеть на полу. Он стал целовать ее лоб, глаза, губы, щеки; поцелуи – но какие-то особенные, да, особенные, непохожие ни на какие раньше испытанные, легкие, скорые; близко от них, тут, сейчас же, чувствовалось море слез, и море слов, и целая человеческая судьба.
И за этим вечером наступила первая в жизни Веры бессонная ночь – словно за первую близость с Александром Альбертовичем сейчас же пришел счет, и надо было платить бессонницей. В эти часы она думала, что год жизни готова отдать только за то, чтобы прекратилась тишина в доме, чтобы где-нибудь – внизу или вверху – грохнуло что-нибудь или зазвучало. Но все было тихо. Особенно тяжело было то, что она никак не могла расплакаться – над чем? над кем? Над жизнью, которую она так любила и которая ей платила сейчас таким немытым счастьем.
И все стучала в голове мысль, что ничего не решено и все поправимо, все еще можно переделать, оттого что не было дано никаких обещаний. Она знала, что это – искушение и ложь, потому что все было решено и ничего уже не поправишь, и крепче, чем под венцом, было дано слово. И так безрассудная, страстная жалость эта была похожа на радость, что явись кто-нибудь сейчас здоровый, сильный, целующий в губы и грудь, бегущий с нею на ледоход, она бы просто не поняла, зачем он здесь? Она была отравлена, прострелена, утоплена – жалостью и в жалости; она ничего больше не могла: ни хотеть, ни бороться, и ей казалось, что вся печаль мира – не ее мира, лучистого, звучащего фанфарой, льющегося радугой, но его мира – льется в нее, как в сосуд, и она все выдержит, все стерпит.









































