Текст книги "Без заката"
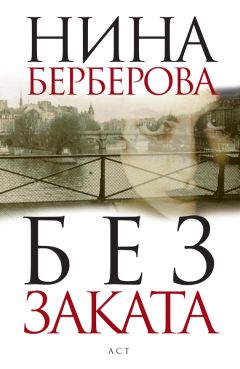
Автор книги: Нина Берберова
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
XX
Исшагать мир – или, по крайней мере, этот город – собиралась она давно, еще в детстве, когда смотрели Макса Линдера и было все так красиво, нарядно и недоступно, но вот она была здесь, и почему-то сначала имело цену лишь то, что напоминало другой, тот голодный, заросший травою город, из которого она была родом. Если было туманное величье реки или сиреневая, мертвая и громадная ночью площадь, то сейчас же говорила память о том, что она слишком спешила тогда, слишком кратко замирала под аркой Генерального штаба или над Зимней канавкой, или под Смольным монастырем. Но постепенно она стала любить его – он был столько же похож на книгу, сколько на человека; в нем были улочки, где подряд шли сорок три лавки старых люстр и мебели, и были бульвары, где восемнадцать кафе, одно за другим, перебивались лишь газетными киосками. На сто франков можно было купить себе на набережной целую библиотеку – с «Исповедью» Руссо (любимой книгой «великих людей» России), «Адольфом» Бенжамена Констана, Бодлером и Мориаком (с ужасной картинкой на обложке). Здесь можно было молиться под орган, пить запоем, собирать марки, продавать старые вещи, смотреть военные парады, учиться химии и… ничего не делать, не выходить из дому, кипятить чай и жарить яичницу. И за это-то именно она его и полюбила.
Спустя неделю по возвращении Веры в Париж у двери раздался звонок. Был ветреный день, окна в комнате и на кухне были раскрыты настежь, по ветру летали какие-то бумаги, на плите шипела яичница из четырех яиц.
Вера собиралась завтракать, резала хлеб пилой и с пилой в руке пошла к дверям. Человек, оказавшийся перед нею, совершенно ей незнакомый, стоял и улыбался.
Из кухни вылетели, гонимые новым сквозняком, лист старой газеты, пергамент из-под сыра, какой-то конверт…. Человек шагнул в прихожую, за ним грохнула дверь; он поймал конверт на лету, все улыбаясь, подал его Вере, быстро бросил взгляд на пилу, которую она не опускала, и сказал, снимая шляпу:
– Здравствуйте, Вера Юрьевна, наконец-то я вас нашел.
Он был невысок, худощав, опрятно одет. Ему было лет под шестьдесят. Он носил седую щеточку усов и похожие на эти усы густые седые подстриженные брови. Карими живыми, слишком живыми от волнения глазами он смотрел Вере в лицо, и улыбка его – в которой блестели еще очень хорошие зубы – тоже была просто следствием большого волнения.
Вера отступила немного, пристально глядя на него.
– Я – Дашковский. А вы всегда к незнакомым гостям с ножом выходите?.. Боже мой, наконец-то! И где вы столько времени пропадали? Дайте на вас взглянуть хорошенько, хорошенько, – он слегка картавил, и сам, целуя руку на ходу, вел ее в комнату, к окну, к свету. – Вам смешно? Старый дурак явился… вы не догадываетесь зачем? Да чтобы увидеть вас, только и всего. Ах, как вы на нее похожи!
Он круто повернулся спиной, что-то быстро стер с лица платком и с размаху сел на стул.
И только тогда Вера сказала: «Садитесь».
– Завтракайте, пожалуйста, завтракайте, я тоже буду, чтобы вас не стеснять, – и он сейчас же схватил корочку хлеба, посолил ее и стал старательно жевать. – Очень вкусно. – И тут он внезапно смолк, и когда снова заговорил, то уже совершенно иначе. – После похорон я зашел на вашу старую квартиру, мне дали этот адрес. Раз в месяц я приходил сюда, я был здесь четырнадцать раз. Сегодня мне сказали внизу, что вы вернулись.
– Я закрою окно, – сказала Вера, – вы, наверное, боитесь таких сумасшедших сквозняков, когда все хлопает.
«У меня вчера был один из твоих бывших женихов, – писала Вера матери на следующий день, – их ведь, кажется, было четверо? Этот велел мне распустить волосы и причесаться так, как ты когда-то причесывалась. Он много ахал, ходил вокруг меня, под конец расстроился ужасно, трогал мое лицо и так надоел мне с волосами, что я нынче утром пошла к парикмахеру и остриглась (благо теперь это модно). Он сидел очень долго, рассказывал без конца. Чем он сейчас занимается – не могу тебе сказать, кажется, в газетах пишет. Должна объявить откровенно: ты была совершенно права, папа гораздо интереснее… Подождем, не явятся ли за этим другие…» На самом деле все было не совсем так.
– Есть вещи вне, – говорил Дашковский, – как вам объяснить это? Вы все равно не поймете. Вещи вне.
– Вещи вне, – повторила она за ним со старанием.
– Они будто не от мира сего. Знаете, раньше были люди не от мира сего. Теперь таких людей нет. Но есть такие события, которые на всю жизнь, на всю жизнь; они относятся к обыкновенным фактам, как простые смертные к гениям. И что бы ни было, они не умирают. У моего приятеля (старый человек) умер ребенок, давно, еще лет тридцать тому назад, – первый ребенок. Теперь у него взрослые дети, но того он забыть не может, никак. Понимаете? Вероятно, нет. Такой бывает любовь.
Он начал есть яблоко, которого есть ему совершенно не хотелось.
– Она тогда выпадает из нашей жизни и даже из нашей судьбы. Нам делается вдруг все равно, что бы о ней сказал, например, Лермонтов. В молодости мы безумствуем, в зрелости, если она, такая, приключится, мы можем даже упустить ее, потому что мы сыты, мы устали, боимся препятствий. Но мы ранены до смерти и это знаем. Она относится к вещам, которым нет конца. Есть такие вещи. Там – душа бессмертна или нет, еще неизвестно, а вот это бессмертно. Бесконечно, беззакатно.
– А дружба? А жалость? – спросила она быстро. Он подумал.
– Тоже, вероятно. У меня не было… А теперь еще, еще напустите на лоб, вот так, а над ушами подберите. Дайте, я сам причешу вас. Не верьте, когда вам скажут, что отвергнутый любовник вспоминает добрый ее нрав или веселый характер. Воспоминания становятся такими чувственными: вот эту прядь над виском, тугую грудь ее, ноги – вот что мы вспоминаем. Тепло, которое шло от ее прохладного тела.
Вера отодвинулась в сторону от него, но глаз не опустила.
– Я вернулся в Петербург через пять лет после ее замужества, – говорил Дашковский: он отодвинул прибор и, прихватив с собой пепельницу, пересел в кресло. – Вам тогда, вероятно, было года три. Теперь слушайте меня внимательно: я знал, что вашего отца нет дома, я позвонил. Прислуга сказала мне, чтобы я прошел в столовую, – по-моему, это была единственная, так сказать, «парадная» комната, вы жили довольно бедно. В столовой мне показалось темновато. Если не ошибаюсь, слева стоял буфет, а справа у окна еще какой-то стол.
Вообразите себе, я стоял почему-то в пальто, в руках держал котелок. Она шорхнула в дверях платьем, вошла. Вы, конечно, никогда не обращали внимания на чудесный, на нежный очерк ее лица. Она покраснела и в первую минуту готова была улыбнуться, протянуть мне руку, усадить меня. Она готова была на всякие там милые жесты. Но мой вид навел на нее подозрения, и она вдруг испугалась. Все-таки, хотя и дрожащими губами, но она ответила мне, что счастлива; она имела полное право не отвечать на дерзкий вопрос и, как в театре, вытянув палец, указать на дверь; но девическое осталось в ней, останется до старости, в вас его совсем не заметно. И вообще – что вы понимаете! Губы у нее дрожали, глаза блестели… какими слезами? Доброты, конечно, доброты! Она попросила меня уйти, как просят закадычного, верного друга о какой-то услуге и еще говорят ему на всякий случай: «Не сердитесь, пожалуйста».
Но я не уходил и вдруг начал ее умолять. Никогда никого не нужно умолять. Но тогда я не рассуждал, я предлагал ей ехать за границу, захватив с собою вас. Я был богатый человек, Вера Юрьевна. Но она сказала: «Ради Бога, уйдите, уйдите сейчас же отсюда вон. Я не хочу вас ни видеть, ни слушать…» Не смотрите на меня так, смотрите подобрее. Дайте мне вашу руку.
Но Вера не дала ему руки и тоже пересела со стула в кресло, бок о бок с ним.
– Одна вещь вас удивит, Вера Юрьевна, когда вы придете к нам, – продолжал Дашковский. – «К нам» – потому что я женат. Я женился во время войны. Могилев, госпиталь, сестра милосердия; у нее были такие мягкие локти, которыми она все отстранялась от меня. Что-то очень благоразумное в глазах (осталось до сих пор). Одна вещь вас удивит: она чем-то похожа. Совсем, совсем не то, конечно, но что-то есть… Когда мне сказали, что вы в Париже (у вас тогда только что умер муж), я пошел посмотреть на вас, я даже расписался. Я очень обрадовался, следя за вами. И мне казалось, что дама, которая была около вас, в черных тюлевых перчатках с серебряными ногтями, меня заметила.
– Нет, Лизи вас не заметила.
Дашковский замолчал и продолжал курить; курил он почти без перерыва, от одной папиросы к другой, и в комнате стоял в несколько плоскостей неподвижный дым.
«Еще, еще, говорите дальше», – хотелось сказать Вере, но она боялась выдать свое любопытство – не в отношении минувших его чувств к ее матери, а в отношении того огромного – по сравнению с ее – опыта любви и страдания, который был у него и которого у нее не было. В том, что он говорил, безотносительно к тому, касалось ли это ее матери или нет, она ловила ей нужное, отвечавшее каким-то ее сокровенным и ей самой еще неясным мыслям, все время боясь, что он в ее напряженности, под которой она скрывала свою жадность, увидит что-то детское; но одновременно ей не хотелось и того, чтобы он принял ее за вполне взрослую, бывалую женщину, какой она не была.
– Я задам вам один вопрос, – сказала она. – Вашей женой, мной немножко, наверное, другими – все эти годы – вы заменили ее, вы ее нашли (и потеряли тем самым). Так что же осталось?
– Страдание, – сказал он просто, – сознание, что человек не ракушка, не птичка и что никого никем заменить нельзя.
– Зачем же вы пришли смотреть на меня?
– Так. Как мухи летают. Вы не можете себе представить, какое это для меня наслаждение. Не смейте трогать волос! Посидите еще так.
Она опустила руки.
– Ну а если бы вы увидели ее сейчас? Хотите, я покажу вам ее фотографию? Она почти седая.
– Покажите. Седая?.. Бедная вы девочка! – и Вере показалось, что он сказал «бедная дурочка». – Вы думаете, молодость что-нибудь значит? Вы, может быть, гордитесь, что молоды? Конечно, это было бы естественно, я не обольщаюсь насчет вашего ума. Но разве молодость кого-нибудь когда-нибудь покоряла? От чего-нибудь удерживала? Есть такие вещи, за которые всю вашу молодость отдать не жалко. Вы что, рассердились?
Она вскочила, ломая в пальцах спичечный коробок.
– Какие вещи? – спросила она жадно из угла комнаты.
– Простите, не буду больше. Я только хотел сказать, что все искры, все так называемые безумные минуты в зрелости уже не нужны; хочется длить… Вы слышали когда-нибудь такое слово, голубушка? Длить. Запомните его. Хочется только одного: прочности, уверенности, что счастье, которое сегодня со мной, будет со мною и завтра, и послезавтра. Хочется, чтобы та, которая со мной рядом (или вовне), была бы навеки моя, безраздельно моя, наяву и во сне моя, и пусть так, как хочу этого я, хочет этого и она. Разве молодость этого ищет?
Вера стояла, скрестив руки на груди, и не смотрела на Дашковского. Она боялась прервать его.
– А себе вы оставьте афоризмы касательно измен, ревности, страсти и прочего, – сказал он, уминая в пепельнице очередной окурок. – Кидайтесь во что хотите, куда хотите, к кому хотите.
Он поднял глаза: она смотрела на него.
– Или сидите смирно, ждите своей участи.
– Нет, пожалуйста, перестаньте так говорить со мной. – Она перевела дыхание. – Скажите, если можете, взаправду, что мне делать?
Он не спеша встал, сунул руки в карманы, поднял плечи и отошел еще дальше, в дальний угол комнаты, и оттуда сказал, с чем-то стариковским, грустным в лице:
– Стареть.
Она готова была сорвать у него с губ это слово. По диагонали через всю комнату она смотрела ему в глаза. «Еще, еще», – хотелось ей просить его, чтобы он объяснил ей, научил ее.
– Вы только не уходите, – пробормотала она, – подождите. Еще рано…
Они одновременно посмотрели в окошко. В дыму они двигались по комнате, как под водой. Дым клубами вился над ними от каждого их шага. За окном воздух начал тускнеть. Облако плыло на них, сперва розовое, потом багровое, плыло и не могло проплыть, пока не погасло. Потом по холмам, видным далеко-далеко, побежали огни, глубже и гуще стало небо. Они ходили по комнате, бесцельно и долго, не мешая друг другу и не задевая мебели, которой было немного. Дашковский говорил, и Вере казалось, что она наклонилась над ручьем, бегущим мимо ее лица, и губами зачерпывает его жгучую прохладу. Она слушала. О чем говорил он? О любви, об утраченном счастье, о незаменимости, о воспоминаниях, о власти одного человека над другим, об ушедших годах. Он говорил теперь без прежнего враждебного к ней снисхождения. Он сидел опять в кресле, с чашкой чая в руке, перевалив через долгие часы беспамятного разговора, возвращаясь минутами опять к тому, за чем, собственно, пришел.
– …вот здесь что-то подле рта и вокруг лба; но взгляд совсем чужой, теперь я вижу, взгляд у вас не тот, и руки совсем незнакомые. – И он, поймав эти незнакомые руки, рассматривал их и отводил от себя.
Когда Дашковский погасил последнюю папиросу и встал, в комнате ничего не было видно от дыма и мрака. Дашковский вынул из жилетного кармана старые часы: семь часов.
– Следующий раз, когда я приду, – сказал он, выходя в прихожую, где Вера зажгла свет, – надо будет поставить будильник, чтобы это продолжалось не так долго. – Она с усилием улыбнулась. – В следующий раз не я, а вы расскажете мне о себе всякие интересные вещи.
Она кивнула в знак согласия. Никаких интересных вещей она не могла ему рассказать – ее жизнь показалась ей сейчас цепью случайных и совсем не ярких ошибок. Может быть, что-то и несла она в себе, что было похоже на «вне» Дашковского, но такое маленькое, безымянное, какое-то зернышко, похожее на веснушку на носу у Сама, на слезу Александра Альбертовича, – его можно только прятать, рассказать о нем нельзя. Рассказать – прежде всего было бы очень длинно, надо было бы назвать тогда одну фамилию – не через «о», через «а»… Она закрыла за Дашковским дверь, постояла немного, потом вернулась к окну и, так и не отворив его, села перед ним в темноте, смотрела на давно почему-то не виданные, какие-то забытые звезды и думала, сложив на коленях руки.
И что-то сквозь всю ее разбушевавшуюся душу поднималось в ней медленно и успокоительно. Это было сознание, что она уже не была тем голодным существом, которое задрожало когда-то от безрадостного чувства к Александру Альбертовичу; она за эти последние месяцы успела грубо, наспех, но насытиться – плохо она это сделала, при возвращении к этому что-то начинало в ней ныть; но кое-как она насытилась, и теперь у нее была возможность перевести дух, что-то обдумать, решить…
XXI
Поздно вечером в тот день к Вере зашла Людмила. Она выкинула из пепельниц окурки, проветрила комнату и сказала, что не советует связываться с женатым. Вера спокойно выслушала ее разговор. Через три дня он повторился снова; еще через три Людмила прямо спросила: был ли Дашковский, и Вера ответила, что не был, но что прислал письмо, приглашение на послезавтра.
– Что же, пойдете?
– Пойду.
– Стар он для вас.
– Да у меня же с ним не роман! Он меня чуть дурой не обозвал при первом знакомстве.
Людмила усмехнулась. В смехе ее теперь было что-то уж очень невеселое: он обнажал ее черные, беззубые десны.
– Тем хуже для вас. Удивительно, как вы всегда позволяете себе на голову садиться.
На Веру напал внезапно беспричинный смех.
– Я вас уверяю, что вы бы ему понравились гораздо больше меня.
В этот день Вера была в веселом настроении, в этот день пришло письмо от Лизи.
Читая его, Вера заметила в себе отчетливое нежелание вернуться к Лизи: все было чудесно там, на милом юге, а Вере – вот подите же! – не хотелось возвращаться, и, заметив это, она обрадовалась. Да, ей было все равно, кто и что велел ей передать и что излагала ей в письме сама Лизи. И даже приписка ее: «О К., как ты просила, ничего тебе не пишу» – не рассердила Веру, но тоже развеселила. В этот день она занялась всевозможными домашними делами, до вечера ходила в фартуке, повязав голову платком, перед сном выкупалась, а когда легла, почувствовала, что не хочет и не может уснуть. И впервые, в тишине и мраке ночи, она ощутила, как она сейчас высоко над землей (на седьмом этаже), в каких она сейчас тучах. Шла гроза.
Гроза шла издалёка, с востока, с северо-востока, оттуда, где она когда-то уже шумела над Верой. Обшитая тесом дача озарялась тогда, будто мгновенно вздрагивала, – если спуститься в сад и оттуда, спрятавшись, смотреть, что было однажды сделано, чтобы испытать собственную смелость. Сперва по небу катились с грохотом, как по твердому, чугунные шары, потом оглушительно трепетали листы железа, и, наконец, кто-то рвал в тучах полотнища гигантского мадаполама. И опять вздрагивал дом в свету, и убивало кого-то, едущего трусцой по дороге, в полях, и раскалывало осину – почему-то именно вот эту, а не ту и не ту.
Гроза шла на Париж прямо из-под петербургских лесов, где, наверное, еще – трудно в это поверить – целый, невредимый, обшитый тесом, стоит старый дом с расшатанными перилами балкона.
Но было в этих небесных разрывах, в неполноте звука, в разрозненных и уж слишком кратких молниях что-то южное, что-то иное, напоминающее одновременно и берег Средиземного моря, короткие и толстые магнолии в саду Лизиной виллы, стоявшей на краю города, близ дороги, мчавшейся в Болье.
Окна там запирались заблаговременно, и душный воздух, истомившийся за день, оставался в комнатах, в то время как над морем и городом бушевал свежий ветер, проливался прохладный душистый дождь. Гроза там катилась не по тишине, а по немолчному рокоту моря, по шелесту автомобилей по шелковой дороге, по собственному непрерывному эху где-то в горах. И эхо, и шелест, и рокот все продолжались, когда стихал гром, и Вера широко открывала окна.
– Здесь у нас душно, как в подводной лодке, – говорила она, и с магнолий и рододендронов летело в комнаты дыхание, которым нельзя было досыта надышаться. И однажды, именно в такой дождь, только что стихли молнии, Вера увидела знакомую фигуру, бегущую по улице с поднятым воротником. Она сбежала в сад, отперла калитку, ее обдало порывом почти холодного ливня. Карелов молча побежал по саду за ней, в дом, с него текли потоки, настоящие потоки, будто его только что обдали из ведра.
– Не могу же я, – бормотал он, срывая налипший на спину и на руки пиджак, – не могу же я в самом деле ходить с зонтиком!..
Было ясно, бесспорно – и не надо бы об этом говорить, потому что это слишком больно: она была создана без своего отражения, о котором когда-то мечталось. Какой она была глупой! Не дай Бог воротиться в то состояние ничегоневедения и обольщения. Жизнь больше всего похожа на воду, струящуюся между пальцами, и вообще не все ли равно, на что она похожа? Она знала навеки, что в жизни этой, в грубой, плоской, ниццкой жизни ей встретилось совершенство – такой удивительный человек, на которого весело было смотреть: не Шекспир, не Бетховен, не Рембрандт, а совершенство человеческого существа, с правильным черепом и целыми зубами, и если через тысячу лет найдут его череп, его длинный и узкий скелет, то о нашей исчезнувшей расе будут высокого мнения.
Дождь струился с него на паркет, он смеялся, полотенцем вытирая руки и волосы; а Вера запирала за ним дверь и бежала к окнам – словно он был птицей и мог вылететь. «Нагнитесь!» – сказала она: к затылку его пристал мокрый лист, а все только для того, чтобы понюхать, не пахнет ли он мальчишкой, воробьем, – да, он пахнул немножко Самом, этот взрослый, тридцатилетний человек. Он не ее. Она совсем одна. Оборвалось все, что тянула она за собою раньше, где-то еще между Штеттином и Парижем оборвалось оно – за то, что она всех любила, всему радовалась и никого не предпочитала. И теперь она стоит перед человеком, и у нее нет ничего, кроме какого-то странного восторга перед каждым его жестом – из этого восторга всякая на ее месте сделала бы счастье (в зверином тепле, в звериной полутьме), а она – нет. Может быть, потому, что не надо быть храброй, не надо быть сильной, самоуверенной, крепкой? Блаженны… Нет, она никак не вспомнит этот евангельский стих, и некого спросить – какие все безбожники кругом! И совершенство мое – безбожное тоже.
– Эй, где вы там? Смотрите, я нашла сиреневое счастье.
– Где? Где? Дайте его собачке – пусть она его съест…
Вера села на постели и зажгла свет. Все было тихо, гроза давно кончилась. «И не убила меня, – насмешливо сказала себе Вера, – хоть я и на седьмом этаже». И вдруг она ясно представила себе, как в электрический счетчик, висящий в прихожей, бьет молния, бежит по проводам и, из этой маленькой круглой лампы, с ночного столика, убивает ее. И тогда наступает тьма.
И в это мгновенье рушится все: и старая дача, где-то там, на севере, на северо-востоке (почему-то чудом уцелевшая до сих пор), и рододендрон в саду Лизи, и дорога в Болье, и от всего Средиземного моря не остается ни одного-единственного синего лоскутка; в это мгновенье вечной тьмы рассыпается в прах Париж с Дашковским, могила Александра Альбертовича, все, все, что только было, что прошло по сердцу, что запомнилось и что забылось, – все без остатка пропадает, проваливается вселенная.
Но лампа под колпачком горит тепло и светло, по чистому небу бежит чистый и ясный Млечный Путь. Может быть, по небу полуночи ангел летит? Не видно, не слышно. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем звучали. Это не цыганский романс, это – Фет, а Шурка Венцова пела это, как цыганский романс. И еще она пела: Я вас ждала, а вы, вы все не шли.
Вера вскочила с постели, остановилась босая посреди комнаты. Кто-то поднимался по лестнице (почему не на лифте?). Кто-то остановился за дверью. Сейчас зазвонит звонок. Тишина. Где-то далеко трубит рожок автомобиля. Часы под лампой отсчитывают секунды. Проходит минута. Вера не двигается, ей кажется, что она слышит из-за двери чье-то дыхание.
Ноги ее застыли, вся она от напряжения медленно холодила под рубашкой. И вдруг она услышала движение. «Нельзя же так, – подумала она, – ну представим себе, что это сумасшедший или просто пьяный, ошибся этажом, сейчас вставит ключ и увидит, что замок не тот. Нельзя же так». Но никто не трогал замка. Прошла еще минута. И стало ясно: на лестнице нет никого. Тогда она подошла к двери, сделала над собой усилие и распахнула ее. На площадке было пусто и темно, что-то блестело в клетке лифта.
Вера вернулась к себе, накинула халат и закурила одну из папирос, забытых Дашковским, своих у нее не было. Опять в мыслях ее замелькали строчки стихов: «Но это не стихи вовсе, это Бог знает что, вероятно, – подумала она. – Я вас ждала с безумной жаждой счастья». Она подошла к столу, где валялись пилка и кривые ножницы. «Я вас ждала, – сказала она вполголоса, и волнение перехватило ей грудь, – а вы, вы…» – и она вдруг всадила себе ножницы в руку у локтя. После чего она завязала руку платком и сейчас же потушила свет. «Задуй, пока можешь задуть».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































