Текст книги "Без заката"
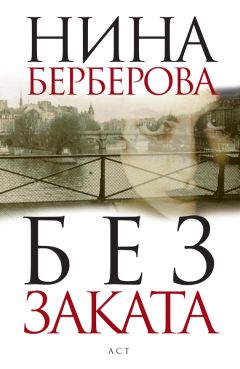
Автор книги: Нина Берберова
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
XVIII
У Александра Альбертовича комната была с балконом; это была прежняя Шуркина комната, та самая, в которой стояла оттоманка и блестела при луне кафельная печь. Недаром здесь был Александром Альбертовичем подобран Верин гребешок. Маленький железный балкон висел над переулком, и на нем помещались два стула. Вера приходила сюда, садилась и смотрела вниз, на улицу; Александр Альбертович садился рядом. Шурочка приходила, поджав одну ногу, стояла в дверях:
– И когда же вы поженитесь?
Было совсем тепло, был конец апреля. Над нищетой и грустью голодного города сверкало лазурное небо, обещая длинное ясное лето. Было несколько лавок, была парикмахерская, куда Шурка водила Веру завиваться, был даже ресторан, где все было очень дорого и невкусно. Александр Альбертович каждое утро что-то приклеивал в своих ботинках, потом долго чистил их щеткой и закрашивал чернилами. Иногда, вечером, когда все ложились спать, он шел на кухню, кипятил на примусе воду и стирал свою рубашку. Днем у него бывал жар, он ложился; он говорил, что у него от волнения, от ожидания, Бог знает от чего.
– Пойми, – сказал Вере отец, беря ее по всегдашней своей привычке за плечо цепкими пальцами и делая немножко больно, – я не могу быть ни за, ни против такого брака. Ты – свободный человек. Но если все это – одно сострадание?
– Как тебе объяснить, – отвечала она хмуро. – Сострадание – это что-то безличное. Сейчас это невозможно. Сейчас все очень личное.
Он пытал ее глазами, отпускал, ерошил волосы.
– Лучше было бы, конечно, без всякого сомнения, лучше было бы, если бы ты осталась с нами здесь. А то как же так? А?
– Я вернусь, – отвечала она, стараясь не думать, когда и как это случится.
В день свадьбы Вера опять надела свое шевиотовое платье – оно было лучшим, оно было единственным. Накануне они с Александром Альбертовичем были в комиссариате, и там их записали мужем и женой.
– Ты что же, нынче уйдешь вечером к нему? – спросила мать, видя, что Вера сама не заговаривает о переезде.
– Нет, зачем же. Мы уже эту неделю до отъезда побудем так. Ведь целый день вместе.
Мать все присаживалась – то на стул, то на кровать, то на сундук, она не держалась на ногах и вдруг оказалась маленького роста.
– Знаешь, – сказала она Вере из какого-то угла, – я когда-то очень любила жить на свете.
Вера гладила у окна.
– А теперь мне это все равно.
«Нельзя, не надо спрашивать почему», – подумала Вера.
Мать сидела и смотрела на нее, уронив руки, испорченные работой, в грубом платье, с какой-то преждевременной немощью в теле.
– Разве я старуха? Мне ведь совсем немного лет. Но я чувствую себя сегодня такой старой, а в день, когда ты уедешь с ним, мне, наверное, стукнет сто лет.
– Почему? Что за глупости ты выдумываешь!
– Ой, не будь такой строгой, а то я заплакать могу. Меня сегодня обидеть легко, – она отвернулась и смахнула со щеки большую слезу. – И подумать только, откуда берутся еще такие люди, как твой Александр Альбертович? – Вера подняла голову. – Ты люби его, люби! Уж если начала – не бросай.
В церковь пришли все вместе: Геня и Матренинский держали венцы, Шурка стояла с букетиком нарциссов, отец и мать – поодаль и там же – две старенькие дамы в одинаковых блузках с галстучками, часами на цепочках и обе в пенсне: подруги покойной матери Александра Альбертовича, тоже переводчицы модных романов: одна скандинавских, другая испанских. Они называл его Аликом и целовали и обнимали его, как ребенка.
Присмиревшие, усталые, голодные, они вернулись домой, и мать вдруг захлопотала, засуетилась: выяснилось, что готов целый обед – борщ, зразы, печеные яблоки на сладкое; выяснилось, что сохранилась в буфете бутылка шампанского – привозного, французского, – и каждому досталось по глотку его пены.
– Я чувствую себя очень неловко, что доставил вам столько хлопот, – сказал Александр Альбертович, и над ним посмеялись, и он посмеялся сам, и все равно, пусть будет что будет, пусть смеются, пусть рухнет вселенная – он смотрит на Веру, держит ее за руку и не отпустит от себя.
А товаро-пассажирский пароход, на котором они должны были ехать до Штеттина, уже чистился, уже грузился у Гутуевского острова.
…Провожающих не пустили на мол, и прощаться пришлось в здании таможни, в узком проходе, только что свежевыкрашенном масляной краской; надо было все время помнить об этом, чтобы не задеть стены; мимо шли люди, приходилось давать им дорогу; хотелось еще и еще прижать к себе всю в слезах, почему-то дрожавшую и все-таки улыбающуюся мать, отца, целовавшего так больно и сильно, сказать что-то Шурке, сказать непременно, не забыть. Но всех их гнали куда-то, и все тот же кривоногий в крагах возвращался и требовал здесь не толпиться, не застревать, а проходить как можно скорее. И прощай, прощай! И у тебя на спине зеленое. И будь счастлива, и счастливый путь, и вам тоже пусть будет в жизни счастье! Пиши, пиши, как только можешь часто, про все пиши. И не беспокойся: дома скипидаром вычищу – все сойдет.
Так на всю жизнь, неизвестно какую, – едкий запах олифы и материнская кротость, и легкомысленно перекинутые сходни с этой земли на палубу двухтрубного немецкого парохода.
Он отвалил ночью, словно делая что-то недозволенное, а до ночи Александр Альбертович и Вера все смотрели с какого-то ящика на тающий в медленных летних сумерках очерк Петербурга – Калинкин завод, фабрика Кенига и далекий, за туманными домами, шпиль.
Она никогда не думала, что Петербург такой, если смотреть с гавани.
– Я тоже, – сказал он.
Она жалела, что никогда раньше не приходила сюда, здесь так обморочно и терпко пахнет морем.
– Я тоже, – опять сказал он.
Она рассмеялась, сняла ему шляпу и растрепала волосы.
– Спасибо, – сказал он и поцеловал ее руку. Она сделала вид, будто собирается его задушить.
– Опять спасибо, – сказал он еще раз, посмотрел на нее и закрыл глаза, а когда он закрывал так свои большие светлые глаза, Вере казалось, что что-то гаснет рядом с ней, гаснет сама жизнь, такая горькая, такая трудная и прекрасная – сделанная из разлук, чужих стран и соленых слез.
Она запомнила два пробуждения. Первое – утром, перед Штеттином. Она лежала на верхней полке, как в сетке (каюта была совсем маленькая), и слушала стук машины. «Бесповоротно, – сказала она себе вдруг. – Живу. Еду. Стучит». Что это значило, она сама не знала, но чувствовала, что остановиться нельзя – ни земле вокруг солнца, ни машинным колесам, ни ей.
– Мы куда-то приехали, – сказала она, перегнувшись вниз, и увидела, что он проснулся. Она протянула ему теплую руку, и он потянулся к ней и стал целовать ей ладонь и пальцы, гладить себя этой рукой по лицу, купаться в этой руке. Это была минута судорожного счастья. Потом начался день.
Второе пробуждение было под самым Парижем. Он не проснулся на этот раз, она была одна, и ей было страшно. Она вышла в коридор. Народу в вагоне было мало. Она стояла и смотрела на черепичные крыши пригородных домов, на первые вывески, на сушившееся белье, на груды старого железа. Ей становилось все страшнее. «Куда? Зачем? Подождите…» Хлопнула дверь, прошел контролер. Поезд пошел словно под гору – еще бесповоротнее, еще отчаяннее, чем колеса парохода. Мелькнула надпись: «Париж в 34 километрах». Вера держалась за никелированный поручень окна. «Париж в 29 километрах». Было девять часов утра. Зачем держишься за этот поручень, он ведь летит вместе с тобой! «Париж в 18 километрах». Вот Александр Альбертович вышел и встал рядом, он прямо со сна, но лицо у него не бывает заспанным; Вере все не становится спокойнее. «Париж в 8 километрах». Уже? Он уходит в купе собирать вещи. Ей делается безразлично, куда, хоть к созвездию Геркулеса. И вдруг – рев, свист, грохот на стрелках, еще раз надпись, какая-то платформа, идет встречный поезд. «Париж в 3 километрах». Париж…
Все показалось – несмотря на погожий летний день – очень сизым и дымным, каким кажется и теперь, каким казалось все эти три года. И квартира показалась дымной тоже – это была квартира покойного брата Александра Альбертовича, его вдова уехала на юг и оставила ее им – со всеми зеркалами, картинами и пальмами. И дымной показалась Людмила, появившаяся здесь (живущей прислуги Вера не терпела).
В первый месяц этой жизни он еще гулял, смеялся, покупал себе костюмы и разные ненужные предметы, приглашал каких-то гостей. Потом все это кончилось.
– Куда ты идешь? – спрашивал он. – Я не могу без тебя. Я умру без тебя. Я лучше пойду с тобой.
Она оставалась. По правде сказать, ей некуда было идти, разве что посмотреть на что-нибудь, она так мало в жизни видела! Потом и это кончилось. Был год заключения, истерического его тиранства, потом – год смирения. И теперь он позволял ей иногда это выбегание по утрам, словно готовил ее к близкому, полному от себя освобождению.
Когда-то (еще, кажется, летом) она читала ему вслух. Он мог слушать одну-две страницы. Почему-то чаще другого попадался ей в руки «Онегин» – и почему они оба так любили его, было им самим неясно. Там ничего не было ни про них, ни про их странную связь, ни про предсмертную, мучительную его жадность к ней, ни про дикую, животную потребность увести ее с собой; там не было ничего про ее, ей самой непонятную окаменелую святость и безумную жажду освобождения. Теперь он уставал от одной строфы, но иногда, ночью, когда ему не спалось, он все еще просил:
– Там было местечко одно, про то, как кружится вальс…
И Вера читала:
Однообразный и безумный,
Как вихрь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный…
И тогда он поднимал слабую руку в знак того, что довольно, что на сегодня слишком много волнений от этих строчек, и она стихала.
Он не замечал, что она читает громче обычного, с каждым разом все громче: он переставал слышать, он переставал видеть, замечать что-либо вокруг, и только ее присутствие – как чья-то живая, движущаяся, теплотой и здоровьем наполненная душа – было единственное, чего он жаждал и что еще знал.
И однажды случилось так, что поздно ночью она встала, услышав его стоны – она третью ночь не спала вовсе после его последнего горлового кровотечения, – и, пошатываясь и ежась, подошла к кровати, ожидая, что он вот-вот проснется, и тогда она наклонится к нему, окружит его собой, укроет от всего, что его мучит и делает ему больно. Но он, не просыпаясь, затих. Горела лампа, закрытая газетой, слышно было, как по водосточным трубам бежит вода и проливается и льется куда-то. Вера взяла книгу, чтобы не заснуть, открыла на письме Онегина к Татьяне и, чтобы только не потерять нить действительности и собственного сознания, стала читать едва слышно, но все-таки голосом:
Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел,
Привычке милой не дал ходу:
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Это ни на что, ни на что решительно не было похоже, но само чтение что-то напоминало ей. Свет, падающий на книгу, мертвец, лежащий посреди комнаты, чтение над ним. Все это напомнило ей ночное чтение псалтыря над дедом. Давно, давно, в детстве. Когда звенела, и сверкала, и плыла на нее жизнь…
Был седьмой час утра, когда она перестала и закрыла книгу. Ночь едва-едва начинала разрываться в небе над городом, какие-то звуки, ранние, первые звуки, начинали долетать в раскрытое окно. Внезапно она направила свет лампы прямо в лицо Александру Альбертовичу, в голубоватое острое его лицо.
Сомнений не было: она была свободна.
XIX
Она была свободна. Она была одна. То есть она пребывала на полюсе, противоположном тому, к какому стремились люди ее планеты: в деревнях, городах, в горах и пустынях стоят жилища для людей, живущих по двое или семьями, и мир стоит, и государства, и вся дикость и цивилизация людская стоят на том, чтобы человек не был свободен и одинок. А она была одна. И ей было от этого странно. Она всю жизнь была «как все», а в этом одиночестве, в этой свободе было что-то исключительное, и ей было неловко от этой своей внезапной исключительности.
Надо было вызвать Лизи, сейчас же, чтобы она поспела к похоронам. А потом – месяцы или годы – расхлебывать дивный дар, которым наградила ее судьба.
И вот уже не ложная, но настоящая свирепая весна ломилась в город, и на тот мокрый декабрь, больше года тому назад, декабрь похорон Александра Альбертовича, приезда из Ниццы Лизи, разрушения нелепой пыльной квартиры, весна эта не была похожа. На седьмом этаже большого дома, смотревшего куда-то за город, в зелень и даль, в низкой большой комнате с белыми обоями, меблированной немногочисленными, но какими-то блестящими, совсем еще не обжитыми предметами, в час, когда солнце встает над землей, но его еще не видно над домами, Вера проснулась, не шелохнувшись, открыла глаза и почувствовала прилив такого невыразимого, такого летучего, такого острого счастья, что, продолжая лежать, не двигаясь, не мигая и даже не отводя глаз от голубого, ничем не занавешенного окна, она постаралась удержать это мгновение, продлить его. И это удалось ей: минуту, две (она потом старалась вспомнить: не целых ли три?) продолжалось это чудовищное, с детства не возвращавшееся, теперь не совсем уже то самое, ощущение, кончавшееся в сердце воображаемой, но все-таки отчетливой судорогой. От этого вздрога когда-то, в деревенском доме в Окуловке, вздрагивала и ее детская кровать, и Бог на плюшевой подкладке, подвешенный к кроватной шишке, вздрагивал тоже. Сейчас не было ни Окуловки, ни кроватной шишки, ни даже Бога, она была одна. Она – и время, текучее, делающее ее смертной или бессмертной… не все ли равно? И тем именно были так блаженны эти две-три (может быть, четыре) минуты, что все внутри нее, размягченное, расслабленное сном, вдруг спокойно и внимательно посмотрело куда-то, в ту сторону, где как будто раньше не было ничего, посмотрело и увидело ту же жизнь, какая была в ней, то же течение и, увидев, соединилось с чем-то в душащей радости – не с зеркальным своим отражением, когда-то мечтавшимся, а со всей вселенной, с встающим солнцем, с кричащими птицами, со всем, чему нет и не может быть конца. И в это почти нестерпимое мгновенье – потому что, конечно, это было всего одно мгновение, а о минутах она придумала потом, – она почувствовала, что время не течет сквозь нее, но что она-то и есть само это время, она вместе с солнцем, птицами и вселенной. И все, что будет с ней завтра и после, уже наступило!.. Тут она опять заснула и проснулась поздно, вскочила, вспомнила торжественные свои мысли на рассвете, вспомнила, что здорова, свободна, молода, что ничего не жалко, что всего хочется, и распахнула окно, и пошла, пошла мысленно шагать по сизым крышам, по дали, по зелени, по небу, пока не унялось под горлом клокотание беспричинного счастья.
Накануне днем она вернулась в Париж. Полтора года тому назад увезла ее отсюда Лизи – тем самым мокрым декабрем. Лизи она тогда вызвала телеграммой из Ниццы, к похоронам; Лизи была вдова брата Александра Альбертовича, и кроме Лизи у Веры не было никого. Она приехала в полном траурном облачении, очень шедшем ее крашеным волосам, легким, как шелк, ее миловидному лицу, на котором отпечатался след кружевом обшитой дорожной подушечки. До этого Вера видела ее всего раз. «Я вас лублу», – почему-то нравилось говорить Лизи всем и каждому: по-русски она знала всего несколько слов. «Я вас лублу», – сказала она когда-то и Вере. К похоронам Александра Альбертовича она приехала озабоченная, но по-прежнему нарядная и такая уютная, мягкая, шелковая, душистая, вся в каких-то черных перышках и стрелочках, что Вера обрадовалась ей. Лизи все знала, что нужно делать, и сколько дать на кладбище на чай, и куда положить лист, на котором должны расписаться приходящие. И когда все было кончено, она сказала Вере, чтобы та не стеснялась и выспалась, и Вера легла и спала четверо суток, просыпаясь каждый день перед вечером, и Лизи сейчас же приносила ей кофе с булочками и уговаривала спать дальше.
Тогда были сны. К концу этого сонного запоя виделся какой-то танец, который она танцевала под открытым небом в ситцевой юбке; это была визгливая полька, а по лицу бежали слезы. Потом был тяжелый сладострастный сон, и она проснулась от собственных стонов; в пересохшем рту стоял сухой и замерзший язык, по онемевшему плечу струились граммофонные иголки.
Когда на пятый день Вера встала, она поняла, что начинается что-то совсем новое, а когда Лизи объявила ей, что от квартиры она отказалась, мебель продала, Людмилу отпустила и везет Веру в Ниццу, она с тупым блаженством в душе отказалась противоречить. Лизи решила все удивительно быстро, она сняла маленькую квартиру на окраине Парижа: одна комната – мне, другая – тебе, если мы захотим когда-нибудь вернуться… Была куплена мебель: из старого ничего нельзя было взять, все было так громоздко, так неудобно. Лизи семенила по магазинам, на дом приносились картонки, папироски курились одна за другой, какие-то приходили друзья – Вера с удивлением заметила, что большая часть знакомых у Лизи русские.
Но прошло две недели, и Лизи стала совсем родной. Ни о чем не думать было тогда Вере очень приятно. «Слушай, – сказала она однажды, – спасибо тебе за все, за все. И поедем вместе, и будем вместе жить, но цель у меня – быть от тебя независимой, и я вернусь сюда и выдумаю, что мне дальше делать».
– Хорошо, хорошо, – замахала на нее Лизи руками. Не будем ничего решать. Лучше скажи мне, кто это и куда ему посылать благодарственное письмо?
На столе лежала стопка траурных конвертов и лист с подписями бывших на похоронах. Удивительно, как Лизи все умела устроить.
На листе было подписей двадцать. Да, двадцать человек пришли проститься с Александром Альбертовичем. Была тут и Людмила, и доктор, и старая актриса, жившая внизу, и несколько французов – знакомых Лизи и Жан-Клода, и с десяток русских фамилий. Постепенно разобрали всех, и после этого разбора осталось одно неведомое имя, которое они с трудом прочли: Дашковский. Кто такой был это Дашковский, где жил и как выглядел, ни Вера, ни Лизи не знали.
– Я никогда не слышала такой фамилии, – сказала Вера. Лизи подумала, поерошила свои завитки…
За тот месяц, что они готовились к отъезду, Верой было получено так много писем, как никогда в жизни. Сама она писала домой редко и мало, но тут пришлось написать, и в ответ пришло несколько конвертов: от отца, от матери, от Шурки Венцовой, от Полины Адлер из Берлина. Когда Вера перечитывала их одно за другим, то от слов «дорогая Вера» «милая Верка», «родная моя Верочка» ей начало казаться, что гремит какой-то хор, и делалось почему-то неловко.
Полина Адлер звала в Берлин – погостить, развлечься; Шурка Венцова требовала немедленного возвращения в Петербург, и только родители не звали ее. Почему? С некоторых пор здание на улице Гренелль населилось новыми людьми, можно было пойти туда, справить свои бумаги. Но родители словно боялись, что она вздумает это сделать. И так это и осталось.
Бывало, Вера долго молча смотрела на лицо Лизи, в румяное, круглое ее лицо, и все в Лизи ей нравилось, а главное, то, что Лизи никогда не трогала того, что лежало на дне отношений ее с Верой, на дне ее приезда в Париж. Отгрустив, отхлопотав в первую неделю, она спокойно и с тихим весельем пользовалась своим здесь пребыванием, не стыдясь того, что ей нисколько не грустно, не казня себя за свой легкомысленный характер и стараясь присутствием своим не понуждать Веру вести себя так, а не иначе. И не все ли равно было, что она думает о Вере («Дурочка, у нее, кажется, и в самом деле не было любовника?»), – без лицемерия, без насилия она была рядом с ней. И Вере она нравилась все больше, и нравиться начала эта жизнь, куда увлекла ее Лизи – на время, на время, а там посмотрим. И нравиться начал этот ряд раскрытых сундуков, куда Лизи роняла пепел своих папиросок, танцуя в золотых, без задников, туфельках по комнатам, даря приходившей помогать Людмиле свои прелестные платья, вышедшие из моды десять лет тому назад. А от Веры в это время, наставив паруса, надув туманные полотнища, уходили воспоминания, уходили последние годы, дни и ночи, дыхание, голос Александра Альбертовича; каким-то сладким, живым, непростительным миром заливала ей сердце эта новая жизнь; и ей нравились русские знакомые Лизи: друг покойного Жан-Клода, барон Н., с которым Лизи была на «ты», младший Масленников, прогоравший на театральной антрепризе, поденно работавший в ресторане Лукашевич и жена его, шившая корсеты. «Я вас лублу», – прокричала она им в окошко вагона и залилась смехом, и Вера, улыбаясь, махала сбоку перчаткой, пока не исчез из виду последний провожавший – высоченный, лысый, остроголовый Лукашевич.
Теперь она снова была в Париже. И не все, что произошло с ней за эти полтора года, было хорошо, не все хотелось ей вспоминать. Но разве нужно возвращаться мыслями назад, если она решила вообще никогда не возвращаться назад, если она не возвращается в Россию, и не было у нее человека, к которому она могла бы вернуться, – они уходили, они умирали, они исчезали. Может быть, в старости – если вообще будет старость – она захочет вспомнить что-нибудь из этой однообразной, и пестрой, и праздной Ниццы, но не сейчас. Продолжается кругосветное, а кто же в кругосветном вспоминает что-нибудь, кроме дня отплытия? Ее день отплытия – это Самин плашкоут, обитый зеленым мокетом, под часами в классной, старый адлеровский диван…
И Париж не был для нее возвращением. Далеко-далеко от того дома, где жил и умер вельможа XVIII века, была она сейчас, и все было другое: это утро, это одиночество, свобода, крепкий, счастливый эгоизм, какие-то планы на осень, какие-то экзамены, к которым она будет готовиться. Она вскочила, решительно перерыла чемодан, достала блокнот. «Лизи! Лизи! Все нашла в полном порядке и в сильнейшем нафталине. Твою комнату я заперла и жить в ней не буду. Лизи! Лизи! Кланяйся всем. Особенно Феде, конечно. А про К. ничего мне не пиши и моего адреса ему не давай…»
Это было ниццкое наследство, звучавшее загадочно, но обеим понятно, грозившее завтра же или нынче ночью рассыпаться в воспоминаниях трухой. Оно напоследок еще волновало Веру чем-то мутным и делало вид, будто отрывается навсегда. И письмо ее было путаное – последний след полуторагодовой путаной жизни. В этой жизни так мучила жажда узнать, что же такое она сама и другие с ней рядом? Что такое пресная случайность, подвернувшаяся ей, над которой она наспех наклонилась, чтобы сейчас же от нее бежать? Что такое обманчивый привкус постоянства, мелькнувший и пропавший, который она не в силах была вернуть, удержать, который оглушил, ослепил ее и который она убила своим отъездом? И вот клокочет сердце от этого пробуждения, от наступающего дня, от собственной решимости, от солнца, блистающего над Парижем, от того, что без передышки, без передышки она продолжает шагать по крышам.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































