Текст книги "Эротоманка. Все о любви"
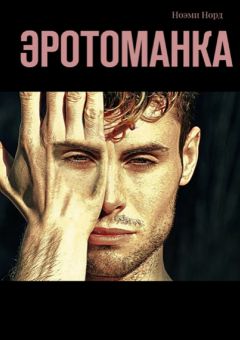
Автор книги: Ноэми Норд
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Любви последняя нота – жизнь
«И помело в руках, и свист в ушах и полька…»«Хороший вечер…»
И помело в руках, и свист в ушах и полька,
и виражи и визг волшебных тормозов.
Украден плод, и ледяная долька
проглочена с зубрежкою азов.
– Держись! Еще чуть-чуть и мы непобедимы!
И мир – у наших ног! Ты – в злате и камнях! —
вещает маг. – И станем вновь едины,
познав не дружбу – черный прах в ногах!
Когда в слиянье темных двух материй
аннигилирует телесный беспредел,
пробудятся в душе и демоны, и звери,
чтоб разорвать блокаду детских стрел.
«Это подло – говорить легко…»
Хороший вечер,
свеча, камин,
и лоб отмечен
сребром седин.
Сидеть так тихо,
чтоб ни щелчка,
но словно лихо
и дрожь крючка.
И в одеяле,
а не в шелках,
застрять растрепою
в трех углах.
Брести вслепую,
мечтать навзрыд,
– Блефуй! – блефую
аж за троих.
Как под гипнозом:
Люби – люблю!
Анабиозом:
Губи – гублю…
А тот, единственный,
че-ло-век —
вдруг разговор наш
прервет навек.
И крик – не в кось,
и вопль – дик:
С тобой – не врозь!
Жизнь – лучший миг!
Но голос в трубке
на полчаса:
о чем сейчас
твои глаза?
И руки, плечи, тело —
о чем?
Вот с этим – смело
вся кровь – ключом!
Ручьем! Фонтаном!
Аж водопад!
– Отдайте трубку! —
вдруг говорят.
«Бедный, смешной, несчастный…»
Это подло – говорить легко,
слегка, много, велеречиво.
Дыши, как в бурю, трудно, глубоко,
пусть – каждое слово – неучтиво.
Не давай пустому потоку
источать глупость со дна —
Каждое слово – камень!
Каждое слово – война!
Боль – наотмашь,
кровь по губам,
ненависть не ручей,
не трели галек.
Бойся вон того,
у которого смерч по мозгам
рвется наружу,
дергает губы,
жалит.
«Как мы легко меняем…»
Бедный, смешной, несчастный,
сходящий с ума от судов,
уже ко всему безучастный,
уже ни на что не готов.
И руки твои размыкаю,
и лоб не целую твой.
О боже, как много я знаю,
что там, за гримасой крутой.
«Не плоди разговорное вирго …»
Как мы легко меняем
час – на час,
век – на век.
Трудней, но привыкаем:
дом – на дом,
дверь – на дверь.
А друзей?
Не сами – их уносят
стихии резких фраз,
не удержать руками,
сетями нежных глаз.
Тишь гордых извинений
заглушит крик обид.
Успеть в вагон последний!
Шаги замедлит – стыд.
«Дайте кошке бездомной – дом…»
Не плоди разговорное вирго —
говори, словно в раз последний,
отрицай – словно злато – пробирка —
разумей – информация – сплетни.
И не в дождь уходить, а при солнце —
от сокрытых слез отравиться.
А всерьез отравиться – позорце
не травить эти гнусные лица…
«Мыть окна и варить варенье…»
Дайте кошке бездомной – дом,
дайте кошке бездомной – угол,
на последнем дыханье, с трудом
нота верхнего до и потуга.
Дайте кошке бездомной – дом.
Дайте кошке бездомной – огня,
гнуть в лучах нежно – гибкое тело,
дайте кошке бездомной меня —
целовать клыки ее смело.
Дайте кошке бездомной меня.
Дайте кошке – глядеть, понимать,
ч т о – рисуется, к а к – творится,
чтоб сквозь толщу эпох вспоминать
грустных ангелов бледные лица.
«Уходится – когда стихи…»
Мыть окна и варить варенье,
компотом банки наполнять,
бежать по рынкам в воскресенье,
и никуда не успевать.
Все ради судорожных мыслей:
дефолт, запасы на январь,
И то ли белкой, то ли гризли.
солить, сластить, коптить, как встарь.
Лишь этим жизнь пьянит мирская.
Быть работягой – муравьем,
увы, не сказочка пустая —
иначе мы не проживем.
Пошлее сочетанья нету —
(о «б а б ь е м л е т е» разговор)
Подкрасить дверь и раму эту,
и выдворить из дома сор.
И нет иного продолженья,
иным прогулкам не бывать —
Мыть окна и варить варенье,
компотом банки заполнять.
Уходится – когда стихи
уже кипят внутри
и легче дыма и трухи
плывут календари.
Уходится – когда уход
становится немыслим,
и мыслей тайный черный ход
вне всех нормальных истин.
Уходится, когда рука
сжимает пустоту,
и плоть, как эти облака,
прозрачна – на лету.
И вне порыва: «Блядь, убью!»
О ревности исток!
Сгоревший дроссель бытию
пожизненный итог.
И коротнулся кто-то за
пределами тоски.
Но незакрытые глаза
прожгли узор доски.
Лавина
поэма
«Печаль …»«Не плачь …»
Печаль —
и голову свою к тебе склоняю…
Печаль —
укрой руками тело – стон…
Печаль —
найди птиц безголосых стаю,
прерви, нарушь
молчанья страшный звон.
Дай руку, говорю —
Ты чувствуешь – как тонко!
Ты видишь —
чей-то взгляд над нами в вышине?
И нет лица на мне – пластмассовая пленка…
Печаль —
она свеча, которая – на дне…
Дай руку, говорю,
Вдали гудит лавина…
Она убила двух любовников
в снегах.
И не они, а мы —
печали той причина,
и снега на моих, и на твоих губах.
«А люди все идут, и факелы пылают…»
Не плачь —
сквозь крик и взмах крыла прощальный,
не плачь —
сквозь нежную горячку щек,
не плачь —
как таянье
в руках стеблей хрустальных,
где первый поцелуй —
по – ангельски далек.
Не плачь,
упав в дыханье мертвой розы,
сквозь сердцевину в даль пугающих миров,
не плачь —
заметишь там, сквозь белые торосы-
укроет легкий снег круги больших костров.
«Помнишь …»
А люди все идут, и факелы пылают…
Потерян кто-то здесь, загублен и убит?
– О, доченька моя!…
– О, сын мой! – и рыдают…
А ты не плачь —
твой плач – навеки в снег зарыт.
«Родное в печали…»
Помнишь —
на руках умирала
птица, почти человек,
крыльями трепетала,
то ли соль, то ли кровь из под век…
Искорка в океане,
карма твоя на нуле…
Ну, поплачь на прощанье,
виновата в котором зле?
Я тебя – переживаю
согреваю рукой,
нет смертей – грусть и несовпадение
скоростей в вечной гонке большой.
Остываешь —
по капельке
остаешься в прошлом,
вздох – сон – дрожь…
Остаешься —
и не вернешься,
не догонишь словесную ложь…
Время неумолимо
остановилось вдали —
факелы – мимо, и мимо…
со скоростью вечной Земли.
«Словно память умирает…»
Родное в печали…
Убитые руки и тела осколки…
И разве не в эти глазницы кричали?
Но эхом – раскат оглушительно долгий.
Ответ и падение…
Смерть и триумфы
победных значков и
мучительных пасов…
Тот вечен – кто пал,
по кому – сожаленья,
рыданья, седины…
Тот умер – кто спасся…
«В нежности …»
Словно память умирает,
и рассудок умирает,
никому ни зги не видно,
как икону – на доске.
Защити меня, О Боже!
Сохрани меня, о Боже!
Обними меня, о Боже!
В этой пристальной тоске!
И опять я остываю
и опять я замерзаю
в черных бешеных сугробах,
ни следов и ни дорог.
Позабудь меня, о Боже!
Прокляни меня, о Боже!
Дай ты мне погибнуть тоже,
Как ты сам когда – то смог.
«– Лыжница не успела…»
В нежности —
не умрет,
теплый воздух глотая,
хватая тень, пустоту,
рассыпанная
на сотни судеб,
как птичья стая…
В нежности
не умрет —
спичка в руке не зажжется,
кто-то мимо пройдет,
вскрикнет и ужаснется:
сидит ледяная дева,
выросший снежный столб —
и кто – то спирт «для сугрева»
растроганно тянет из толп.
– Лыжница не успела,
разжечь костер
– Видишь, спичка в руке,
видишь, рядом топор.
– Так и замерзла, бедная,
умерла…
– И наверно долго
кого – то ждала.
Царевна и Вор
– 1 —
В этом доме жила царевна,
вышивала ночную звезду,
пела, песенку ту, наверно,
было слышно и за версту.
А по этой дороге крался
вор, повеса, что шаг – то скрип.
Говорили: то ли зазнался,
То ли в кралю какую влип.
И текли по дорогам разным
слухи, словно весной вода,
что у вора – загул и праздник,
ну а в царском доме – беда.
– 2-
– Где спала, моя родная, дочь?
Из ушей торчит солома, юбка всклочь?
Кто он? Ишь, бесстыжие глаза?
Аль нашла себе бубнового туза?
Что пила, мерзавка, отвечай!
– Чай.
– 3-
Стоит только чутким ухом
приложиться к мать – земле,
все услышишь: враг ли скачет,
друг ли мчится на коне.
Слышишь топот? – Милый мчится!
Дикой пеной снег спален!
Только не спеши хвалиться —
мимо, мимо скачет он.
– 4-
Собирай свои пожитки,
загляни в семейный склеп,
на дорожку – кофе жидкий,
маслом вымаранный хлеб.
Навсегда из дома прочь,
обесчещенная дочь!
За спиной – свинец лица
и проклятия отца.
За скалой – костер, дорога,
два коня, готовы оба,
и любимые глаза,
не оглянешься назад.
Не увидишь в стылый просвет:
на сырых следах отец,
губы – в опоздавшей просьбе,
сердце – стиснутый рубец.
– 5-
Надо спешить!
Ахнут ставни.
Цокот на створках дорог.
Выбежит дед стародавний,
бросит ружье на порог.
Так уводили рискованных,
венчанных с чертом невест.
Втоптаны в землю подковами
пояс, фата и крест.
Пиратка
– 1-
Ярость, яркие губы,
горло коробит ром.
По рундукам хоть шаром
покати, голос грубый:
– По местам! Лево руля!
К бою готовсь!
Где-то там чертыхнулась земля —
бьются насмерть два корабля.
– 2-
А у пленницы косища —
до колен.
А у пленницы глазища
судну – крен.
Скромная – скромная,
не смотрит в глаза,
и слеза огромная —
девичья слеза.
– На пиратском рынке
много не дадут.
Сгрудились на ринге,
воздух взрезал кнут.
Три бокала – залпом.
– Не сморкаться в мех!
Пленников – за борт!
А эту – на всех!
– 3-
Не от рома, не от дыма
корчится душа,
так и жить во власти
ссор и дележа.
А вокруг побоище,
пьяная резня,
крики, брань, блевотина,
да грубая возня.
– Прекратите, гады,
голова болит!
Боцмана!
– А боцман только что убит…
Но хватило пули,
укращен содом.
Белый рой акулий
вьется за бортом.
Белый рой акулий
жадно тело рвет.
Крестик в угол пнули,
а он – тот.
Пленница колдуна
Баллады
Бриллиант в сундуке
для железных нервов
Он раздвинул кусты – там, в окне – его мать,
у нее бриллиант в сундуке.
Он вернулся, чтоб вымолить, силой забрать —
лишь бы камушек ценный – в руке.
– Где бы он не лежал – все равно будет мой!
– Не отдам – хоть весь дом подожги!
…И нещадно разрублен сундук расписной —
в нем всего лишь – четыре деньги…
Полетела зола и котлы из печи…
В крик мамаша:
– Да где же ты, Бог?!
Лучше б ты не вернулся!
– Мамаша, молчи!
Ну-ка скинь-ка чулки свои с ног!
В тот же миг засверкала звезда под рукой!
– На смотри – где он был – где он есть! —
и тотчас – его в рот, огонек голубой,
проглотила:
– Ну что же ты – лезь!
– Ах, ты, мать ты моя, печень – почки – язык —
километры зловонных кишок —
горло – таз – голова – да куриный кадык —
да пустые пластиночки щек.
Мертвые руки
Он сходит медленно с ума
и ночи напролет,
пока чужие спят дома,
лишь стука в двери ждет.
То, настораживая слух,
на цыпочках стоит,
то с наслажденьем давит мух
задумчив и сердит.
И дочь, которая мертва,
жена, которой нет,
к нему являются, едва
кругом погаснет свет.
И руки мертвые свои
протянут из щелей
и шепчутся: «Люби, люби,
жалей, жалей, жалей…»
А он их материт и бьет
по лицам, по ногам,
а он пинает дочь в живот,
и целит по глазам.
И вновь палит по ним ружьем,
но снова тут как тут.
А он их рубит топором —
опять – зовут, зовут…
Наутро – только рассвело,
лежит в своей крови,
а где-то тихо и светло:
«Зови, зови, зови…
Тэль11
Тэль – мифический светлый дух леса
[Закрыть]
Где над топью кружилась вода,
горькой гарью чадила беда,
дикий зверь тосковал на ветру,
и колдун барабанил в бору,
Там в зловещих медвежьих глазах
и в поганых коварных словах
отразился таинственный свет —
призрак тэли – к сокровищам след.
Догадался свечу задуть,
и судьбу колесом развернуть,
чуял: весел грядет содом,
а потом хоть в тюрьму, хоть в дурдом.
Стал шаманить и язвы слать,
в топи злой схоронил свою мать,
злато греб, как кровавый хан,
ну, а тэль – под заклятый стакан.
И взмолилась она: «Отпусти!
Дай черемухой расцвести!
Дай звездой улизнуть в дымоход!»
Он в ответ рассмеялся, скот.
Стал он нелюдью, бобылем,
печь топил не лучиной – рублем,
Бабы липли на мед – жених!
Он давил, как окурки их.
Только заполночь – крики, и кровь,
тиком дергалась мрачная бровь.
По очам куролесил дым,
жертвы с кровью ползли за ним.
Раз одна прибрала со стола,
и глаза на свечу подняла,
удивилась: «Странный огонь…»
А колдун взбесился: «Не тронь!»
На рассвете та баба в крови:
– Пропади, зверь болотный в огне!
Он вбежал, вознеся топор,
страшный взрыв огласил простор.
И с тех пор там одни грачи,
головешки, полынь, сычи,
тлен, туманной росы капель,
И навеки свободная тэль.
Вой оборотня
Эта храповидная ноздревая дрожь,
это наслоение человечьих кож…
Гад я обескровленый, царь бродяг,
вою под звездою на зевак.
Вою – не пою, не трепещу.
Вою – не прошу и не ищу.
Там, за млеком вечных черных звезд
встал другой такой же, что не прост.
Здесь – начало времени, там – конец
в резонансе волчьих верных двух сердец.
Воем – воем – воем – не смолчать!
Воем – воем – воем – вам – кричать!
И несется в смерче адовых кругов
бремя наших мелких роковых долгов!
Не тянись за дробью темный господин,
ты сегодня в штатском – тот же сукин сын!
Не психуй пацанчик, голубой пижон,
я – то – вою – знаю, чем ты заражен!
Вою – вою – вою – бдю земную твердь!
Вою – вою – вою – чую смерть!
666
666! —
Хвост собаки трусливо поджат!
666! —
От рычания дебри дрожат!
666! —
к переносице вздет оскал!
666! —
человек зверем снова стал!
Зверя код
и особенно, в Гада год,
и особенно в Час Змеи —
вспомни слезы свои!
666!
Он уже здесь!
Черная масть!
Жгучая пасть!
666!
666!
Дай ему мяса скорее поесть!
Ты забудешь, но я-то припомню, гад,
что случилось пятьсот лет проклятых назад:
вдруг по морде твоей заструилась не кровь —
словно первая боль – голос неба – любовь.
Был у страсти твоей
легкий смех, светлый взор…
666!
Помнишь ты до сих пор…
666! – рядом с ней умирал,
666! – помню, милый, рыдал…
666!
Дрогнула дверь…
666!
Опомнись, Зверь!
Исторические баллады
О, мой паладин!Я рыцарь, я пала,
о, мой паладин!
раскрыто забрало —
ты бьешься один.
Я шлем подносила
и кубок и флаг,
и звездная сила
сжимала кулак.
Стрела роковая
тебя не смела,
я грудью бесстрашно
ее приняла.
И длится сраженье
сверженьем голов,
где ты в окруженье
проклятых врагов.
Прощай, звездный рыцарь,
ты в поле один,
но чувства бессмертны,
ты их господин.
«Я рядом с тобой…»Гладиаторы
Я рядом с тобой
мала, как бог,
я рядом с тобою —
боком в бок.
Я рядом —
влачу мегатонны идей
сквозь вирши и розги
вопящих блядей.
Я рядом,
и главное – стоит понять:
мы вместе – нет смысла
друг друга терять.
Слепой Виннету
Барсы, львы
в слепой Барселоне,
арены оскал.
Бился жертвой
в кровавом фантоме
и мечом фонтаны пускал.
Дуги разбрызгивал сала,
тугие виньетки жил,
публика рукоплескала,
требовала, чтоб добил.
Соперник оскалил зубы,
но сдержал смертный вой.
– Бей его!
– Смерть ему! —
Трубы
трубили.
– О, храбрый мой,
прощай! —
прошептал сраженный,
бросила меч рука.
– Стань моей смертью мгновенной,
добей. Кончина легка!
– Ты не умрешь, любимый,
Лекарь – умелый маг,
вернет тебя на арену.
– Смерти!
– Не будет так! —
И даровал ему вечность,
сопернику, другу, любви,
прощальную звездную млечность,
замешенную на крови.
Пронзив себя, победитель
на тело друга упал.
Барсы, львы
в слепой Барселоне…
Аплодисментов шквал.
Куда вы, совы костров?
Куда вы, белки вигвамов?
Куда вы, лисы долин?
К чему боевые маски?
Оста – но – ви – тесь!
Враг – не в той стороне!
Там – шум!
Там – бой!
Там – пыль
стеной!
Или вы потеряли ум?!
Раз – ум!
три – ум – ф!
Вперед!
Триумф!
Остановитесь, дети, прошу!
Чую, как – будто бы тень по ножу…
Вперед!
Все – в бой!
Там – враг
стеной!
Чую, как —будто бы уж по земле,
знаю – как-будто бы шаг по золе…
АмазонкаВперед!
Вперед!
Там бой
кровей!
Там – лязг!
Там стук!
Там – круг
смертей!
О заклинаю, враг не…
прощайте…
не в той… стороне…
Меч Тамары
Ты вел меня, проклятый, под копьем…
Я пленница твоя, мой храбрый викинг!
Но с перекошенным от гнева ртом
и со стыдом своим девическим великим.
В разлете плеч твоих порыв и бронь.
(Лишь о таком мужчине я мечтала!)
Но если пленница – то:
– Только тронь!
На языке своем с угрозой я сказала.
Последний миг тебе принадлежу!
О, страсть моя!
Мой бред, любовь до гроба!
И ты – у ног! И я в крови лежу!
Зато – вдвоем! Навеки вместе оба!
Летающая Дарья
Помнишь, как царица головы секла
болтунам и так, для острастки?
Брила головы лихие догола —
и – под меч, красиво строя глазки.
И трепач врезался в пену вод,
навсегда теряясь в лунном дыме.
До сих пор толпа мужчин жует
гордое неласковое имя.
По курилкам катятся смешки,
сальные растягивая лица.
Где твои кровавые мешки,
где твой меч, коварная царица?
До потехи дело не дошло —
не в обычае летающие бабы.
Мужикам – что? Лишь бы по боку – тепло,
лишь бы руки, ноги не корявы.
С колокольни утащили в монастырь,
заперли в монашескую келью,
вот и пристрастилась Дарья к зелью,
вот и смысл ее – огурчик да бутыль…
– Слишком уж была она лиха!
– Говорят, волчицей ночью воет…
Сломанным крылом метет сноха
в сенцах пол, грызут щенки другое.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – —
История неправильной казни*Дарья на самодельных крыльях пыталась взлететь с колокольни (ист)
Версия
Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит; через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблён в девицу Карр, фрейлину императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился; эта сцена происходила почти в моём присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы. Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но, чтобы не ревновать его, не было иного выбора, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно: я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было.
Из дневника Екатерины Второй:
В отличии от казни Стеньки Разина, приговоренного к четвертованию, Емельяну Пугачеву (1742—1775) повезло.
Четвертование 33-хлетнего атамана пошло не по обычной схеме.
То есть полагалось сначала отчеленить от тела правую руку, потом левую ногу, потом другую руку и ногу, и лишь после этого – голову.
Тело и внутренности отдавались на растерзание толпы, сжигались, запрещенные к захоронению.
Суд принял решение: «Емельку Пугачёва четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь».
Но на радость гуманистам Просвещения, и особенно Вольтера, тайным указом императрицы Пугачев до расчленения был быстро, одним махом топора обезглавлен. Таким образом покинул сей мир легко и быстро. Послабление злодею вызвало много нареканий среди пострадавшей от войны знати.
И все же истинную причину замены казни вельможи сумели утаить от черни.
Это – интимная связь императрицы с самозванцем.
Доказательством сексуального интереса 46-ти летней Екатерины (1729—1796) к Пугачеву может стать незанятый очередным любовником 1775 год. (1773 год – был годом Потемкина. 1776 – годом Петра Завадского)
О заботливом отншении к предводителю крестьянской войны говорит самоличное указание Екатерины Великой к страже:
«Весьма неприятно бы было её величеству, если бы кто из важных преступников, а паче злодей Пугачёв от какого изнурения умер и избегнул тем заслуженного по злым своим делам наказания, тем более, что П. С. Потёмкин по приезде в Москву гораздо слабее его нашёл против того, каков он из Симбирска был отправлен».
26 октября Пугачёва отправили из Симбирска в Москву, конвой сопровождался ротой пехоты с несколькими пушками. Утром 4 ноября 1774 года конвойная команда доставила Пугачёва в Москву, где он был помещён в подвале здания Монетного двора у Воскресенских ворот Китай-города.
А теперь посчитаем срок между датой прибытия Пугачева в Москву 4 ноября 1774 года и рождением Елизаве́ты Григо́рьевны Тёмкиной (13 июля 1775, Москва – 25 мая 1854) – предполагаемой дочерью ь Екатерины II и светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Тавриче
Но это же ровно 9 месяцев!
Девочку Потемкин не признал.
Она отличалась от детей, рожденных от вельмож отличным здоровьем.
Надо сказать, что Елизаветта Темкина прожила 78 лет, у нее было 10 детей, что нехарактерно для благородной крови.
В 1797 году Александр Самойлов заказал художнику Владимиру Боровиковскому портрет Елизаветы, которой было тогда 22 года. «Пускай Елизавета Григорьевна будет написана таким образом, чтоб шея была открыта, а волосы растрёпанными буклями лежали на оной без порядку». Портрет был готов через год.
Следует отметить упор на открытую шею и растрепанные волосы.
Для чего понадобился откровенный намек? Каждая деталь портрета той эпохи имеет значение к биографии.
Палач перед роковым замахом топора обычно убирает растрепанные волосы с плеч. На других портретах девушка изображена в окружении цепей. Их символика тоже одназначна.
Предлагаю сравнить 2 портрета. На одном – Емельян Пугачев, держащий в руках цепи. На другом – Елизавета Темкина. Художник изобразил цепи на заднем плане вместе с сильно накренившейся каменной башней. Символично? Очень.
Сама Екатерина постоянно пеняла на хилость вельможной породы, хуля слабую детскую выживаемость.
Вот и захотелось императрице крепкого мужицкого семени
– 1-
Смердам – смердово,
Голи – голь.
В рабство – первого,
в цепи, в боль.
Так старается
грязь в поту,
так страдается
на лету.
– 2-
Эта чернь, эта дрянь,
ее дрязги и вонь,
Поднялась ровно в рань,
нарядилася в бронь
на свиданье с вождем,
говорят, лиходей,
так хорош и умен,
не для низких людей.
Пожелал перед смертью
шлюху в постель,
– Вот дела! – удивилась.
Исполнить уже ль?
И сама не своя,
приоделась, пошла,
мертвый бабу не выдаст.
Такие дела.
Но глазами в глаза
загляделась – амбал,
от духов нос наморщил,
в объятиях сжал.
Эта рань на двоих!
До зари, до луча!
Был свиреп, нежен, лих…
На вопрос палача:
– Лютой смерти предать?
Али чуть послабей? —
улыбнулась едва:
– Без мучений убей.
– 3-
Упаси тоску,
лишь она в чести,
скрепы на доску,
да земля в горсти.
Атаман казнен,
руки, ноги – врозь,
на зелен газон
сердце моськам брось.
Хронологий часть
в роковом ключе,
оступилась в грязь









































