Текст книги "Эротоманка. Все о любви"
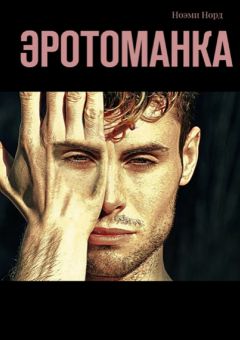
Автор книги: Ноэми Норд
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Вечная Мерзлота
«Нетронутый тоннами томных движений…»Кай и Герда
Нетронутый тоннами томных движений
на стиснутых улочках выстелен снег,
ни следа, ни пятнышка – только скольженье
последней снежинки заблудшей во сне.
Чу, шорох! Лишь за полночь – некто очнется,
как дух из кувшина клубится, парит,
и каждая лампа сияньем зальется,
и даже разбитые вдрызг фонари.
И легкой ступней чуть касаясь сугробов,
прозрачной улыбкой как чаша полна,
объявится девочкой злой, белобровой,
печальным недугом бледна и больна.
К ребенку босому дома тянут руки,
но злюка засыплет колючки в окно,
и в память всесильной и вечной отлуки
стекло покрывает слепое бельмо.
Не смей подойти к замурованной дочке.
Ей сызмальства свет белых вьюг – молоком.
Зима своей крошке мир в царство пророчит,
и мозг ее с сердцем людским не знаком.
Как же мчалась ты, лихая чудо-баба
на своих гневливых скакунах
мимо робких слов и робких взглядов
в наших полудремах – полуснах.
Как пугались мы свободной страсти
выломить окно в чужой уют,
где желанья выданы за счастье,
а мечту слезами выдают.
Все прочней круг рук, чем ты свирепей,
ближе очи, вою вопреки.
Нежностью неистовою крепим
тихие и тайные грехи.
Фокусник
ФокусникТабор
Вытянет лицо
медленное «О»,
горло и кольцо,
горло и дрянцо.
Тянет серпантин,
золотой чубук,
фокусник, постой,
оглянись вокруг!
Пара макасин,
желтый апельсин,
трое голубей,
миллион рублей.
Что же ты, куда?
На руках – руда,
алая руда
рвется и болит,
стонет и грустит.
Это – ради вас,
ради смеха глаз,
чтобы хохот гнул,
чтобы в зале – гул!
Лилипуты
Спеши – там звали,
там – шорох, шаль.
Вот – заплясали,
вот – ворожат.
И карты тлеют
И прядь стригут,
и пальцы млеют
И льнут и лгут.
Пророчат снова
болезнь, беду,
несчастье, новость
и суету.
Орех расколешь —
застынет кровь
Но вдруг подковкой
взметнется бровь.
Всего-то малость!
Бери, бери!
Что там осталось —
договори!
Лилипуты! Лилипуты!
Нет ли где билетов лишних?
– Лилипуты! Лилипуты!
Как заманчивы афиши!
Там, на цирковой арене —
– Развлеченье!
– Удивленье!
– Там та-кое представленье!
Там красивой раскрашенной куколкой,
ослепительно и грешно,
улыбалось нам из-под купола
детство, страха ему не дано.
Мы смеялись – там клоуны прыгали,
нам на радость глотали огни,
кувыркались и ножками дрыгали,
как беспечные дети они.
Перед сном примадонне – старушечке
и малютке – жонглеру никак
не распутать парик игрушечный,
не отгладить дурацкий колпак.
Жестокие романсы
СударушкаГолубушка, выпей со мной
Ах, сударушка,
белых лилий лик,
ах, сударушка,
темных вишен глаз,
на густом песце
серег сердолик,
на перстах
огонечек – алмаз.
Ты куда пошла
в красных сапожках?
Какова жара —
тает снег в следах,
тает снег в горсти,
тает на лету,
далеко ушла, —
за версту…
Входит в избу – ух! —
снежный пар – столбом!
А навстречу – друг, —
в руки лбом.
Ты, сударушка,
поспеши, поспешай,
вьюга, след ее
замети, заметай…
Слышишь: кто-то след
у ворот потерял,
а в руках его
нож – коновал.
Стой, сударушка,
не ходи, не спеши,
встань за печкою,
не гляди, не дыши.
Входит муж – гора,
входит муж с ружьем,
а навстречу друг
с кистенем.
Помолчи, забудь,
крик свой удави,
оба разом упали в крови…
Другом муж убит,
мужем друг забит,
Дома дочь в колыбели
кричит.
Маланья, Маланья, бутылку подай,
селедку неси, да груздочки,
и только не надо, голубушка, чай —
сегодня дошла я до точки.
Маланья, Маланья, корсет растегни,
ты видишь, сейчас разрыдаюсь,
Не нужно лекарства, поменьше возни,
ни в чем никогда не сознаюсь.
Маланья, Маланья, подай револьвер,
мне жить остается минута.
Да что же ты воешь, как сотня мегер,
как-будто какая иуда.
Маланья, Маланья, подай мне свечу —
Письмо напишу я злодею.
Маланья, Маланья, я плакать хочу,
хотя ни о чем не жалею.
Маланья, Маланья, не надо рыдать —
Мне все – таки скоро пятнадцать.
Молчи, говорю, прибежит моя мать,
ты, глупая, можешь сознаться.
Маланья, возьми вот, колечко себе,
молись за меня, а мамане —
ни слова о грешной злосчастной судьбе
На свечку – вот мелочь в кармане.
Маланья, голубушка, выпей со мной,
ты в общем-то тоже красотка.
Дарю на прощанье кулон золотой.
Тошна же ты, матушка, водка!
Волчья клетка
шансон
«Выпускают из клеток зверей…»Зинон
Выпускают из клеток зверей,
где-то кляцают двери стальные,
а о самой далекой моей
клетке, видимо, позабыли.
В самых темных она закутах,
мимо сторож проходит с ключами:
– Не заметят вас в этих краях —
как бы вы, дурачье, не рычали.
Выбегает и лама, и лев
разминает отекшие лапы,
взвился ястреб, повеселев,
страус нюхает баобабы…
Стаи гордые лебедей
по высокому небу поплыли, —
а о самой далекой моей
клетке все-таки позабыли.
Третий
Сжал до хруста гриф томной гитары,
на секунду к бокалу приник,
повал с ног беспечные пары
и ударил в хохочущий лик.
Бил, крушил инструменты, посуду,
микрофонным шнуром – по рукам,
по глазам и по «больше не буду» —
сам кричал, да и плакал он сам.
И Зинон голосила визгливо,
усилитель тоску умножал…
Вдруг погасла веселая грива,
еле скрыв золоченый оскал.
Отсмеялась… Он выл бесовато
на заломленных сзади руках,
и орал, что «сама виновата,
проститутка с заразой в кровях»…
Увезли в морг красивое тело,
и сопрано затихло в толпе
среди рюмок и грязных тарелок
старомодным сердечком в серьге.
Он был третьим, он был мясом,
он был жирным, как свинья,
он не знал, которым часом
станет жертвой бытия.
Третьи сутки без дороги,
догоняет песий лай.
Ноги – ноги – ноги – ноги!
Нара вшивая, прощай!
Лица, точно ямы волчьи,
третьи сутки жрут кору,
и глядят соседа очи
в горла черную дыру.
«Один – легавый, а другой – бандит…»Третьи сутки без дороги,
догоняет песий лай,
ноги – ноги – ноги – ноги —
нара вшивая прощай!
Он был третьим, он был мясом,
он был жирным, как свинья,
он не знал, которым часом
станет жертвой бытия.
«Не смейся, проклятая шмара…»
Один – легавый, а другой – бандит,
Но в каждом кровь тяжелая чудит.
И словно сговорились два ствола:
за пулей пуля в каждый лоб легла.
Кто виноват пред богом: тот или другой,
Чей грех ужасней: первый иль второй?
Один убит, другой убит навек,
И кто там – зверь? Кто – недочеловек?…
Один из зоны сквозь огонь бежал.
Другой во след ему стрелял, стрелял.
«Элка рослой была и красивой…»
Не смейся, проклятая шмара,
и белые зубы не скаль,
любовная смолкла гитара,
мне глаз твоих синих не жаль.
Не надо цеплять меня крепко,
руками шуршать в волосах,
болтаться холодной прищепкой
в моих изможденных губах.
Голодное тело барбоса
насытится кровью твоей,
не смейся, зараза, стервоза,
не смейся, не смейся, не смей.
«Какая тонкая имелась талия…»
Элка рослой была и красивой,
кудри гордо вились по плечам,
а судья ей сказал: «Агрессивно
вы ведете себя по ночам».
Вы не ласковы и спесивы,
демократии пот на губах,
а при нашей-то власти игривой
слишком много поправок в статьях.
И при этих словах, не тушуясь,
руки потные к ней он простер,
и она отвечала, зажмурясь:
– Каждый день – то, легавый, то – вор.
И судья был чрезмерно обижен,
все же избранный нрадом субъект,
до утра ей шептал: « Уважайте,
этот правоохранный объект…»
«Девочка, которая крадет…»
Какая тонкая имелась талия,
Какие легкие велись дела, —
Блатного мальчика на ночь оставила,
бандитку – дочку в мае родила.
Вот подросла она и стала стройная,
но слишком темные плела дела,
И приняла ее тюряга знойная,
но перед этим она внучку мне дала.
А та с младенчества уже не плакала,
а та – два пальца в рот, свистит, орет:
«Эй, бабка, соску дай! Ах, памперс – тебе в рот!
Да чтобы ты, бабуля, сдохла, живоглот!»
Пусть будет тонкая у внучки талия,
пусть будут легкими ее дела,
возможно, справится с такой Италия,
а я б ее за чикатилу отдала.
«Плачущий мужчина …»
Девочка, которая крадет
остренькие ножички на память,
рано утром от тебя уйдет,
номер телефонный не оставит.
Девочке готовит тротуар
новую блестящую обновку,
девочку тревожит психиатр
и стучится в бедную головку.
И следы власами заметя,
девочка исчезнет в темном лесе,
кадры непонятные в групсексе,
тихою улыбкой засветя.
Он и она
Плачущий мужчина —
был – очкарик, толст,
он закончил Кембридж,
но в душе не прост.
Он сигал сквозь джунгли,
за ночь друга съел,
и с тех пор чертовски,
адски похудел.
Она сидит и думает:
«Ах чтоб ты провалился!»
А он сидит и мыслит:
«Некстати что ль явился?»
Она вздыхает грустно:
«За что люблю «Токай»?
А он краснеет густо:
«Ой, мать моя, прощай!»
Она зевает: «Боже,
слинял бы поскорей!»
А он в раздумье тоже:
«Потратил —ой-ей-ей!»
Она ему: «Который час?
Ко мне должны придти».
А он: « Уже сейчас? Сейчас?»
– В двенадцать без пяти».
Она ему: «Поторопись!
Сейчас уйдет трамвай!»
А он косеет: «Ну и жись!
Ну что ж, тогда прощай!»
В дверях застрянет: «Элка,
люблю же я тебя!»
– Ванна – налево.
– Вот мне и хана!
Болото
сказка в стихах
«Под ворсом риччий, водокраса…»«Жарков полно поспело к лету …»
Под ворсом риччий, водокраса
таилась стихия трясин,
кормилась гниющая масса
кореньями хилых осин.
Бродили осока и ряска,
мотыль, водомерки, шмели
и жаб ежедневная пляска
терзала коряги и пни.
Но ветром ли, птицей случайной
икринку в ту топь занесло —
к весне появилась русалка —
лохматый глазастый малек.
И тонкие пальцы слепили
из рос, лягушачьей икры,
змеиной слезы, звездной пыли
цветок для сиротской игры.
Сильнее болота и гнили
ее оказались цветы.
Трясина – в засилии лилий,
светлее самой чистоты.
Рыбак
Жарков полно поспело к лету —
венок надвину до бровей,
из тоненьких былинок ленту
сплету, заколкою – репей.
Почти закончена прическа,
и бусы хороши на вид,
а за молоденькой березкой
змея на цыпочках стоит.
Уж и начал ты вмерзать в лед,
не клюет и не клюет!
Жалко!
И не знал, что к этой лунке,
к серебристой леске-струнке
выплавала подшать,
холодна и хороша
Русалка.
Тронуть леску не посмела,
долго через лед смотрела
на тебя.
А кругом полным-полно рыбаков,
и у всех такой приличный улов!
Ты завидовал наверно,
леску тоненькую нервно
теребя.
На душе нехорошо,
плюнул и домой пошел.
Под ногой гнулся лед нехоженый,
а русалка плыла настороженно
под тобой.
Так и сгтнул бы в бездне талой,
да русалка тебя удержала
«Не будите. Пусть нежится вечер…»над водой.
Ёжка
Не будите. Пусть нежится вечер
на больной узкогубой листве,
и некруто хоронятся плечи
в черных кочках и травах.
Чуть свет.
И припухли осиные гнезда,
и роса дозревает в кустах.
И запуталась таволга в звездах.
И запутались руки руках.
«Даже дракон на расстоянии лет…»
Плыла над мутным перегаром,
шурша гремучею крупой,
смердила по резервуарам
зловонной жижею крутой.
Прозрачные носы тянулись,
вкушая нахаля пары,
сгустив толпу окрестных улиц
к порогу ёжкиной норы.
Занюханные их десятки
хозяйка прятала в сапог,
дабы на мартовские блядки
кобель-супруг заначь не смог.
А по вискам катился градус,
и закипали ноздри в такт
убойному парному смраду,
а капли звякали о бак.
Галдела над норой ворона,
кляня сей изуверский род,
и громче улиц перезвона
долбил яйцо дебильный плод.
«А у Змея Горыныча беда…»
Даже дракон на расстоянии лет
выглядит безобидно —
ящерка на цветке.
Юркая, ярко – зеркальная,
тело в прозрачных чешуйках,
рыльце – в цветочной пыльце.
Я в глазах ее – маленькая-маленькая,
вроде мошки на один зубок.
Облизывется – все еще ящер!
Вздрогнула – уже ящерка…
Выгнула спину – ящер!
Удирает – ящерка…
«У костра незатушеного…»
А у Змея Горыныча беда,
понастроились кругом города,
полетал бы, порезвился,
но куда?
С ведьмой каждый день и дрязги и жуть,
деревенщину никак не обмануть,
не ведут теперь своих царевен в лес,
лишь одних он водяниц промозглых ест.
Улетел бы за границу как-нибудь,
да вдогонку могут бомбою пальнуть.
Леший
У костра незатушеного
после ужина скучено,
собиралась нечистая сила.
С пылу жару и пру,
дали ведьме гитару,
чтобы спор приглушила.
Обсуждали русалку,
лохудру, нахалку,
злая ругань неслась по дубравам.
Проклинали, честили,
судили-рядили:
– Всех-то дурочке этой жалко.
– Детишек отводит от скопищщ змеиных!
– Не подпускает к отравам!
– КАк лекарь, копается в ранах лосиных!
– Помеха всем нашим забавам!
– Изведем ее?
– Изведем!
– Эх-ма! Леший в неее влюблен.
Не дознался бы только он.
Упыри
Леший маленький-маленький,
запрятанный в валенке,
был закинут в глубокий овраг.
Там нечистая сила
его приютила:
– Пусть живет и пугает гуляк!
И с тех пор бор замученный
дребезжит всеми сучьями —
Леший любит полютовать!
Обопьется горилкою,
хватит о пень бутылкою —
экой тать!
Иногда громко плачет он,
слезки льются по пальчикам,
маменьку помянет:
– Износился твой валенок
по оврагам, проталинам,
а в дырявом уже не тот ход.
Совы, рыси, медведицы,
сойки – шустрые сплетницы, —
прочь спешат —
ох, буян-мужичок!
Но покличут Русалочку,
душеньку, выручалочку —
Леший сразу молчок
в кулачок.
Кикимора
Ни за так, ни за рубли
играли в кары упыри,
разыгрывали душу
под грибы идущую.
– Козырь!
– Крести!
– Бубна!
– Пик!… ик.
– Амба!
– Козырь!
– Бито!
– Шик!… ик
– Взято…
– Туго…
– Вышел?
– Фиг… ик.
– разбежался – да о пень головой,
обратился комариною ордой.
– Что сегодня не набрал грибов, грибник?
– Еле убежал от комаров… ик!
«Не зги не видно. Только две руки…»
Собирала
грибы и бутылки,
чернотала
колючки и дырки
от червивых плодов
и тенета от пауков.
Торговала порой по базарам
клюквой талой,
барсучьим отваром
от простуды и хромоты
и бранилась до хрипоты
Ворожила на отлично
жабьим жиром
издохшей дичью
на карьеру, почет и власть,
на гремучую месть и страсть.
«Стань девкой лесной…»
Не зги не видно. Только две руки
раскладывают карты в полукруг.
Скрип двери, склянок стук,
мерцание серьги,
движенье сквозняка или гадюк.
Снуют по занавеске пауки,
латают рваную огромную дыру
хохочет громко филин – не к добру —
и заглушает шепот:
Пылай на медленном огне
и плавься фосфором на пне,
росой сверкай на белене,
блести в змеиной пасти,
вертись волком,
крутись дичком,
ползком, молчком
в заветный дом.
Где сон столбом,
огнем. Живьем
и сердце рви на части!
Гори, пылай,
греми, сверкай,
как нерв безумной страсти,
под свист сверчков,
собачий лай
в беду и слезы превращай
любовь, мечту и счастье!
«Милая! Раскрой глаза пошире!..»
Стань девкой лесной,
никудышной,
блудливой, опухшей от рос,
такую никто не отыщет,
такую никто не отдышит,
продрогшую в мареве гроз.
«По колено в жгучей низости…»
Милая! Раскрой глаза пошире!
Где твой разум чистота и стыд?
От ухмылки Лешего упырьей
гадостью болотною разит.
И сама, хмельная и веселая,
даже голос мой не узнаешь,
на плечо сверкающее голое
руку его жадную кладешь.
Вижу – и не верю! Это ложь!
Надышался в дебрях разной дряни.
Подойду – видение отпрянет,
а на правду, что ж, найдется нож.
«Разлюби меня! Змею разрубишь …»
По колено в жгучей низости
и попробуй оступись —
не расслышится поблизости
окрик: «Эй, поберегись!»
Только пузыри болотные
забормочут под ногой,
только птицы перелетные
загогочут вразнобой.
Здесь опасно верить в сильное.
Камень – прелой кочкой стал.
Все опальное, двужильное
истончало до мочал.
В дубе вековом обманешься —
что ни веточка – гнила.
За былиночку ухватишься —
а она – сильней ствола.
«Был возлюбленный, милый самый…»
Разлюби меня! Змею разрубишь —
будут виться, плакать две в ногах,
одна жалит, обвиваясь, губит,
а другая ни наластится никак.
Ту змею узнай: я улыбаюсь:
узко жало втиснуто меж губ
Не – на —ви – жу! – обнимаю, обнимаю…
Яд мой пенится в твоем мозгу.
«Удержи меня! Изломом ли…»
Был возлюбленный, милый самый
И погиб, закопали в яме.
Ты немою змеей обернулась,
на могиле в клубочек свернулась.
Морду черную в камень уткнула,
замерла ли, замерзла, уснула..
А напротив – могила другая.
Его милая в ней, дорогая.
«Забреду… В бреду… Вы были грубы…»
Удержи меня! Изломом ли
все давно простивших губ,
новой страстью, силой, стоном ли,
будь стремителен и груб.
Словно грешное творение
в огненных твоих руках,
принимаю исцеление,
а лекарство – смутный страх.
Не оставь меня, беспутную,
вздорный хохот, вздорный нрав,
маленькую и доступную
для колючек и отрав.
«Как мало мне осталось жить!..»
Забреду… В бреду… Вы были грубы…
– Пить! – дивятся чуду рыбаки:
режет мои розовые губы
ледяное лезвие реки.
Отраженье легкое хватаю,
но волной смывается и лик.
Что ж – пока!
Необратимо таю.
На волне остался только блик.
Кто меня лепил? Так ненадолго
дали волю плакать и пленять.
Самолюбие – кощеева иголка,
Но ее опасно потерять.
Как свое бессмертие хранила,
дни губя в угоду для нее.
А она – меня сама убила.
В лабиринте вен плутает острие.
«На мою забытую могилу…»
Как мало мне осталось жить!
Спешу до капли всю испить,
жалеть, смеяться и любить,
желанной быть, любимой быть.
Хватай меня, люби меня
и ты, и ты, и ты!
И вспышки светлого огня!
И душные цветы!
И пусть наскучат нежность, страсть,
безумная тоска,
пусть надоест и соль, и сласть —
смерть так всегда близка.
На мою забытую могилу
не бросайте ярких первоцветов.
Я сама прорвусь из недр цветами
в яростную солнечную медь,
в бытие, нахлынувшее лето —
руки и лицо мое согреть.
Видишь ящерка на камне? Не гони!
Сколько стоила мне эта шкурка,
лишь бы пробежаться быстро, юрко
по земле сквозь солнечные дни!
Вытянусь цветком: возьми! Возьми!
Дай жильем привычным надышаться,
дай побыть мне снова меж людьми,
нравиться, смущаться, откликаться.
Быть издерганной, заласканной в руках,
брошенной, затоптанной, убитой,
снова мертвой… Но бессилен страх
перед жаждой – кем-то быть открытой.
Вновь со стоном прорываются цветы
в жизнь… И ящерки печальные танцуют…
Не пугай! О, не гони нас ты
снова в смерть, холодную такую.
По контуру Адама
«Завожу осторожные танцы…»«Звезды измены по венам шипят…»
Завожу осторожные танцы
вкруг твоей несусветной лжи,
и летят в меня стрелы, ножи,
даже огненные протуберанцы —
убивай – расскажи, расскажи!
Я дознаюсь той, пристальной, сути
гримированного вранья,
лишь дотронусь до пламенных вздутий
жил, обманывающих меня.
Не алхимик я, но добуду
отблеск правды в притворных глазах,
словно вытащу за нос иуду,
замороченного в грехах.
Лги мне, лги!
Только искренне, нежно,
лги всей правде наоборот!
Лги – губи меня неизбежно
без поблажек и льгот!
Говорят, что живьем распилили
молодую циркачку весной.
Господи, дай немного силы
посмеяться над острой пилой!
«Здесь нет мужчин. Запуганные твари…»
Звезды измены по венам шипят,
белое платье под натиском пят,
где-то очнешься, нездешний, босой,
посохом в двери и память – посол.
В жалких лохмотьях июльских одежд.
Заспанный, пропит без всяких надежд.
«Качнулось небо высоко над нами…»
Здесь нет мужчин. Запуганные твари,
любители преподленьких потех.
В любовной или кобелиной сваре
не видно лиц – все прячутся за всех.
Пусть милый рыцарь мой, ты всеми был освистан,
но за свою ты правду бился до конца.
И жаркий свет любви, отчаянья и риска
слезам не смыть с горячего лица.
«Кошачьи электрические искры…»
Качнулось небо высоко над нами…
Уже не легкими – а жабрами дыша,
уже не ребрами – а сорока руками
притянется к душе душа.
Нет тела у любви, и все небезобразно.
Хочу быть каждой клеточкой твоей,
вне времени блуждать и путать ежечасно
эпоху гениев с эпохой дикарей.
«Кто ленив – тот не подл…»
Кошачьи электрические искры
взыграли – ты неслышно подошел,
взлохмаченный, блохастый, неказистый,
но до чего же элегантно зол!
В зрачках твоих сгорали и дымились
все взгляды сверхнадменные мои, —
О, как ты безупречно худ и жилист,
нахален и порочен, черт возьми!
А голос твой манит и завлекает
зачем-то погулять на чердаке,
и сердце мое тает, тает, тает…
И честь моя уже на волоске.
И мне, чистюле, кошечке примерной,
Мурашки мнет неведомая близь…
– О да! Я буду вам навеки верной! —
Нас вовремя водой разлили:
– Брысь!
«Любовь – как заря неуемная …»
Кто ленив – тот не подл,
тот не бодр суетиться
вкруг интрижек и мелких страстей.
У лентяев честны добродушные лица,
как у самых надежных друзей.
И да здравствует леность —
великая леность —
не соваться в чужие дела!
Я лентяев люблю, непорочных, степенных —
потому что не жду от них зла.
Потому что лентяи – как дети и кошки —
в дождь гулять ни за что не пойдут.
Ливень – нет тебя дома.
Полночь – нет тебя дома…
Буря – нет тебя дома…
Значит, ты не лентяй – а плут
«Я била плеткой мужика…»
Любовь – как заря неуемная —
пылала – не скрыть ничем.
И стала такая огромная —
что исчезла совсем.
«С кем подрался, мой милый…»
Я била плеткой мужика,
и пела плетка боль,
и закипала на щеках
и вспыхивала соль.
Я била плеткой – по плечам!
По рук его кресту!
По шкодным пьяненьким глазам! —
И вторил гнев хлысту.
Я била плеткой – получай!
За все! За все с лихвой!
За то, что дустом пахнет чай!
За похоронок рой!
За то, что стоны – наверху —
соседку бьет мужик!
За то, что сам ты – не такой,
но тот, другой – привык!
Собачьей плеткой – кобеля
ни разу ни турну —
по скомканным твоим рублям!
Селедке! И вину!
О, как щедра моя рука!
Иль я сошла с ума?
Я била плеткой мужика —
но плакала сама…
С кем подрался, мой милый,
опять кулаки в синяках,
взор твой снова дичится
каким-то неистовым смерчем —
не война, не беда —
а тебе, как я вижу, не легче.
Не война, не беда —
горький дым на потухших губах.
Я тяжелые шторы на окнах
плотнее захлопну,
в подворотнях бравада гитар,
и окурки летят,
слышу имя свое —
но скорее оглохну,
чем узнаю – о чем
все вокруг говорят.
– С кем подрался?
кровь в жилах мгновенно взметнется!
О, молчанье мужчин! —
и слеза не проймет…
Ни война, ни беда…
все что мне остается —
приготовить и пластырь, и йод.









































