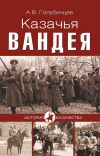Читать книгу "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом

Монахиня Амвросия (Оберучева)
История одной старушки
© Издательство Сибирская Благозвонница, оформление, 2024

Предисловие

Перед вами книга, составленная на основе записок из жизни «одной старушки», русской монахини – Александры Дмитриевны Оберучевой (в монашестве Амвросии), на долю которой пришлось пережить одну из самых тяжелых эпох в истории России.
Она родилась в 1870 году, а скончалась в 1944-м. Между этими датами уместились несколько революций, войн, большевистский террор, разруха и голод. Но книга не об этом. Внешние события лишь помогают раскрыться душевным качествам героини. Просто и даже как-то обыденно повествует она о своей жизни, а нас с самого начала не покидает чувство, что это не простой человек, а истинная подвижница.
Всю свою жизнь она скромно и тихо исполняла великую заповедь о любви к Богу и ближним. С юности она не позволяла себе ни одной минуты праздности, душа ее находилась в непрестанной работе, а сердце и всю себя отдавала она людям, забывая о собственном покое и нуждах.
Где бы она ни жила, ее дом всегда служил прибежищем для тех, кто находился в болезни или скорбных обстоятельствах. Но главным ее делом помощи ближним, наряду с монашеским молитвенным подвигом, стало врачевание больных, что наиболее отвечало ее душевной потребности.
В 1897 году Александра Дмитриевна поступила в только что открывшийся в Петербурге Женский медицинский институт. Обучаясь там, она столкнулась с революционными настроениями, которыми была охвачена студенческая молодежь. Как человек глубоко верующий и с крепкими убеждениями, Александра Оберучева не могла принимать участия в студенческих забастовках и митингах, а продолжала исправно посещать занятия в институте, хотя это могло грозить ей смертью. Удивительно, но этим она заслужила уважение среди студентов, которые тщетно пытались обратить ее в «свою революционную веру».
Уже тогда Александра Дмитриевна встала на путь несогласия с «духом времени», бунтующим, корыстным, себялюбивым, которым управлял «князь мира сего».
В годы всеобщего атеизма она едет в Оптину пустынь и находит духовное окормление у последних старцев прославленного монастыря – отца Анатолия (Потапова), а после его кончины у отца Никона (Беляева), чьи наставления она подробно приводит в своих записках.
Уже работая земским врачом, Александра Дмитриевна одно время проводила при церкви религиозно-патриотические чтения для народа, за что ее даже намеревались убить.
Перед революцией русское общество в своей массе настолько оторвалось от христианских ценностей, что нежная забота и любовь между дочерью и матерью Оберучевыми, частые посещения священником больной матери-старушки дали повод к тому, что в них увидели «сектанток». Но все оскорбления и тяготы сносились ими терпеливо и с благодарностью Богу.
Внутренним побуждением будущей монахини было всегда находиться там, где нужда и боль. В 1914 году началась война – и Александра Оберучева с санитарной сумкой едет к месту первого боя. И если некоторые из медперсонала для своего удобства перевязывали только тех раненых, которые сами могли прийти, Оберучева сама шла в бараки к умирающим и оказывала помощь тем, кого еще можно было спасти.
Воспринимая жизнь как отказ от самой себя, она совершенно естественно приходит к выбору монашеского пути. В 1919 году, когда повсеместно начали закрываться монастыри, она принимает монашеский постриг от старца Анатолия с именем Амвросии и входит в число сестер Шамординской обители. После разгона монашествующих матушка с несколькими сестрами поселяется в Козельске, но судьба ее, как и всех открыто исповедующих Христа, была предрешена.
В 1929 году во время допроса в тюрьме сочувствующий следователь сказал: «Вины у вас никакой нет. Если бы вам немного поменять внешность…», – намекая на то, что, откажись она от монашеской одежды, это облегчило бы ее положение. Но монахиня Амвросия на это ответила: «Я уже на краю гроба, могу ли я менять свои убеждения?» Выбор был сделан – последовала ссылка в Архангельскую область. Но и там не оставила она своего главного жизненного послушания, оказывая всестороннюю помощь ссыльным.
Многие запомнили ее согбенную фигурку в Великом Устюге, где она собирала по городу необходимые для ссыльных вещи, продукты, гостинцы. При этом лицо ее всегда было озарено светом и любовью к людям.
В 1933 году по состоянию здоровья и по возрасту монахиня Амвросия получила освобождение и через некоторое время поселилась в Сергиевом Посаде, но скитания ее продолжались – она и здесь не имела постоянного пристанища, жила в скудости, и условия жизни оставались тяжелыми. Так до конца дней вел ее Господь путем скорбей.
Но и тогда, на склоне последних лет, которые пришлись на время Великой Отечественной войны, монахиня Амвросия не переставала отдавать себя людям. Многие в городе ее знали и обращались за советом и врачебной помощью.
Упокоилась матушка Амвросия на руках близких ей людей 8 сентября 1944 года и была погребена на Климентовском (или Клементьевском) кладбище в Сергиевом Посаде. Тихо перетекла в вечность эта полная страданий и трудов жизнь, которой на самом деле хватило бы на несколько разных жизней.
Героиня этой книги оставила нам пример такого высокого христианского служения, который назидает без всяких слов и умных теорий. В стихотворении ссыльного епископа Иннокентия, которое так «пришлось по духу» матушке Амвросии, есть и ответ, откуда черпала силы эти истинная христианка, чтобы достойно пронести свой жизненный крест.
Покорно предайся Божественной воле
Воззвавшего к жизни всех смертных Творца,
К Нему обращайся ты в тягостной доле,
И в Нем ты увидишь благого Отца.
С любовью предвидит Премудрая воля,
В чем благо для сердца, что вред принесет,
И каждому послана Господом доля,
Но верных Своих Он к блаженству ведет.
Надейся! Он видит души сокрушенной
Всю скорбь и страданья в жестокой борьбе;
Но верь – и увидишь тогда несомненно,
Что все Он устроит ко благу тебе.
Как радостно Богом Христом быть спасенной!
Ты примешь от Бога победный венец.
И внидешь с хваленьем души искупленной
В мир вечный, готовый для верных сердец.

Начало жизненного пути (1870–1902)

Жизнь на Кавказе
Родилась я в 1870 году, 4 апреля. Мать вышла замуж очень молодой, ей не было даже и 15 лет; отец мой был гораздо старше ее, лет на пятнадцать. Он был военным, служил на Кавказе в то беспокойное время, когда был только что взят в плен Шамиль, и надо было умиротворять горцев. Со своей ротой отцу часто приходилось переходить с места на место, а по приходе устраивать образцовое хозяйство: огород, пчельник и т. д., чтобы приучить беспокойных и наклонных к разбойничьей жизни горцев к мирной жизни и сельскому хозяйству. При этом надо было все время зорко смотреть и быть на страже, так как нападения на маловооруженные и неосторожные отряды случались часто.
Незадолго до своей женитьбы моему отцу пришлось быть в Новороссийске. Он занимал одну комнату, денщик ночевал в другой. Помнится отцу, что это было наяву: входит пожилая дама, ведет за руку девочку-подростка в коричневом платьице и говорит ему: «Вот твоя будущая жена». Вставши, он спросил денщика: «Кто это вышел?» Но денщик ответил: «Еще очень рано, и дверь заперта». Прошло немного времени, и отец познакомился с семьей, состоящей из мужа, жены и матери жены, у которой была еще младшая дочь – моя мать. Вскоре, несмотря на ее возраст, совершилась свадьба (на Кавказе несовершеннолетним давалось разрешение выходить замуж).
Семья была дружная, и потому при всякой возможности жили вместе, хотя мужу старшей сестры по службе и приходилось иногда жить отдельно от семьи. Все принимали участие в опасной походной жизни. Бабушка моя, энергичная, смелая, садилась на горную лошадь, тетя тоже, и вместе с ротой они переправлялись через горные хребты, ущелья и горные реки. Мама же моя боялась, и для нее было устроено кресло на длинных шестах, которые несли попеременно несколько человек. Иногда (рассказывали они) шли по узенькой тропинке по отвесной скале, ноги висели над ущельем, надо было закрывать глаза, чтобы не смотреть в эту бездну. И когда я родилась, ей тоже приходилось совершать такие переходы, держа меня на руках. Переходили и горные реки: большое число людей, держась друг за друга, оберегало нас, чтобы мы не упали, так как течение было очень быстрое, даже камни ворочались. Родилась я в городе Сочи, несколько лет у родителей не было детей, кажется, лет пять. Мамочка моя была очень серьезная, молчаливая, она мало говорила о себе. Не помню почему, но я знала: она скорбела о том, что не было детей. Всегда, до самого конца ее жизни, к нам в дом 23 января (в день святого Геннадия Костромского) приходил священник, и было молебствие. А когда мы уже подросли, мамочка всегда говорила нам, что, как только будет возможность, мы всей семьей поедем в Киев помолиться святым угодникам Божиим, так как она дала обет. Что и исполнила, когда мне было уже четырнадцать лет: мы ездили туда все. Хотя мамочка моя ничего не объясняла, но чувствовалось, что молебствие святому Геннадию и поездка в Киев связаны с нашим рождением.
Через полтора года после моего рождения, около Кутаиси, родился мой брат Михаил. Местность там лихорадочная, и мамочка моя все болела.
О раннем своем детстве знаю по рассказам, что я была здоровым ребенком. Я совершенно не плакала и, если что мне было надо, только слегка издавала звук. Но как же мне было плакать, когда все мои нужды предупреждались мамочкой, она не сводила с меня глаз. Но вот это мое молчание ее отчасти, вероятно, даже беспокоило, потому что она спросила у доктора, что же это значит, что ребенок не плачет. А доктор засмеялся и сказал: «Да вы ее за нос!»
Брали нас на руки, но только свои: так моя мамочка боялась за нас. Была и няня, но она только убирала комнаты; все знали, что посторонним брать ребенка нельзя. Ни на одну минуту мать не оставляла нас, так это было и потом. Всегда такая тихая, спокойная.
Из воспоминаний детства у меня мало что осталось. Помнится мне, как мать моя лежит больная, и ей в постель приносят чай, а у меня так больно, больно на душе до слез… Но вот около окна несколько раз пропел петух, и мне стало на душе легче.
Потом помнится еще, приходили венгерцы, разносчики товара; тетя купила черное колечко с изображением по кругу – бегство в Египет Святого Семейства. Я скоро потеряла это колечко в постели, и мне стало так скорбно и стыдно; помню, лежу в постели, плачу, а отблески света от огня доходят до моих глаз… И когда впоследствии я сказала матери, как я горевала, она пожалела: «Ах, зачем ты мне не сказала, я нашла бы и утешила тебя». Вообще, она хотела, чтобы ничто не причиняло нам огорчения: «Впоследствии в жизни придется пережить много горя, а теперь мне хочется, чтобы дети ничем не огорчались, чтобы у них было весело на душе».
Она говорила тихо и мало, но каждое ее слово было для нас непреложным законом. И отец говорил нам: «Мы все мамочку должны слушать».
Иногда он пошутит или лишнее что-нибудь скажет; например, думает сказать о ком-нибудь, а мамочка посмотрит или только скажет: «Детям нельзя…», и он остановится.
Переезд в Смоленскую губернию и жизнь в деревне
Лет пять мне было, когда мы уехали с Кавказа. За всю свою службу на Кавказе отец мой до женитьбы только один раз ездил на родину к своей матери в Смоленскую губернию. И что это было за тяжелое путешествие: железных дорог не было тогда, и он ехал целый месяц на перекладных. Но это было великое утешение для его матери и для него. В последний раз он с ней повидался. Он очень любил свою мать, всех родных и родину и, несмотря на красоту кавказской природы, рано взял отставку: ему хотелось и семью свою скорее перевезти в любимые места.
Вышел он в отставку, и мы спешно собрались, оставив наш хорошенький домик в живописной местности (около 1875 года). Тетя с семьей осталась, а мы с бабушкой выехали в Одессу, сев на пароход в Новороссийске. Помню, мне купили в Одессе книжечку на коленкоре – картинки со стихами, очень она мне нравилась, и мы берегли ее до взрослых лет.
В Смоленской губернии мы поселились в городе Ельне, купили там большой дом с большим садом и липовыми аллеями.
У нас не было никаких шалостей. Жизнь наша была уединенной. Хотя и много к нам приезжало родственников, но при большом помещении наша детская жизнь не нарушалась. Хозяйственные дела были в руках кухарки и ее семьи, так что мамочка моя нас не оставляла. Папочка и бабушка были с гостями.
Помню, мы были у родственников, приехал к нам живший по соседству князь М. Он взял гитару и запел какой-то романс, но моя мать, несмотря на почтение, которым окружали гостя, не выдержала и тихонько попросила его не петь, чтобы до слуха детей не дошло чего-нибудь недолжного. Нам не рассказывали ничего страшного.
Когда я читала житие царевича Иоасафа, то говорила: «Вот так было у нас». А перед сном мамочка нам рассказывала всегда что-нибудь такое светлое. Она любила розы, и после, когда я слышала запах роз, всегда это мне напоминало о ней. В ней было какое-то особое целомудрие, которое проявлялось в ее словах и во всем ее поведении. Все ее стеснялись, остерегались при ней говорить что-либо лишнее или кого осудить.
Года два или три мы прожили там. Папочке хотелось жить в деревне. Он купил небольшой участок земли в прекрасной местности. Чтобы расплатиться и сделать постройку, пришлось приложить много труда и забот. Денег у нас не хватало, чтобы расплатиться, пришлось отдать пенсию за весь год, а самим жить кое-как. У нас на первое время была своя корова и лошадь. Наняли рабочего с семьей. Сами мои родители вели трудовую жизнь: вставали чуть свет, чтобы начать работу, а позднее и мы, дети, принимали участие в полевых работах, например носили снопы на ниве; работа наша, конечно, была незначительная, что-нибудь легкое. Родственники удивлялись, как только мы живем, материально справляемся.
Временами у нас не хватало даже сахара: помню, мамочка давала нам по нескольку изюминок и мы так пили чай. Но это было как-то незаметно. Мамочка всегда была довольна и нам это внушала; мы были довольны, жизнь для нас была радостная. С семи лет меня начали учить грамоте. Помню мою первую азбучку, как она мне нравилась.
Помню, как мамочка после обеда, после всех дел посадила меня за нее – какое светлое, хорошее впечатление осталось у меня!.. Помню, как мамочка говорила, что она даже не может представить, как это дети могут капризничать или не слушаться, у нас этого никогда не было, слушались все беспрекословно. Как-то раз, когда шла постройка во вновь купленном имении, папочка был очень занят, был самый разгар работы, и ему нельзя было отлучаться от плотников; а там не хватало гвоздей, надо было их взять в лавке, в городе, но пока в долг, – вот папочка и прислал к мамочке сказать об этом, а мы с ней в это время находились у тети по соседству. Мамочка собралась ехать в город за пятнадцать верст, взяла меньшего брата, а мне сказала: «Ты, Сашенька, посиди здесь, пока я съезжу», а я в это время сидела в кресле. Я буквально поняла эти слова, и, пока мамочка ездила туда и обратно, я не сошла с этого кресла; дети подходили ко мне, приглашали с ними играть, а я держалась за ручки кресла и не уходила до приезда мамочки. До этого случая тетя часто уговаривала ее оставить нас погостить, но теперь по приезде мамочки сказала ей: «Теперь я вижу, что ваши дети не могут оставаться без вас».
Недалеко от нашего деревенского дома нам, детям, отгородили высоким плетнем садик, где мы сажали деревья и всякие растения, какие нам нравились: было несколько грядок и клумб. Так для нас сделали потому, что мы боялись индюков, гусей и собак, а там мы были в безопасности. А в лес за грибами и ягодами мы ходили с бабушкой, что доставляло нам большую радость. Зимой нас сначала катали на санках, а потом мы сами катались с небольшой горы около дома, но я не могла долго оставаться во дворе, не видя своей любимой мамочки. Все, бывало, прибегу посмотреть на нее. Когда мы научились писать, то нашим любимым занятием было списывание в тетрадь молитв. Когда мы еще жили в городе, то купили мебель из имения композитора Глинки (село Новоспасское). В ящиках стола было много тетрадок, исписанных изящным почерком, большей частью это были молитвы; вот этими тетрадями мы воспользовались и списывали из них. Это было наше любимое занятие. До сих пор мы не слыхали ничего печального, страшного, так мамочка оберегала нас, но в это время умер дядя (брат отца), и родители поехали на похороны, верст за семьдесят. Случилось так, что на это время осталась у нас погостить старушка знакомая, она говорила с бабушкой нашей, рассказывала о чем-то сверхъестественном; в это же время с почты пришли книги («Гамлет» Шекспира с рисунками), все это на нас так подействовало, что с тех пор мы стали бояться темноты; мама или бабушка сидели около нас, пока не заснем. Но по поступлении в учебное заведение страх этот исчез.
Разлука с близкими. Поступление и обучение в гимназии, а затем в институте
Уже настало время хлопотать о нашем определении в учебные заведения. Брата приняли в Полоцкий корпус (так просили), а меня пока баллотировали в Московском Александровском институте. Брата повезли, а относительно меня был семейный совет. Помню, вечером сидели и говорили, что уже по годам, как бы не опоздать. И как мне ни было больно уезжать, но я сама сказала, что пора мне ехать учиться, и решили пока определить меня в Смоленскую гимназию, чтобы не пропустить времени. Узнали, что в Смоленске открылся пансион для гимназисток в доме Суворовой, где можно жить за дешевую плату.
Сколько слез я проливала там по ночам, вся подушка была мокрая от слез! Меня отдали на второе полугодие, но не долго мне пришлось здесь учиться: вскоре по приезде в Смоленск я заболела скарлатиной. Родным я не писала о своей болезни, боясь их побеспокоить. Как им было ко мне приехать, когда шестьдесят верст надо было ехать до станции, а я знала, что мамочка моя слаба. А каково было бы ей остаться, а папочке самому ехать ко мне?! И вот я осталась едва живой после такой тяжелой болезни, думала, что не выживу, но домой написала, только когда начались каникулы, и тогда меня взяли домой.
Летом пришло извещение, что я принята в Московский Александровский институт в шестой класс (т. е. во второй), и я стала усиленно готовиться по немецкому и французскому языкам, для чего к нам приходила гувернантка из соседнего имения. Старалась сколько было сил, так что гувернантка все хвалила.
* * *
В августе папа отвез нас – брата в Полоцк, а меня в Москву. Сначала мне трудно было, по языкам я отставала (была двадцать третьей ученицей при тридцати четырех в классе), весной заболела (корью), и думалось мне: буду последней ученицей или придется даже остаться на второй год. К тому же у меня заболели глаза; здесь экзамены, а мне, вследствие болезни глаз, нельзя читать самой; я только слушала, как другие учатся вслух, и все силы употребляла, чтобы запомнить. И вот что же?
Экзамены прошли неожиданно очень хорошо, я сделалась третьей ученицей, а потом второй, и так до конца курса, а при окончании получила серебряную медаль. Мне потом легко было учиться, занималась со всем классом, вела записи и все справлялась по ним. Но постоянно я была серьезной, скучала по родным. Ничего никому не говорила, но ночью подушка моя редко бывала сухая от слез. Мне всегда страшно становилось при мысли, что моя слабая здоровьем мамочка умрет без меня. До конца четвертого класса никто не видел меня улыбающейся. Но вот, по мню, во время экзаменов из четвертого в следующий класс, занимаясь со своими, классная дама увидала меня улыбающейся и закричала: «Смотрите, смотрите, Саша Оберучева засмеялась».
Окончание обучения и возвращение к родителям
Когда был наш выпуск, начальница хотела оставить меня пепиньеркой (они занимались с не успевающими, помогая классным дамам), но я упросила не оставлять, так как у меня слабая мамочка, о которой я очень беспокоюсь. Наконец я поехала домой. Нет слов, чтобы передать ту радость, которую мы все испытывали!.. Ехали по железной дороге, а затем со станции, где нас ожидали свои лошади, мы с папой в спокойном экипаже ехали еще шестьдесят верст, что занимало целый день.
Дорогой приходилось кормить лошадей: останавливались на полпути на постоялом дворе, а затем уже ехали с небольшими остановками в лесу, где-нибудь в живописном местечке. Садилось солнце, вскоре мы подъехали к дому. Радости нашей не было предела. На свою любимую мамочку я смотрела как на воскресшую, так как весь год у меня душа болела невыразимо. Ни на минуту я не хотела отходить от нее. Летом приезжали соседи, устраивали вечера и приглашали меня. Помню, приехала как-то верст за тридцать жена профессора Т. с одним молодым человеком, соседом, просили показать имение и все обращались ко мне, чтобы я их проводила.
Уезжая, она уговаривала меня поехать с ними: у нее две молоденькие дочери, одна из них, Ольга, именинница, и они будут устраивать бал, хотят, чтобы и я была.
Мы с мамочкой отговаривались, что у меня нет бальных костюмов, но это не помогало, так как Т. уверяла, что у них много бальных костюмов, хватит и для меня. В конце концов пришлось наотрез отказать, сознавшись, что я не могу расстаться с мамочкой. Бабушка моя слабела, несколько раз она падала, с ней было несколько ударов. Оставлять ее одну было нельзя, и я твердо решила посвятить себя уходу за бабушкой, чтобы помочь моей слабой мамочке.
Наступила осень, потом зимние каникулы, когда съезжалась молодежь в соседний городок Ельню и в соседние имения. Устраивались вечера, но теперь я уже твердо отказывалась: я не могла оставить больную бабушку; приходилось сидеть около ее постели и по ночам, когда она бредила. Обыкновенно я сидела около стола, читала, и время от времени подходила к ней.
В течение этой зимы приезжали знакомые; зная, что я люблю книги, щедро награждали меня ими. Еще в институте батюшка Н. Липеровский спросил меня, читаю ли я романы. Я ответила, что иногда читаю в журналах. Батюшка сказал, что не надо, неполезно, и с тех пор я перестала. Читала я больше по истории литературы, по естественным наукам. Из романов прочла Всеволода Соловьева «Волхвы» и «Великий розенкрейцер» – понравились.
Но сама я мало отлучалась из бабушкиной комнаты. На второй день праздника Рождества Христова она скончалась…
Знакомые наши были люди светские: один из них окончил Петровскую академию в Москве, а другой служил в типографии «Русского обозрения». Настоящих духовных книг у меня не было.
Помню, в «Ниве» я прочла статью, которая меня очень тронула: о Кэт Марсден, англичанке, которая ездила в Сибирь, посещала прокаженных в Вилюйском крае, она посвятила всю свою жизнь этим несчастным. И вот я много носилась с этой мыслью. Меня тронула ее жизнь. Конечно, свои мысли и переживания по этому поводу я высказывала моему брату, с которым у нас была неразрывная дружба. По отъезде в Москву (он был еще в военном Александровском училище) он прислал мне книжечку, которая сохранилась у меня и теперь: «Жизнь миссионера отца Дамиана Вестер» (издание 1892 года, с посвящением принцу Александру Петровичу Ольденбургскому, основателю Института экспериментальной медицины).
До глубины души тронула меня жизнь этого юноши – самоотверженного монаха. Поразило меня и его отношение к тому, как он, заразившись ужасной неизлечимой болезнью (проказой), чувствовал себя еще ближе к Богу и считал себя счастливейшим из миссионеров. Эти мысли не покидали меня, и мне все больше и больше хотелось послужить больным. Записывала домашние средства, которые могли быть им на пользу. Живя в деревне, я часто сталкивалась с нуждой в них у больных. Зимой занималась с детьми, которым далеко было ходить в школу. Знакомый помещик (верст за двадцать от нас) уговаривал родителей отпустить меня к ним, заниматься с его детьми, обещал еженедельно привозить меня. Но они не могли расстаться со мной, и мы оставались жить вместе.
С раннего детства при всяких неприятных обстоятельствах мамочка наша внушала нам считать во всем виноватыми самих себя. Сама бы я не могла этого запомнить и понять тогда, как это укоренилось в душе, но впоследствии папа, бывало, говорил шутя: «Вот что случилось, и теперь наша Сашенька, наверное, себя будет в этом винить».
Много лет у нашей мамочки в животе была опухоль, большинство врачей советовали операцию, но родные опасались и отговаривали. Мамочка заболела воспалением легких, я самоотверженно за ней ухаживала. Пригласили врача, и он меня начал уговаривать, чтобы по выздоровлении мамочки сделать операцию в Москве у такого хорошего профессора, как Снегирев, его учителя; дал записки к своим товарищам.
Когда мамочка совсем поправилась, то сказала, что вполне полагается на мое желание: «Так как для Сашеньки моя жизнь дороже, чем для меня самой, пусть будет по ее желанию». И мы поехали в Москву.
Мамочку взяли в клинику к профессору Снегиреву, а мы с папочкой поселились в меблированных комнатах на Арбате, поближе к Девичьему полю, где клиники. Ходила я туда каждый день или одна, или с папочкой, а по праздникам приходил из училища брат, и мы с ним навещали мамочку. В приемной комнате был большой образ Божией Матери, против которого стоял подсвечник с множеством горящих свечей, которые ставились приходящими посетителями. Здесь, рядом с клиниками, была небольшая новенькая церковь, построенная, как говорили, профессором Снегиревым.
Ожидание перед операцией было для меня пыткой: я так страдала, что и передать не могу. Мне легче было, когда я шла, поэтому я редко ездила на конке, а больше ходила пешком. Отец и брат видели мое страдание, но слова только увеличивали скорбь… Иногда я видела, что брат издали идет за мной. Наконец 24 сентября мамочка сказала, чтобы завтра я не приходила, и я догадалась, что назначена операция. Утром чуть свет вышла из дому, стояла против окон клиники, а потом пошла дальше по Девичьему полю в Новодевичий монастырь. Там было торжество – ковчег с частицами святых мощей обносили вокруг церкви.
И мне как-то легче стало дышать. На обратном пути я остановилась перед ее окнами и долго-долго стояла в аллейке, а потом решилась зайти спросить доктора Боброва, ассистента. Он сказал, что операция прошла благополучно, но была она трудная, и теперь я должна молиться. А вечером мы пошли с папочкой в ближайший храм Смоленской иконы Божией Матери. Помню, как я плакала всю всенощную. Затем я ходила к мамочке и, боясь беспокоить, почти ни о чем не спрашивала и была недолго. Терпение у нее было великое, она всех нас утешала, никогда ни на что не жаловалась, всегда говорила, что ей очень хорошо.
Когда мамочка уже вставала и начала поправляться, мы с братом ободрились и даже решились пойти на симфонический концерт. Помню, как мы шли оттуда: погода была приятная, мы шли потихоньку и наслаждались хорошим вечером. Мы вообще, когда ходили с братом, мало говорили, он был всегда очень серьезен и молчалив. А здесь он вдруг спросил: «Саша, ты не принимаешь участия в здешней жизни, ты готовишься к чему-нибудь?» А я, как-то не думая, ответила сразу: «Да, готовлюсь». И мы замолчали и так, молча, шли до дома. У меня тогда как будто и не было ничего определенного. После этот разговор у нас больше не возобновлялся.
По возвращении домой в имение мамочка долго не могла поправиться. Ни на минуту я не оставляла ее. Помню, летом мы с братом читали Достоевского «Братья Карамазовы». На нас эта книга произвела сильное впечатление. Мы говорили друг другу, как бы хотелось найти этот монастырь, где живут такие старцы, как Зосима, и послушники, как Алеша.
Брат уехал в училище, где им должны были дать назначение… Книга прочтена, я никак не могу с ней расстаться, чувствую, что со мной произошел какой-то перелом. Мама моя это чувствовала и как-то вопросительно на меня смотрела, но ни о чем не спрашивала. Надо сказать, что у меня в то время было особенно строгое отношение к поступкам других людей. В большинстве случаев я видела все в идеальном свете. Помню, как на выпускном балу, еще в институте, наш учитель, приват-доцент естественного факультета, занимающийся хиромантией, разговаривая с несколькими из воспитанников, взял мою руку и, смотря на ладонь, сказал: «Как вы смотрите на все окружающее, удивительно, – вы все видите в розовом свете, это видно по линиям вашей руки». А посмотрев у другой, он сказал: «А у вас наоборот, все в мрачном свете, как это поразительно в таком возрасте!»
Но зато всякий факт, расходящийся с моим идеалом, меня глубоко потрясал, даже вызывал брезгливость. Около этого времени моя тетя (сестра отца), давно овдовевшая и имевшая почти взрослых двоих детей, решила выйти замуж за пожилого вдовца. Мне это казалось предосудительным и даже оскорбительным для памяти ее покойного мужа и детей. Мне трудно было побороть себя и заставить с прежним уважением и любовью относиться к тете. Было тяжело, я упрекала себя за осуждение, но ничего не могла с собой поделать. Осуждала я, конечно, только в душе, никому не выражая своих чувств, но это было еще тяжелее.
И как раз в это время нам пришлось прочесть Достоевского, где он говорит, что не надо брезгливо относиться ни к какому человеку; вообще, этот роман глубоко потряс мою душу. Я почувствовала себя как бы после глубокого сна: долго, долго не могла опомниться. Долго я не возвращала этой книги, может быть боясь потерять то, что она мне дала. Только спустя много времени я почувствовала в душе облегчение и перемену, осознала, что не имею права осуждать другого. Это мне принесло великое успокоение.
Когда по окончании училища брат, выбрав мес то на юге, в Херсоне, отправился туда, то в первом же письме написал: «Был в том монастыре (Оптина пустынь), о котором мы с тобой мечтали. Впечатление такое хорошее, ты непременно должна побывать там». С места службы брат писал и уговаривал приехать к нему. И вот, справившись с делами по имению (отдали в аренду), в начале октября мы переехали в Херсон.
При пошатнувшемся здоровье папочке страшны были такие сборы в дальний путь. Но я уговаривала его, что все беру на себя: главное, чтобы он был спокоен, а мне приятно все самой делать.