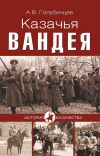Читать книгу "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Первая поездка в Козельск и Оптину пустынь
Настал сентябрь. Прощаясь с родителями, я просила их как можно чаще мне писать, так как я, оставляя их такими слабыми, буду беспокоиться и это может отразиться на экзаменах. Брат просил меня заехать в Козельск и Оптину пустынь. Приехала в Сухиничи, оставила на хранение вещи на вокзале, сняла шляпу, надела косынку и села в поезд, идущий в Козельск. Езды там, кажется, часа два.
Вышла с вокзала на крыльцо, хочу нанять извозчика, а ко мне подходит молодая монахиня и предлагает поехать вместе. За пятьдесят копеек наняли извозчика до Оптиной пустыни. Мимоходом спутница сказала мне: «Вы, верно, из монастырского приюта?» Я промолчала; на вид я была моложава и одета просто: серенькое рабочее платье, черный передник и белая косынка. Я была рада, что нашлась такая спутница, которая не раз уже бывала в Оптиной пустыни: у нее там духовный отец, скитоначальник отец Венедикт, а сама она из Полоцкого монастыря. Все это она рассказала мне дорогой.
Остановились мы в номерах, которые предназначались для размещения приезжающих монастырских сестер. Оправившись после дороги, мы сейчас же пошли в скит к старцу, скитоначальнику отцу Венедикту. Пришлось с четверть версты идти по тропинке в душистом сосновом лесу. Громадные деревья издавали смолистый запах, чувствовался аромат и приятная влажность. Святая теплота и мир охватывали душу.
Дышалось как-то легко, что-то неземное повеяло в душу. Идя по песчаной тропинке, огражденной могучими соснами, мы видели вверху только небо да зелень от кустарников кругом, так как тропинка была извилистая и впереди ничего не было видно. Но вот внезапно мы очутились в нескольких шагах от скита.
Пред нами предстали святые ворота, окрашенные в розовый цвет. Все так гармонировало с общим видом, святыми надписями и изображениями святых угодников Божиих. А по обеим сторонам от ворот были хибарки – такие же смиренные, как и их обитатели.
Я еще не испытывала в своей жизни ничего подобного тем чувствам, которые охватили меня теперь. Я как бы была унесена далеко-далеко от земли, в преддверия небесных обителей. Следом за своей спутницей вошла в хибарку с левой стороны от ворот, где помещался в то время начальник скита архимандрит старец Венедикт.
Все эти маленькие келейки, украшенные сплошь образами и по краям картинами духовного содержания, – такой мир проливали они в душу посетителей! В узеньком коридоре на скамьях и на полу сидели сплошь посетительницы. А для мужчин разрешался вход внутрь скита, и они должны были входить внутренним входом в особое помещение, рядом с кельями старца.
Смотря на окружающую святыню, на умиленные лица сидящих, невольно переносишься в другой мир, а все земное кажется таким ничтожным, чуждым для тебя. После монахини, моей спутницы, старец принял меня.
Сначала он обращался ко мне, как к молоденькой приютянке (так про меня ему рассказала монахиня), но когда из моих ответов узнал, что мне уже тридцать два года и что я еду держать государственный экзамен на врача, то был очень удивлен и щедро стал осыпать меня и наставлениями, и подарками на память. Благословил меня поговеть и велел приходить на исповедь до всенощной.
Оттуда мы зашли и в правую хибарку, где принимал посетителей приснопамятный старец отец Иосиф. При входе к нему чувствовалось, что это уже неземной человек, что он более принадлежит к миру духовному. Прозрачный лик его и вся его телесная оболочка так истончились от духовных подвигов, что кажутся уже исчезающими от наших грешных земных очей. Он говорит совсем мало, но своим просветленным сияющим взором вливает в душу что-то неземное.
Оба старца сказали мне (не помню, в каких выражениях), что мне надо идти в монастырь, – и это вполне совпадало с моим, хотя как будто не вполне сознаваемым прежде, всегдашним желанием. Вскоре по возвращении нашем в номер отец Венедикт прислал келейника позвать нас и объяснил, что ему необходимо ехать в Шамордино: за ним прислали, у него там много духовных детей (кто-то сильно заболел).
Так как мне нельзя было отложить отъезд, то батюшка Венедикт благословил меня исповедаться у общего монастырского духовника отца Феодосия (впоследствии он стал скитоначальником), надавал мне на память об Оптиной образков (живописный образ Калужской Божией Матери в четверть аршина) и много книжек (в их числе житие старца Амвросия), много листков и свой адрес. Уезжая, старец сказал келейнику: если он не возвратится, пусть келейник угостит нас после причастия чаем, накормит меня и даст мне скитских цветов.
Поисповедовалась, где сказал мне отец Венедикт, простояла всенощную, а затем на обедне Господь сподобил меня причаститься Святых Таин. Попила чаю у келейника, как велел батюшка отец Венедикт. Келейник заботливо покормил меня, дал мне большой букет цветов и еще на дорогу кусок пирога. Заходила я еще раз к отцу Иосифу, здесь провожал меня к старцу его келейник, будущий старец и будущий мой духовный отец, батюшка Анатолий. Во всем его облике светилась бесконечная любовь к людям. С таким старанием он всех провожал к старцу, докладывал о нуждах каждого. Здесь впервые я узнала его и потом в следующий раз, когда приехала сюда уже через несколько лет, искала именно его (и для этого по ехала в Шамордино, когда он был уже иеромонахом и главным духовником Шамординских сестер).
Не помню, что он мне дал и что сказал, но, видно, так глубоко запало в душу воспоминание о любвеобильном старце, что впоследствии, через несколько лет, я искала именно его. К вечеру 8 сентября я должна была уезжать. Радостная, что побыла в таком святом месте, напутствуемая святыми благословениями, я уже одна по ехала к вечернему поезду.
Проезжая через Москву, я купила все печные приборы и отправила их для нашего выстроенного дома.
В Петербурге забота о квартире, сутолока столичной жизни и усиленные научные занятия полностью меня поглотили. Некогда было и подумать о том светлом мире, который я совсем недавно оставила. Жизнь потекла совсем другая. Но наряду со всем этим забота о моих слабых родителях, несмотря на все учебные заботы, терзала мое сердце. Через несколько дней я уже стала ждать письма. Прошло много дней, а письма все не было. Наконец прошел целый месяц.
Скорблю, часто плачу, сил не хватает учиться, так как ум и сердце заняты другим. Временами даже думала бросить учебу. Отправляю телеграмму, жду ответа, терзаюсь. Посылаю другую телеграмму, с оплаченным ответом, на имя тети, жившей в городе, а ответа все нет. Хожу на почту и, получив отрицательный ответ, едва держусь на ногах… В мыслях у меня только одно: или оба тяжело заболели, или даже умерли. Тос ка на сердце невыносимая, а здесь еще залезла в корзинку мышь и прогрызла мой шерстяной платок. Это на меня особенно тяжело подействовало. Я была в отчаянии, беспокоясь за жизнь своих родителей. В таком настроении легла спать, было уже 9 октября…
Просыпаюсь утром – м не так легко и радостно на душе. Я видела сон: из белой могильной часовенки выходит батюшка отец Амвросий, лицо его радостное, светлое. Под правую руку поддерживаю его я, а под левую моя мамочка; батюшка своим взглядом указывает, куда и нам надо смотреть. И вижу я там, в нескольких саженях от старческой часовенки, через дорожку, невысокий холм и на нем беседка, вся из красных роз. Вся она сияет, от нее исходит свет. А против входа в часовню, где мы с батюшкой стоим, в нескольких шагах стоит столик церковный, и на нем лежат всевозможные спелые фрукты. Особенно мне запомнились чрезвычайно крупные сливы, сизые, матовые. А около столика лицом к нам стоит папочка мой, руки его видны над этими фруктами; он в парадной одежде своего Кавказского Мингрельского полка, с серебряными нашивками на рукавах и воротнике.
И больше я ничего не видела. Проснулась я с необыкновенно успокоенным духом, утешенная. И так ясно все это видела, что после мне всегда казалось, что я видела батюшку наяву. Только, подумала я, почему-то вся наша семья здесь, а брата не было. Под впечатлением этого сна я открыла корзинку, вынула книжку: «Детская вера и старец Амвросий», стала читать и узна ла, что сегодня 10 октября – это день кончины батюшки Амвросия! И скоро почтальон принес мне несколько писем, задержавшихся по недоразумению. Радости моей не было конца!
Вот как утешил меня батюшка. Часто, часто приходил мне на ум этот сон, и видела я батюшку как живого, а весь сон с лучезарной беседкой представлялся мне таким светлым. И часто думала я об этой беседке, что бы она означала? Я предполагала, что беседка – это Шамординский монастырь, в который я когда-нибудь поступлю…
Но прошло пятнадцать лет, и только тогда я поняла, что означал этот сон…
Государственные экзамены. Окончание Медицинского института
Успокоенная, с обновленными силами я стала готовиться к экзаменам. Экзаменов было очень много; перед каждым давалось два-три дня на подготовку. Председателем комиссии был хирург Вельяминов. Экзамены прошли у меня очень хорошо, мне дали диплом с отличием.
День нашего выпуска был назначен в ноябре. Так как наш выпуск был первый, то им очень интересовались, присутствовало много лиц из ученого и высшего круга, были жены министров. Рядом с залом, где были расставлены стулья для гостей, в маленькой аудитории, священник, наш профессор по богословию, начал служить молебен. Не помню, как мы с подругой Марией об этом узнали, эта дверь почему-то была прикрыта (об этом позаботились). И вот за молебном нас было всего человек пять. Видно, тяжело было священнику, так как он, давая нам святой крест, сказал: «И только вас?» О молебне не объявили, а все было сделано как бы секретно. Как было обидно, обидно за все это.
Когда уселись мы с подругой в зале недалеко от передних мест, к нам подошли две курсистки из числа депутаток с букетами цветов и обратились к моей подруге: «Преподнесите этот букет баронессе Варваре Ивановне Икскуль фон Гильденбанд». Она была у них попечительницей интерната. Меня это страшно возмутило: «За что именно ей, ведь у нас есть и директор и инспектриса, которые больше потрудились для нашего института. А она что сделала?» (Только в чердачном помещении интерната она устроила якобы комнаты для случайных больных, но мы этих комнат никогда не видели, а слышали, что туда баронесса собирает своих приближенных депутаток из тех, которых назначили во время городских забастовок в ссылку, и там устраивали тайные прощальные обеды.) Меня так возмутило обращение этих курсисток к нам, что я встала и громко стала говорить, что не допущу, чтобы ей подносили букет; если поднесете, то я пойду на кафедру и выскажу все. Я говорила так громко, что передние ряды обернулись, а принесшие букет так испугались, что моментально скрылись с букетом и больше уже не показывали букета и не упоминали ни одним словом.
На этот прощальный вечер каждая из нас пригласила своих знакомых. Один мой знакомый доктор сказал мне, между прочим: «Вот другие веселы, а вы чем-то опечалены…» Не знаю, что я ему ответила, но только помню, что в это время подумала: «Ведь теперь на нас как бы свалилась гора великой ответственности… ведь нам теперь вручается жизнь человека; как можно не задуматься над этим?»
Сразу я не поехала домой, ведь мне хотелось работать земским врачом, значит, надо было подготовиться, особенно по акушерству и гинекологии. И я осталась на некоторое время в акушерском институте профессора Феноменова, дежурила там и присутствовала на операциях; чтобы жить поближе к институту, взяла комнату в находившемся неподалеку общежитии инженеров путей сообщения.
После акушерства я стала ходить в Обуховскую больницу, в гинекологическое отделение (как раз представился случай). Там ассистентка профессора предложила мне жить у нее: «Вы все равно у нас целые дни, не стоит вам уходить, вы и дежурить будете ночью, это вам сослужит большую пользу. Оставайтесь у меня в комнате, она у меня большая». Вот я и осталась у нее.
Давали мне делать и легкие операции: зашивания, выскабливания. Я им очень благодарна, мне это очень пригодилось. В феврале я не могла больше терпеть: хотелось повидаться с родными. Врачи оставляли меня и в будущем работать у них, но я не могла еще ничего решить и так поехала домой к родным. Встретила я их сравнительно здоровыми. Для всех нас была великая радость, но пришлось все-таки объяснить, к какому великому делу я готовлюсь. А где это лучше сделать, как не в Петербурге, где ко мне так хорошо относятся и профессор, и ассистент: стараются всё объяснить, предлагают мне делать при них легкие операции.
Родители мои, так меня любящие, несмотря на внутреннюю скорбь, согласились с тем, что я побуду с ними только короткое время, а потом вернусь в Петербург для практики. Но вот приехал к нам наш родственник, секретарь земской управы города Ельни. Свой приезд он объяснил тем, что послан председателем управы уговаривать меня остаться и поступить в их земство врачом. У них особенно страдал один участок (находившийся далеко от города и довольно протяженный), а люди там так нуждаются в медицинской помощи. Он долго меня уговаривал, изображая вопиющую народную нужду, и так нас растрогал, что мы решили: мне нужно остаться и работать в этом участке. Надо было собираться ехать на самостоятельное место.
Призвание врача (1902–1910)

Работа земским врачом в уезде города Ельни
Поехала в Смоленск, чтобы купить себе часы (у меня были, но без секундной стрелки); при этом мамочка предупредила меня: «Ты, Сашенька, купи себе часы открытые, с белым циферблатом». Как я потом благодарила ее за совет, ведь мне часто приходилось осматривать больных где-нибудь в темном углу или на печке, где света почти не было.
Мне выдали жалованье, из которого я хотела прежде всего купить что-нибудь в утешение родным. Тогда только что появились граммофоны. И я купила лучший граммофон и пластинки для него подобрала – все больше песнопения церковных служб.
Потом надо было и для себя купить маленький самоварчик и кое-какую посуду.
Родные заговорили о том, как я там буду одна, не поехать ли всем? Но на дворе была масленица, скоро разлив, а дорога туда такая дальняя, верст семьдесят. А главное, я боялась за свое душевное состояние: ведь я всецело должна отдаться больным, а здесь у меня будут заботы, беспокойство о родных. И еще главное: ведь они будут страдать, видя такую работу, а я не буду делать себе поблажек.
Все это заставило меня отклонить их желание. И я поехала одна. Наняли самого надежного в деревне человека, и мы отправились.
Что я перечувствовала за это время!.. Ведь я ехала в незнакомое, дальнее место совершенно одна. Меня пугала мысль: как я справлюсь, ведь я неопытна, а обратиться не к кому… Буду относиться к каждому как к своему самому близкому родственнику!
Что-то великое, святое ожидает меня!..
Приехали в село: амбулатория рядом с питейной монополией. Мне еще в городе сказали, что управа наняла дом для амбулатории, а для меня квартиру; если не понравится, то найдут другую. Дом этот в стороне от дороги, для меня лично – огромное помещение, высокое, светлое, одна очень большая хата, в сенях кухня, а через сени еще хата поменьше, с перегородкой, где помещается амбулатория с аптекой. Я согласилась взять этот дом, и сразу же фельдшер все туда перенес.
Так как из управы дали знать о моем приезде, то сейчас же мне предложили и прислугу, пожилую женщину из соседней деревни: она служила у предыдущих врачей. Но хозяйственные дела, лично мои, мало меня интересовали. Хвалили ее, что она замечательная повариха, но мне до этого не было никакого дела: я была полностью поглощена больничными делами – д о такой степени, что мне почти не хотелось есть, и шла я на обед, только чтобы успокоить свою повариху и скорее покончить с этим делом, а на вопрос, что готовить, я отвечала большей частью: тушеную картошку (на что, видно, она обижалась).
А занятий у меня было много. Сначала надо было навести во всем порядок. Пересмотреть лекарства, выбросить что испортилось и устарело, чтобы фельдшер не продолжал давать негодное, выписать все необходимое и вести амбулаторию. С фельдшером старалась быть как можно серьезнее, не входила ни в какие частные разговоры; когда он входил ко мне по какому-нибудь частному случаю, то даже не предлагала садиться и т. п. В душе я даже упрекала себя за такое высокомерное отношение, но боялась поступать иначе, особенно когда узнала, что он любитель выпить.
Мне хотелось, чтобы он меня боялся и стеснялся. Но это так не подходило к моему характеру, что надо было себя заставлять. Прием, по словам фельдшера, здесь совсем небольшой: несколько человек в день. Поначалу действительно было не так много больных, человек двадцать-тридцать. В это время на прием привезли дифтерийного ребенка, а у нас антидифтерийной сыворотки нет, меня это очень взволновало. Я подробно расспросила мать ребенка, где они живут, а сама, закончив прием больных, спешно наняла извозчика и поехала к вечернему поезду на Смоленск.
Верст десять надо было ехать на лошадях до станции да по железной дороге станцию или две до Смоленска: приехала уже ночью и прямо в больницу. Там в этот момент дежурил доктор Спасокукоцкий (теперь он известный хирург, профессор в Саратовском университете), он принял меня очень радушно, был тронут такой моей заботой, сейчас же дал мне ящик с антидифтерийной сывороткой и здесь же со мной как неопытной сделал несколько впрыскиваний и поручил мне самой сделать при нем, чтобы я не беспокоилась, когда буду делать одна. Он дал мне много практических советов.
С ранним поездом я выехала обратно и до начала приема была уже на месте. Прежде всего поспешила к больному ребенку, чтобы скорее сделать ему впрыскивание, так как нас учили, что каждый час очень дорог для жизни. Но, к сожалению, во всей деревне такого дома, как сказала мне мать ребенка, я не нашла. В конце концов, после долгих расспросов выяснилось, что они живут верст за пять от этой деревни, уже за пределами нашего уезда, а сказала она так, вероятно, потому, что думала: если они из другого уезда, я их не приму.
Приехала туда, нашла их: ребенок был очень слаб, но еще жив. Сделала ему впрыскивание и сказала, чтобы они на другой день привезли ребенка в амбулаторию. Много было таких волнующих случаев.
Через несколько дней народ хлынул массой, все больше и больше приходилось принимать людей, даже до трехсот в день. Шли и ехали не только окрестные, но и издалека, верст за пятьдесят-шестьдесят. В этой местности давно не было врача, а если и был, то неудачный, напивался до беспамятства. Кроме того, случались в окрестностях эпидемии детских болезней и брюшного тифа. А главное, надо было справиться со старыми недочетами: целые деревни были заражены сифилисом.
Приходилось специально ездить, чтобы все объяснить о заразе, уговаривать их не есть из одной чашки, завести отдельную посуду. И с такой горячностью я уговаривала их беречься и лечиться, что они все стали исполнять мои советы и относились ко мне с такой верой, что это поражало случайных интеллигентных посетителей. Вот, например, одна помещица (уже после она мне рассказывала) приехала из ближайшей местности в амбулаторию и видит: вся площадь занята – и повозками, и кибитками (видно было, что приехали издалека). А на лугу, ближе к амбулатории, лежали на матрасах снятые с телег больные, из-за тесноты их не могли внести в амбулаторию (там уже было много), а меня она увидела, как я наклоняюсь к больным и быстро их осматриваю, не заразные ли они (не нести же их в толпу).
Смотреть приходится на месте и сразу давать советы и лекарство. Сидела она в своем экипаже, все смотрела на эту ужасную картину, обессилевших больных, и не решилась своей неважной болезнью отрывать у меня время, заплакала и поехала обратно. А председатель управы, как-то приехав навестить мой участок, выразился так: «Это что-то особенное, сюда съезжаются не в амбулаторию, а как на богомолье».
Сколько здесь было сильно больных сифилисом! Помню молодую женщину, невестку из одного богатого дома; говорит, что лечение на нее не действует, ей все хуже и хуже, вся кожа у нее слезла. Лицо у нее совсем молодое, но смотрит она с таким отчаяньем; побежала топиться, но что-то ее остановило. Забежала в амбулаторию, я ее приняла, как близкую, родную, – она растрогалась, обещала мне оставить свое намерение и аккуратно приходила на лечение, а я спешила поскорее помочь ей. Она стала быстро поправляться и была мне бесконечно благодарна.
Вот молодой человек стесняется сказать, что с ним, а только повторяет в отчаянии, что ему остается один выход – застрелиться. Но после моей просьбы рассказать, что с ним, он показал мне рот – на внутренней стороне громадная зловонная язва, и сказал, что у него признали уже нечистую болезнь (т. е. сифилис). Посмотрела зубы: у него оказался напротив этой язвы сломанный зуб, который ее и образовал. Я успокоила его как могла, очистила ему язву, выдернула зуб и дала полосканье, сказав, чтобы он пришел через два дня. Видно было, что он еще сомневается. Но когда больной пришел в следующий раз, язва уже хорошо очистилась и быстро стала заживать. Он совершенно успокоился, благодарности его не было конца.
Были тяжелые, умирающие больные, которые все-таки просили навестить их, чтобы при мне умереть. Я их предупреждала, конечно, что прежде всего надо причаститься. А когда была у постели умирающих, то подводила детей, чтобы родитель благословил их образом, а то крестьяне относятся к этому не вполне как до лжно.
Помню тяжелого сердечного больного, у него были ужасные сердечные приступы, он даже боялся засыпать, думал, что не проснется, и ему было страшно. С этим он приехал ко мне в амбулаторию. Около стенки в амбулаторию стояла скамейка, и я сказала, чтобы на нее положили больного: «Не бойся, спи здесь». И больной сейчас же заснул, даже немного захрапел, а я стала заниматься своим делом, у меня было так много больных.
Вдруг, в самый разгар работы, с шумом открывается дверь и врывается женщина, с двумя мужчинами по обеим сторонам; вся одежда на ней изорвана, глаза безумные, – она буйная, ее не могут удержать двое мужчин, она сейчас бегала по улице. Вообразите себе мое положение!
Работы здесь ужасно много, всё тяжелые больные – и вдруг еще такая буйная. Как к ней подступиться? Чувствуя свою беспомощность, я серьезно сказала ей: «Успокойся и сядь». За печкой от двери была еще одна длинная скамья. «Сейчас же ложись здесь», – сказала я насколько могла строго, а сама чувствую себя совершенно беспомощной, прикрыла ей лицо и еще строже сказала: «Спи, сейчас же спи!» И вдруг она захрапела.
С одной стороны спит сердечный больной, а с другой – храпит эта буйная больная. И меня проник какой-то трепет, вся эта вышеестественная картина вызвала во мне какой-то благоговейный страх, но здесь некогда было рассуждать. Я поблагодарила мысленно Господа и стала очень спешно принимать больных.
Ведь мне приходилось принимать целый день, а на улице стояли еще подводы, терпеливо ожидая окончания приема. Под конец дня, несмотря на горячее отношение к делу, я все же изнемогала; между приемом больных я прибегала в свою комнату и старалась освежиться. Обливала холодной водой голову из рукомойника и затем снова шла; а то чаще ложилась на кровать, опускала голову до земли, а ноги клала на спинку и в таком положении оставалась минуты две-три, чтобы кровь прилила к мозгу и прошла моя дурнота, а затем спешила принимать больных. В эти моменты мне приходила мысль: «А будь на моем месте мужчина, так, пожалуй, попробовал бы выпить вина, чтобы как-нибудь поднять свои силы, хоть на минуту…»
Из управы получила бумагу: по донесению местного фельдшера, в дальнем селе у одного рабочего среди прибывших из шахт какая-то непонятная болезнь. Больной из местности, где встречается чума, поэтому врач участка должен немедленно туда съездить, чтобы определить болезнь.
По окончании позднего приема (а мне всегда приходилось принимать до одиннадцати часов вечера, а потом уже ночью ездить по разным деревням, по домам, куда меня обыкновенно вызывали) начала собираться в далекий путь: участок мой был из особенных – очень большие концы, особенно в одну сторону. До назначенного места нужно было ехать верст сорок.
Осталась одна в аптеке и стала думать и откладывать, что мне взять для такого отдаленного места. Отложила все необходимое. В голове моей проносятся мысли и о себе, ведь я, как врач, буду прикасаться к больному, разве можно при таких условиях не заразиться (а чума ведь такая болезнь – не щадит никого).
В душе надо мне быть готовой к смерти. Мысли такие, а как вспомню эту ночь, у меня на сердце, как на Пасху, светло, радостно… Спать некогда, выехать надо до света. Остальное я забыла, помню только, что при осмотре больного не оказалось ничего серьезного. Напрасная была тревога.
Редкий день мне не приходилось ездить ночью по деревням, большей частью не меньше пяти подвод стояло в ожидании моего приема, а это значит, что они целый день стояли во дворе амбулатории. Ну как было отказать? И я никому не отказывала. Прием такой большой – человек до трехсот; приедет их больше, но кто не успеет, те уж остаются до следующего дня. Сил больше нет. А когда сяду на подводу, чувствую такое изнеможение, что здесь же лягу и скажу вознице: «Ты присматривай за мной и придерживай за край шубы, а то я могу заснуть и упасть». От деревни до деревни так и приходилось провести всю ночь.
Среди этих подвод часто стоял экипаж соседнего помещика Энгельгардта, у них болела девочка-подросток: ее, уже больную, привезли из института (из Петербурга или из Москвы), и вот меня часто звали к ней. Но и к ним я не могла приехать рано. В один из первых разов они как бы с обидой сказали: «Мы успели выспаться, а вы только приехали».
Потом привыкли и только иногда скажут: «Вот мы бы вас ужином угостили, да вы всегда так поздно». Но мне было не до еды. Хоть бы исполнить свой долг и успеть всех навестить. Приеду под утро, а у меня уже сил нет раздеться: так, не снимая шубы и ботиков, и брошусь в постель. И утром-то редко приходилось выспаться: большею частью ранее обыкновенного времени находятся волнующиеся люди, привезшие тяжелых больных, они не вытерпят и начнут стучать.
А помню, однажды, после бессонной ночи, я в изнеможении заснула. Стали стучать в мое окно, и, видимо, с такой силой, что крюк выскочил, и окно раскрылось. И вот, хотя у меня были высокие подоконники, в комнату через окно внесли задыхающегося ребенка и положили около меня. Я проснулась, а они с рыданием говорят: «Глянь, ради Бога, он у нас умирает». И конечно, приходилось скорее начинать прием, раньше девяти часов.
Крестьяне с такой верой, надеждой и любовью относились ко мне, что, видя это, я скорбела до слез (только, конечно, от них скрывала), что не заслужила их ко мне доверия. И это необыкновенное чувство заражало всю толпу: поэтому два человека всегда держали дверь и впускали поодиночке. А если случалось прорваться толпе, то они давили друг друга. И мне тогда надо было временно прекращать прием и водворять порядок, так как в это время они только одну меня и слушали.
В середине апреля я получила письмо от родителей: они писали, что им хочется со мной повидаться и потому они собираются приехать к моему дню Ангела. Рада, конечно, я была увидеться с моими любящими, дорогими родителями, но в то же время меня пугало, как они воспримут всю эту обстановку, ведь я дни и ночи в работе до изнеможения.
Предупредила народ, чтобы дали мне хоть сколько-нибудь времени провести с родными.
В день их приезда люди, уходя из амбулатории домой, повстречали моих родителей, которые спросили дорогу в амбулаторию. Они сразу догадались, что это ожидаемые мною родители, и стали выражать свое расположение к докторше и свою благодарность. И родители приехали ободренные и утешенные. Я была бесконечно рада и тронута до слез, что они, такие слабые, решились пуститься в этот дальний путь.
Ехали они в маленьком экипаже на одной своей лошади и только вдвоем, без кучера.
Несмотря на предупреждение, народ не мог удержаться и шел такими же толпами. Как же можно было остановиться, когда такая вопиющая нужда, когда столько эпидемий? И вот опять у меня с утра и до вечера народ, только ночью реже ездили. Уезжая сюда, я не позаботилась о своей одежде, и мамочка сама заказала платья и привезла мне.
О том, как они приняли такую мою, почти непосильную работу, родители не говорили, но видно было, как им тяжело. Пробыли они у меня неделю, а мы почти не виделись и не говорили. Прощаясь с ними, я успокаивала их тем, что с ними же передала заявление, что мне приходится уволиться с этого места. И так они поехали, отчасти успокоенные, что я скоро оставлю это место, но в то же время им тяжело было оставлять меня на такой непосильной работе.
За все мое пребывание там мне удалось только однажды отказаться от дневного приема и побывать в храме в соседнем селе. Из интеллигенции, кроме знакомых Энгельгардтов, которые так часто присылали из-за болезни их дочери, там были еще их родственники, с которыми я тоже познакомилась. Жили они в имении около того села, где была церковь. Все эти знакомые уговаривали меня не делать прием в день Святой Троицы и обещали утром, на праздник, прислать экипаж, чтобы мне приехать в церковь, а оттуда к ним на весь день. Народ заранее предупредили не приходить в день Святой Троицы, и я поехала в церковь. После обедни отправилась со знакомыми в их имение.
Большой двухэтажный барский дом, обстановка хорошая, старинная. Живут там двое, мать и дочь. Дочь симпатичная, высокого роста, энергичная. На ней все дела по имению, она большая любительница лошадей, сама их выезжает. Как раз в это время ей приходилось распоряжаться об очистке пруда, где у них водятся караси. Есть у нее и другая сестра, но та замужем и приезжает иногда с семьей. А с ними жила еще родственница Ланская, которая, помню, меня заинтересовала, она была очень религиозная, и мы с ней много говорили.
Вскоре после чая и завтрака приехали Энгельгардты.
Он был большой любитель пения, содержал хор, который и пел в храме. А теперь он пригласил этих певчих на пикник, им предоставили экипаж, и мы все отправились в лес. По отлогой горе поднимался величественный лес; прежде он был, конечно, дремучим, а теперь во многих местах просеки. «Вот сюда приезжала наша бабушка, – сказал Энгельгардт, – она любила здесь молиться Богу, а вот тут на дереве была икона».
Мы любовались окружающей красотой. Мне все это было особенно дорого после столь долгого затвора, ведь я непрерывно принимала больных. В те короткие моменты, когда я пробегала по двору от одной подводы к другой, обычно была так занята, что ничего не видела, кроме больных; а когда ночью, в полусонном состоянии, ездила по вызовам, то не видела ничего из окружающего. А теперь и трава большая, и деревья благоухают: вся эта красота поразила меня до глубины души; и певчие здесь. И я как будто далеко перенеслась от земных скорбей. До позднего вечера мы не уезжали из леса, и только тогда меня отвезли домой.