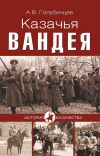Читать книгу "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
По окончании операции все врачи сели в антрэ[2]2
Антрэ (фр. entrée) – вход, прихожая. – Примеч. ред.
[Закрыть] при операционной и начали рассуждать о случае только что оперированном, а затем перешли на текущие события. Это был февраль 1905 года. Дитрих заговорил о смерти Великого Князя Сергея Александровича, и говорил он таким злостным, насмешливым и возмутительным тоном… Меня это возмутило до глубины души, я не могла вытерпеть и стала говорить: «М. М., вы всегда добры ко всем больным, а в этом случае вы хуже всякого зверя». Слезы возмущения душили меня.
Вскоре мы все разошлись, я шла в свое общежитие с врачом еврейкой Шор. Она с озлоблением сказала: «Вот вы все плачете, говоря о Сергее Александровиче, а насчет кишеневских вы не заплачете». – «Как можно так озлобляться на совершенно неповинного человека?» – сказала я. На это Шор с озлоблением и скрежетом зубов ответила: «Вы не знаете, что он запретил евреям жить в Москве, за то его и убили». На этом мы закончили наш разговор и дошли до своих комнат.
Еще как-то мне пришлось зайти к ней в комнату. На столе у нее на почетном месте, как святыня, лежала книга с золотым обрезом, я заглянула и увидела – это была история Французской революции. В стороне лежал портрет Достоевского. «Возьмите его у меня, он мне не нужен. Вы знаете, как он относился к евреям. В “Дневнике писателя” у него есть», – сказала она. Достоевский писал: «Если России суждено погибнуть, то она погибнет от жидов». Несмотря на такие крайне противоположные убеждения, у нас с ней не было дурных отношений.
Однажды мне надо было подготовиться к операции. Мы с доктором Шор (она была в гинекологическом отделении) взяли труп, пошли в анатомический и там работали. Я видела, что она ужасно удручена (ей, кажется, не отвечали взаимностью на ее чувства), и это было для нее так тяжело, что она не выдержала и сказала мне: «Какая вы счастливая, – вы верующая, вы не можете дойти до такого состояния отчаяния, как я. А я могу даже покончить с собой». Сочувствуя ей от всей души, я спросила: «Неужели вы неверующая и не можете верить?» – «Да, я неверующая и не знаю даже, как можно верить. Я так воспитана – отец мой и мать неверующие» (они были врачами в Одессе в это время)…
Как странно, что она это сказала, а когда наступила у них Пасха, она принесла мацу и раздавала всем нам, врачам, за столом и приглашала на праздник к себе и меня.
С братом моим мы жили, как говорится, душа в душу. За всю нашу жизнь между нами не возникло ни одного недоразумения, мы обо всем думали одинаково. Как-то раз ему пришлось решать одно общее дело, и когда он возвратился и все мне рассказал, то я ответила: «Ты не успел спросить, а сделал так, как мне хотелось». – «Ну ведь мы же с тобой одинаково думаем, как же было бы иначе?..»
Только в одном мы не сходились: относительно евреев. Считая их народом Божиим, я старалась выразить им свое расположение, я их очень жалела. Я думала, что они у нас в России как пасынки. Поэтому с больными я поступала так, что иногда ставила их на первое место, боясь сделать им какую-либо обиду, принимала их раньше, тем более что они отличаются, как я заметила, особой нервностью. А русских я люблю, как своих близких родных, и мне не надо было употреблять напряжения во внимании. В пасхальное время для евреев я разрешала им брать из дома особенную, дозволенную их законом пищу. Говорила в палате русским больным, что надо уважать и их религиозные верования, не мешать им молиться. Больные очень хорошо относились ко мне (трудно их было выписать), но все же один рабочий сказал: «Мы огорчаемся, что вы больше любите евреев». (Но, кажется, это было сказано вроде шутки.)
Брат же говорит, что евреи не могут любить России и нас. Денщику говорил, чтобы он покупал хлеб только в русской пекарне и вообще все, что приходилось из продуктов. Иногда он употреблял даже слово «жиды», что меня огорчало до крайности, и я как-то прослезилась по этому поводу.
Революционные волнения
Но вот прошло немного времени, наступило лето, и случилось страшное событие. Повеяло революцией. Между прочим, на медицинские собрания обыкновенно собирались врачи со всего города, поехали и мы из общежития. После докладов студент-еврей поднимается с фуражкой и предлагает опускать туда деньги на еврейское самовооружение. Вижу, что наши русские врачи, профессора почтенные опускают тоже рубли в эту фуражку. Это меня страшно возмутило, и среди полной тишины я встала и заговорила: «Неужели вы не чувствуете, что этим своим предложением вы вооружаете против себя? Если вы любите свой народ, вы не должны этого делать». Говорю я это, а сидящий со мной врач из общежития нашего тянет меня за одежду и тихо говорит мне: «Что вы, вас убьют, не говорите». Никто не возразил мне, и я не положила. Говорили, что наш профессор Дюбуше-американец ходил по пристани агитировать.
Во флоте 27 июня 1905 года поднялась революция. Убили офицеров. Шмидт, водрузив на крейсере красный флаг, начал бомбардировать Одессу, орудие попало в полицейский участок, но человеческих жертв, слава Богу, не было. Общее настроение было ужасное.
После этой беспокойной ночи, когда пущены были снаряды в город, мы получили записку от брата, что он с полуротой назначен оберегать собор и прислал билет на мое имя, чтобы я могла пройти в город. Он знал, как мы беспокоимся о нем и вообще о состоянии города.
Утром рано я пошла, повидалась у собора с братом и направилась прямо на Приморский бульвар, где в виду на якоре стоял мятежный крейсер. Села я на скамейку среди кустов и смотрю, а сзади меня в нескольких шагах стоит цепь солдат, охраняющих город. Посматриваю я на них и вижу: один молодой еврей подбежал к солдату, дал ему пощечину, а тот, к моему удивлению, даже не дрогнул мускулом, а тихонько отстранил его руку. Так, значит, приказано быть им осторожными. А еврей между тем отскочил от солдата и закричал: «Меня ударил солдат, идите на защиту». Но это как-то не подействовало. Правда, вначале собралась толпа, пошумела, но к солдатам не коснулась и разошлась.
Прошло некоторое время, я все так же сидела и смотрела с тревогой на крейсер, к которому как будто присоединяется еще другой пароход. Смотрю на цепь солдат. Вдруг опять тот же еврей подскакивает к цепи солдат, схватывает за грудь солдата и трясет его, а солдат так же невозмутимо отстраняет руки еврея и молча стоит на своем месте. Еврей опять кричит, собирает толпу, но толпа снова скоро расходится, не затрагивая солдат. Еврей и вся эта картина очень возмутили меня! Вот каков погром еврейский, думалось мне, видно, они и в Кишиневе устроили его так же. А кричали на весь мир. Даже Америка через нашего вице-консула прислала ноту нашему консулу с выражением недовольства учиненными погромами в Кишиневе. Вот когда я поняла отношение к нам евреев и стала всецело на сторону брата. Энергичные меры дали успокоение Одессе…
Несмотря на наши диаметрально противоположные взгляды, профессор Дюбуше был всегда очень любезен со мной при всяком случае и в работе. Он всегда оказывал мне свое внимание. И вдруг при всем этом однажды говорит: «Если бы Александра Дмитриевна вступила в Союз Р[усского] Н[арода], я не подал бы ей руки». А я на это ответила: «Я не знаю, что есть такой союз и где он находится, а то вступила бы в него». Я искренне ответила ему, так как всецело была занята медициной и ничего другого не знала. Он ничего не сказал на это, но по-прежнему внимательно относился ко мне. В некоторых случаях я даже смущалась таким любезным отношением.
Среди наших врачей в общежитии из двадцати двух человек было восемь евреев, да потом еще поступила еврейка Шор. Все они относились ко мне очень хорошо, часто приглашали на свои собрания, даже на собрание о вооружении еврейском. На последнее приглашение я ответила: «Ведь вы знаете мои убеждения, вы должны бояться, что я могу предать вас». Но они отвечали, что уверены, что если я буду на их собрании, то не предам их.
Иногда я ночевала дома, и мы с мамочкой дорожили всякой минутой, чтобы быть вместе. Из дома утром я должна была ехать первым трамваем, и, несмотря на такой ранний час (6 часов), мамочка вставала со мной и шла провожать меня до трамвая.
Стоим мы однажды в ожидании трамвая, пробегает какая-то молодая женщина, загорелая, запыленная, с шелковым шарфом на голове; по виду и костюму мамочка приняла ее за прислугу. Эта особа поцеловалась со мной, но с каким-то смущенным видом. Я едва успела спросить ее, где она живет. Она указала мне на ворота, против которых стоял трамвай, и быстро-быстро скрылась в воротах. Мамочка спросила меня, не прислуга ли она чья-либо. Я сказала, что это моя соученица по Медицинскому институту, врач Шафранова. Она из очень хорошей семьи, брат – директор высшего учебного заведения, а сестра – начальница Полтавского института. Она сама привезла в Петербург свою молоденькую младшую сестру и почему-то в общежитии обратилась ко мне и сказала: «Как бы мне хотелось, чтобы вы к ней были поближе, а то она такая неопытная, я о ней очень беспокоюсь». В институте она была верующей и принадлежала даже к той группе (прокаженных), которые ходили на лекции.
Уезжая теперь на трамвае, я подумала: какой странный вид у Шафрановой, она не в себе или она больна душевно; так поразил меня ее вид, а мы ведь не виделись с ней с самого выпуска. Надо к ней сходить, может быть, она больна? В следующий приезд я пошла в указанные ворота. Спрашиваю у дворника, где здесь живет врач Шафранова. Он ответил: «У нас нет никакого врача. Разве вон в том домике фельдшерица, может быть, там и есть».
Я позвонила туда. Мне открыла сама Шафранова. Так странно – она выскочила полураздетая: рубашка без рукавов с плеч спускается и юбка. Отворила и быстро скрылась, только успела сказать мне, указывая на дверь напротив, чтобы я проходила туда. Вошла, но здесь опять недоумение: посреди комнаты рядом со столом кушетка, и на ней лежит студент… Ребенок лет двух бьет его по щекам, а на пороге двери в следующую комнату сидит женщина, на ее руках ребенок.
Вся эта картина привела меня в смущение, стою в нерешительности и не знаю, что делать. Студент сказал: «Садитесь». Вошла и Шафранова, сказала: «Мы – коммунисты».
Старалась это подчеркнуть всем своим поведением. Она заварила кофе и, занимаясь хозяйственными делами, говорила как-то искусственно, небрежно, как будто это была совсем не она прежняя. Тем временем студент встал и начал говорить со мной относительно больницы. Оказывается, он студент пятого курса Медицинского института, ему хотелось бы посещать нашу больницу, присутствовать при операциях, и он просил об этом разрешения.
Она налила мне кофе, молча поставила. Вообще, чувствовала я себя неловко, спешила поскорее уйти из этой неприятной обстановки. Когда я уже поднялась, то Шафранова сказала, что пойдет меня проводить. Но, увидев, что студент тоже идет меня провожать, с каким-то раздражением сказала, что не пойдет. Мы пошли со студентом, я спросила, чей это ребенок, он ответил, что его, а жена работает фельдшерицей на расстоянии одной станции от Одессы. Я выразила свое удивление, что они так воспитывают ребенка, ведь они его погубят. Он не обижался, слушая от меня всю правду, которую мне хотелось высказать.
Расстались мы хорошо, договорились, что он будет приходить к нам на операции. Но я долго не могла забыть впечатления от всего увиденного. Через некоторое время Шафранова пришла ко мне в больницу с просьбой, чтобы я позволила на мое имя присылать из-за границы газеты и всякую литературу на тончайшей бумаге. Я, конечно, была возмущена этим и резко отказала – как только она может предлагать мне это, зная мое направление? Затем просила меня пойти в каменоломни, чтобы оттуда пойти окрестить ребенка, а ей неудобно, она коммунистка. Я согласилась.
* * *
Был уже 1905 год, лето. Мы сидели в столовой общежития. Как всегда, справа от меня сидел доктор Николай Михайлович Протопопов, хороший врач и замечательный человек. Кончили ужинать и понемногу, после долгой беседы, стали расходиться. А Николай Михайлович не уходит, поднял разговор о Соловьеве, он знал, что я его очень люблю, и из всей литературы только его и читала в то время. Он попросил принести из его сочинений одну книгу, я принесла. Вопрос зашел о том месте, где Соловьев говорил о тексте из Апокалипсиса: «За то, что ты не холоден и не горяч…»
Не помню, что мы говорили по этому поводу, но закончилось тем, что Николай Михайлович предложил мне выйти за него замуж. Я ответила ему, что решила никогда не выходить замуж, так как считаю, что обязанности врача для женщины несовместимы с семейной жизнью. Ведь я так добивалась стать врачом; вся жизнь, сколько я себя помню, была наполнена мечтой об этом. Выйти замуж для меня равносильно тому, чтобы оставить свое заветное желание быть врачом; разве может жена и мать всецело посвятить себя своим пациентам, если у нее будут еще и супружеские обязанности?
Говорила что-то в этом роде, и этим пока разговор окончился. Другие врачи, догадываясь, вероятно, обо всем, потом между собой говорили, но так, чтобы я слышала, – как им жаль Николая Михайловича.
Около этого времени мне пришлось ехать на трамвае с одним из наших врачей, очень добродушным, он не выдержал и сказал: «Что-то будет с нашим Николаем Михайловичем, как бы он не покончил с собой…» И еще многие намекали мне на это или говорили: вот он начнет пить с горя. Я была всем этим очень расстроена; избегала оставаться с врачами в столовой. В глубине души я очень страдала, даже мелькало в уме и сердце: «Нет, больше я не буду так огорчать человека, которого я считаю во всех отношениях хорошим, идеальным. Будь что будет, а я больше так говорить ему не могу…»
Иногда я на трамвае ездила на ночь к родным. И вот пришла мне мысль: вместо того чтобы ехать домой (о чем я предупредила врачей), по ехать в монастырь. Приехала поздно (никого там не знала, никогда там не была), попросила меня оставить в какой-нибудь келье переночевать, чтобы на другой день причаститься Святых Таин.
Так и сделала. На другой день причастилась Святых Таин, а затем зашла в собор, молилась там перед чудотворной Касперовской иконой Божией Матери. Молилась я с великой скорбью, ничего не просила, только считала, что мне нет никакой возможности избавиться от постигшей меня скорби, не знала, что мне надо делать. Всем происшедшим со мной я была окончательно подавлена. Возвратилась я обратно как будто без надежды на избавление, как бы ничего определенного не думая, но, скорее, решение мое было – не сопротивляться.
По возвращении пришлось, конечно, за обедом быть за общим столом. Николай Михайлович как будто был бодрее и с прежним расположением, забыв об обиде, обращался ко мне. Вдруг мой визави, по прозвищу «боярский сын» (он был еврей, белокурый, курчавый и типом своим был мало похож на свой народ), обращается ко мне и дает мне свою карточку. Я не испытывала к нему симпатии, скорее, наоборот, некоторая его назойливость мне даже была неприятна, но я не могла отказаться принять от него карточку (он снимался потому, что был назначен к призыву в армию на случай войны). Затем Николай Михайлович спросил его, когда же он возьмет положенный ему отпуск (при этом вопросе в голосе его чувствовалось раздражение). А тот в ответ: «Нет, я не возьму отпуска, я буду помогать Александре Дмитриевне, она меня приглашает».
Он был моим соседом по палате, и полагалось так, чтобы сосед помогал в качестве ассистента, когда это требовалось в нашей работе (палаты наши были хирургические). Мне не хотелось иметь его своим помощником, его звали только поневоле. Я была возмущена его назойливостью в данном случае, его словами, поэтому я сильно покраснела, но почему-то не успела ничего сказать (видно, так надо было). А Николай Михайлович сразу вспыхнул, что-то раздраженно пробормотал и моментально ушел из-за стола. На другое утро, сверх обыкновения, моего правого соседа еще не было, пронесся какой-то скрытый разговор между врачами: все сожалели, что Протопопов уезжает по телеграмме в какое-то земское место.
Вошел и Протопопов, расстроенный, бледный, подошел ко мне прощаться. Я спросила: «Что же это, куда вы и почему?» – «Вы сами знаете хорошо». Обиженным тоном пожелал мне всего лучшего, почти не мог говорить и уехал.
Через несколько дней за кофе в столовую вдруг входит Николай Михайлович, приехавший из своего нового места, довольно веселый. Сидя за кофе, говорит со мною по-прежнему, очень радушно приглашает меня приехать посмотреть его новое место. Не успела я на это ничего ответить, как сидящий со мной (по левую руку) Николай Степанович Челнавский каким-то лукавым тоном отвечает: «Вот мы с Александрой Дмитриевной поедем к вам».
Этот ответ, сказанный как бы от моего имени, вновь взорвал Николая Михайловича. Ему, конечно, показалось странным такое отношение Челнавского ко мне. Он сразу же поднялся и, быстро попрощавшись, ушел, чтобы более уже не возвращаться. Я осталась, возмущенная фамильярностью Челнавского и огорченная, что так обижен человек, которого я уважала и жалела. Долго, долго на душе у меня было тяжело…
Но потом я все поняла и возблагодарила Господа и Царицу Небесную за такое чудесное избавление. Сама, своими силами разве я могла бы избавиться от этой грозившей мне опасности – выйти замуж, разве я могла бы что-нибудь придумать? Тем более что в душе у меня ничего, кроме хорошего, к Николаю Михайловичу не было. И вот Царица Небесная чудом дала мне возможность стать монахиней.
Это я получила второе чудо от иконы Божией Матери Касперовской. Первым было – выздоровление моей мамочки, которое я выше уже описала. Слава Господу и Царице Небесной! Я продолжала жить в общежитии. Как-то раз пришлось без профессора сделать сложную операцию. Профессор взял на некоторое время отпуск, и его замещал главный ассистент М. М. Дитрих.
Он был приват-доцент, ему хотелось иметь авторитет у студентов. К нам поступил в палату больной матрос, высочайшего роста. Утром он был совершенно здоров, подрался с другим матросом финскими ножами; дело было на скотном дворе, на навозе. Поранен был большой палец ноги и моментально начал вздуваться.
Пока матрос попал в нашу палату в девять часов утра, опухоль уже заняла всю стопу и нижнюю часть голени. Диагноз – «шумящая гангрена», страшная болезнь, молниеносно захватывающая всё большие и большие участки. Происхождения она бактерийного: эти бактерии быстро размножаются и вырабатывают особый газ, так что при ощупывании опухоли слышен треск, как вообще при подкожной эмфиземе.
Болезнь эта редкая – из наших врачей никому не была знакома, и все прибежали смотреть. Ассистент М. М. Дитрих предложил сделать операцию, но матрос не решался. Как правда здоровому человеку, за несколько часов до этого обладавшему такой физической силой, и вдруг стать калекой, – ведь ему надо отнять ногу насколько можно выше. Но нужно было спешить, так как опухоль быстро распространялась. Обсуждали опасность этого случая в присутствии соседей по палате, чтобы и они воздействовали на матроса.
Пока был в палате М. М. Дитрих, больной согласия своего не изъявлял. В три или четыре часа Дитрих ушел, сказав мне, что если тот согласится, то чтобы я сделала операцию. Чувствую я, что ему не хочется самому ее делать, он опасается летального исхода, а для него это так нежелательно. Некоторое время спустя после нашего ухода на обед прибегает палатная сестра и сообщает, что больной после всех уговоров согласился. И вот мне предстоит делать самой: сосед по палате должен хлороформировать, он один вызвался ассистировать.
Сестры сочувствуют мне и, вижу, беспокоятся. Я беру инструмент, делаю разрезы, но не произношу ни звука; это их еще более беспокоит. Но когда я слишком углублена в свою работу, то не могу говорить. Только ассистента попросила, чтобы он не закрывал своими руками сосуды. Операция прошла благополучно. Слава Богу! Об этом случае наши потом много говорили…
Смерть отца. Жизнь с матерью в деревне
Дома у отца моего сделался небольшой апоплексический удар; в результате зрение несколько повредилось, появилось раздвоение предметов. Надо было ожидать дальнейшего ухудшения, и он сказал мне: «Сашенька, оставь службу, мне хочется умереть на родине».
Мы быстро собрались, я занесла свое прошение об увольнении старшему врачу, не заходя в общежитие (а то опять будут меня уговаривать), и мы поехали в деревню. Брат уже женился и остался с женой в Одессе.
Первое время отец мой еще ходил, но потом слег, и я несколько месяцев ухаживала за ним. Ночью не раздевалась, чтобы мне было удобнее и быстрее подходить к отцу. Мать моя была очень слаба, и я просила ее не беспокоиться и всецело уступить мне ухаживание за больным отцом. Днем я читала ему или объяснение Святого Евангелия в «Троицких листках» (целый том), или еще что-нибудь духовное, а из беллетристики – Лескова, статьи с более духовным содержанием.
Отец мне сказал: «Мне легче терпеть болезнь, когда я слышу твой голос». И я старалась без устали читать.
Здоровье отца моего все слабело; уже надо было помогать ему подняться с постели, и 9 ноября 1905 года в час дня он скончался.
Крестьяне заранее говорили мне, что они хотят нести его на руках до церкви, но ведь это было такое большое расстояние – восемь верст до села Кузнецова, а в эти дни все заледенело, на дороге было скользко. И мы решили везти гроб на нашей лошади, моей любимой, тем более что в последнюю ночь, как бы в ответ на мои мысли (как-то будет идти лошадь, она пуглива), папочка говорил: «Не бойся, не бойся, наша Косенька будет идти хорошо». Действительно, во время всего шествия она шла необыкновенно хорошо, посматривала, как я иду рядом с гробом, и сама делала такие же маленькие шаги.
Конечно, при такой продолжительной болезни было исполнено все для напутствия в вечность: и Святое Причастие, и соборование…
Несмотря на просьбы от земства скорее занять место, я оставалась в деревне с матерью: мы поминали покойного отца. За это время мне пришлось исполнить желание моей умершей двоюродной племянницы, пятилетней Кати, которая однажды удивила всех своей обращенной ко мне просьбой взять Женю.
Кате шел четвертый год, когда я ее увидела: наружность ангельская, я ее очень полюбила. Увидала я ее, когда возвратилась из Петербурга врачом. В это время ее отец, муж моей двоюродной сестры Клавдии, по поручению председателя управы уговаривал меня поступить в их земство врачом.
Клавдия вышла замуж за вдовца, у которого было несколько детей. Дети жили с бабушкой в деревне в какой-то губернии Средней России. Говорят, что Клавдия вышла замуж с тем намерением, чтобы своих детей он так и оставил у бабушки. Нам она этого не говорила.
Когда я вернулась обратно с моего отдаленного участка, родители и я сидели у них за чаем, и вдруг, среди тишины, Катенька, сидящая со мною рядом, сказала: «Сашуня, ты любишь девочек, возьми нашу Женю к себе». Всех она так поразила, а Клавдию поставила в неловкое положение. Водворилось молчание. Я ей, кажется, ничего тогда не ответила, но ее просьба всегда была у меня в душе. Через несколько лет, когда мы возвратились, Кати уже не было в живых. (Недавно я узнала, что Женя необыкновенно нежно ухаживает за слепой Клавдией. Отец ее давно умер, и Клавдия ее очень любит.) Но вот как-то, когда я по делам была в Ельне и зашла к Клавдии, матери умершей Катюши, то застала там восьмилетнюю Женю.
Клавдия пожаловалась мне, что у Жени (которую недавно привезли из деревни) какая-то сыпь, и она боится, как бы та не заразила ее маленького сына. Я посмотрела. Сыпь была не определенная, но я обрадовалась возможности исполнить желание покойной Катюши и сказала, что сыпь сейчас не могу определить, так что пусть лучше Женя побудет у нас, и взяла ее к себе в деревню.
Девочка с радостью поселилась у нас, она оказалась хорошим ребенком и прожила у нас года два, пока Клавдия не забрала ее к себе, так как соседи иногда укоряли ее, что дочь мужа не живет с ней. Кроме того, ее надо было отправить в гимназию, и тогда пришлось расстаться.
Однажды я по делам ездила в город Ельню, как иногда приходится купить что-нибудь или еще по каким делам – не помню. По обыкновению, остановилась с лошадью у своих знакомых друзей Энгельгардтов. Взяла там полученную газету (правую) и прочитала между прочим, что, вследствие надвигающейся на Россию холеры, для охраны царского дворца назначен доктор Рубель и приват-доцент Одесского университета М. М. Дитрих.
Обоих их я хорошо знала: первый был ассистентом в нашей клинике при Медицинском институте. Всегда делал обход с нами больных; я много занималась в клинике, и поэтому мне приходилось часто его видеть и узнать его хорошо. Он был хороший знающий врач, еврей, в политическом отношении крайний революционер, непримиримый враг монархии. Второй тоже еще более был известен мне: мы с ним работали в Одесской больнице, и много-много было случаев, показывающих его враждебное отношение к существующему тогда строю государства. Как часто я слышала его клеветнические речи о нашем государстве, как возмущало меня тогда его наглое выступление среди массы врачей о смерти Великого Князя Сергея Александровича.
И много было таких случаев, в которых я убеждалась в его ложных, оскорбительных для русского человека убеждениях, правильнее сказать, не убеждениях, а подлаживаний под тон враждебно настроенного еврейского студенчества. Помимо всего этого, у нас были между собою хорошие отношения. Он хорошо знал мои убеждения, но лично не касался их и во всех отношениях был корректен со мной.
Но вот эта газетная заметка до глубины души поразила меня. Я не могла спать по приезде домой, мне тяжело было до слез. И села я писать к знакомым в Петербург, чтобы излить свои чувства…
Написала о том, что я хорошо знаю этих двух людей, ничего нельзя было подобрать более опасного, чем то, как сделан этот выбор, охарактеризовала того и другого, упомянула о некоторых фактах. А затем прибавила, что же смотрит лейб-хирург Вельяминов, на которого возложена такая великая обязанность охранять Государя Императора? Неужели красавица Икскуль фон Гильденбанд до такой степени вскружила ему голову? Тогда так полушутя говорили об этом. Она была председательница общества, которое заботилось об открытии Медицинского института, и была попечительницей нашего общежития. Слыхали мы тогда, во время пребывания в Медицинском институте, что на самом верху общежития, на чердаке, есть несколько комнат; никто там из нас не был, но был слух, что там были комнаты для случайных больных. Но больных там никогда не было, а когда начались забастовки, то баронесса делала там обеды для отправляющихся в ссылку.
Была она также в хороших отношениях с министром Витте и иногда передавала его вольнодумные речи, обращенные к молодежи.
Закончила я письмо выражением, как мне тяжело, что у меня нет теперь никакой надежды на жизнь Государя, и что я готова была бы отдать свою жизнь, только бы этого назначения не произошло.
Послала я это письмо только ради того, чтобы кому-нибудь излить свои чувства… Прошло довольно времени, нам с мамочкой понадобилось поехать в город. Мы опять остановились у Энгельгардтов. Покончив свои дела, я взяла просмотреть газету. В этом последнем номере было объявлено, что прошлый номер был конфискован, но иногородним подписчикам уже был разослан этот номер. Я заинтересовалась, по какому случаю была сделана конфискация, просмотрела сложенные газеты и нашла именно этот номер. Развернула его и с удивлением увидела на второй странице письмо врача Одесской больницы Александры Дмитриевны Оберучевой. Письмо было напечатано почти дословно. Только несколько фактов касательно Государя Императора было опущено, а сказано только в общем. Прочитала я про себя, но что со мной было – такой невыразимый страх напал на меня! Только что умер отец, и если еще со мной что случится, то каково будет мамочке…
Чтобы никто не видел моего лица, я спешно вышла и пошла на линию железной дороги, а оттуда в лесок, чтобы хоть сколько-нибудь прийти в себя. Никому никакого вида не подавала. Только через одиннадцать лет узнала результат этого.
Пока мы оставались в деревне, мамочка моя заболела воспалением легких. Болезнь проходила очень тяжело, мало было надежды на выздоровление. Я написала брату, который приехал повидаться. Когда он у нас был, мы услыхали звонок в парадную дверь. Брат вышел сам отворить: бедно одетый старичок подал ему медный образок святителя Николая Чудотворца. Брат сейчас же вернулся, чтобы подать сколько-нибудь денег, но, вернувшись, уже никого не застал. Он смотрел в разные стороны и был поражен: куда же старичок мог так скоро исчезнуть? Вскоре мамочка стала поправляться.
По выздоровлении мы с мамочкой ездили в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы уже затем мне поступить на службу. В Лавре мы поговели, после причастия пошли в иконописную мастерскую заказать икону «Явление Божией Матери преподобному Сергию». Заведующий мастерской иеромонах Нестор пригласил нас к себе в келью и предложил чаю. Рассказал нам, как чудесно был призван в монастырь и как теперь преподобный направляет своих чад. Он дал нам книжку «Письма о Православии» (автор очень известный, но я забыла).
Мы сели в поезд. Обыкновенно мы ездили в третьем классе, там народ все русский, богомольный. Это одна причина, но была и другая: я ведь получала только жалованье, у пациентов я денег не брала, когда они предлагали и даже настаивали.
С самого начала моей службы у меня были такие мысли: вот многие врачи покупают себе дома, отягощаются хозяйством, но я так ни за что не хочу; только я боюсь, чтобы, при всем моем нежелании, постепенно, как-то незаметно мне не привыкнуть собирать деньги, как это может быть.
Я как огня боялась этого, и, когда кто, не знавши, все же давал мне, я говорила, что у меня все настроение пропадает, я тогда не могу лечить. Знакомые знали и уже не предлагали мне никогда.
Обходясь одним моим жалованьем, мы, конечно, должны были быть более аккуратными в расходах, тем более что я любила выписывать духовные журналы и газеты и приобретать по возможности книги.
Как только мы сели в вагон, людей было совсем мало, мы стали читать книгу, данную нам отцом Нестором.
Здесь были письма православного христианина к англиканскому архиепископу Кентерберийскому. Письма эти нас очень заинтересовали, и я читала даже с увлечением. Когда мне пришлось произнести вслух названия английских городов, старик, стоящий против наших сидений около окна, вдруг заговорил. Он сказал, что все эти места ему знакомы. Мы обратили на него внимание. Это был благообразный, благоговейный, красивый высокий старец с седой бородой и такими же волосами, одет он был в простую одежду, как обыкновенный сборщик на храм, с кружкой и книжкой.