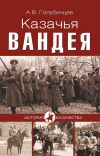Текст книги "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
Я возвратилась в барак и собралась уходить, а наши батюшки добродушно пошутили надо мной, сказав: «Наша мать Амвросия как только появится новый батюшка, так сейчас же оказывает ему почтение, благословения просит».
Я ушла с сестрами, которые ждали меня у входа в наш барак. Вошли в кустарник и сели на кочки в ожидании прихода батюшки и владыки. Батюшка этот был совсем молодой, но такой добродушный, доверчивый: он с таким благоговением отзывался о владыке, когда звал меня. Сестры рассказывали о владыке, что он особенно прозорливый, говорит необыкновенно, в его словах надо видеть особый глубокий смысл; вообще, он говорит много непонятного, как говорят блаженные, юродивые Христа ради: «Вот вы увидите, увидите!» И сами с таким восторгом говорят о нем: «Идет! Тише, тише! Идет, идет!»
Рядом со священником шел «владыка». Он был одет в длинный белый балахон, ниже подпоясан узким ремнем. На голове круглая, высокая, полупомятая шапка, вроде камилавки. Сам пожилой, лет семидесяти, с седой бородой, резкими чертами лица, орлиным носом. Вообще, немного напоминает старца Илариона Троекуровского, как его изображают на портретах.
Мы все подошли за благословением. Сразу бросилось в глаза неумение держать себя и благословлять, что-то (а что, и сама не могу объяснить) показалось мне странным. В душе я укорила себя.
Батюшка и сестры пели, «владыка» молился, но сам не принимал участия в служении. И здесь мне показалось странным, что он и поклоны совершал не тогда, когда обычно полагается. Опять я себя укорила и вспомнила, что при назначении «владыки» в сан епископа была какая-то история (хорошо ее не помню): как будто укоряли, зачем его посвящают в епископы, когда он не получил надлежащего образования. Но зато он праведный, необыкновенно духовный, за это его и посвятили, вспоминаю я.
Сестры, которые так благоговели перед ним, хотели, чтобы я пошла рядом с ним и он что-нибудь нужное бы мне сказал. Он мне что-то много говорил, но я не поняла и потому не запомнила. Мне неловко было перед сестрами, что я не могу так восторженно относиться к нему, как они.
Мы попрощались с тем, что завтра за мной зайдут и мы пойдем сюда же помолиться.
Утром пришел ко мне сам батюшка, вызвал меня из барака и в ужасе рассказал обо всем происшедшем. В их бараке было несколько московских священников, и вот, когда они с «владыкой» возвратились, московские батюшки стали говорить вслух между собой, но с намерением, чтобы их слышали окружающие, что между ними есть притворщик, самозванец, которого надо разоблачить…
На другой день рано утром увидели, что «владыка» исчез. Куда он ушел и когда, никто ничего не знал. Молодой батюшка сейчас же прибежал ко мне и рассказал все это. А сам огорчен ужасно: что-то будет с «владыкой», куда он ушел? Он, верно, испугался. До сих пор батюшка еще верил в него и потому так огорчился. А у меня было только сомнение: вдруг какая-нибудь клевета вызвала такое гонение на невинного человека?! В душе я боялась его осудить до тех пор, пока не встретила человека, который был дружен с настоящим владыкой Варнавой. Он рассказал мне, что, живя в Москве, владыка часто бывал у них в семье, они его чтили, и когда он скончался, то были на погребении.
Ходила я на кладбище с книжкой: там были деревья, и можно было посидеть почитать, а то ведь в бараке полутемно, душно, а на улице жарко и пыльно. Перед нашим бараком был навес, но крыша исчезла, остались только одни столбы и стропила. Днем там нет защиты от солнца. Вечером мы – несколько сестер – читали там вечерние молитвы. На память об этом у меня остался рукописный молитвенник, где мои голубые чернила расплылись, потому что читала, когда шел маленький дождь.
На кладбище было тяжело: там ежедневно с утра вырывалась громадная могила, в десять-двадцать раз больше обычной. Туда за день приносили покойников и зарывали только вечером. Кроме того, на кладбище одной быть небезопасно, когда даже в городке иногда видишь: сидит какой-нибудь батюшка с мешком и чинит белье, а сапоги поставил рядом; и вдруг шпана, как их называют здесь, с удивительным проворством схватывает сапоги и убегает. Или кто-то из них ухватит шапку, а в ней зашиты деньги. Тем дело и кончается. Сколько все это горя приносит! Все живут под страхом. Особенно когда позже стали отправлять более молодых и способных к работе, и остались только старые да малые. Здесь уж было полное раздолье для шпаны: они заняли один из освобожденных бараков и по вечерам зажигали костер, пели песни. Это напоминало разбойников, которые когда-то в таком страхе держали народ.
Иногда шпана ночью делала налет: они подкапывались под края крыши и неожиданно врывались в барак, где все спали. Это наводило такой панический страх: со сна люди не понимали, за что хвататься… Поэтому в нашем бараке решили установить дежурство. По очереди мужчины с палками стояли по часу и следили. Как приближался вечер, так становилось страшно. Начальство почему-то под конец уехало…
Наступил день Преображения. Я пошла к обед не, из наших никто не ходил. Выйдя из церкви, я попала под сильный дождь: вся вымокла, что называется, до костей. При выходе из города зашла в один дом посушиться. Напротив как раз была почта, и я зашла узнать, нет ли для меня писем до востребования. Стою в очереди. Кто-то из нашего барака увидел меня и велел поспешить: «Все ваши уложились, объявление садиться на баржу».
Я ужасно испугалась и сейчас же побежала. Правда, все уложились и даже связали мои вещи. Но там у меня деньги, которые необходимы для дороги. Я все развязала, стала разбирать, а у самой руки и ноги трясутся: долго не могу ничего найти, сил нет завязать веревки.
Все тронулись, осталась я одна в бараке. Кое-как связала вещи, теперь надо искать носильщиков. Надо, значит, оставить вещи на произвол. Бегу в один, другой барак, но вот свободных, которые могли бы понести, нет. Уже солнце село. Какие-то две женщины, после многих моих просьб, согласились донести мои вещи до баржи.
Но когда подходили, узнали, что наши остановились в каком-то ущелье и там сложили вещи в ожидании баржи. Еще рано. Для меня это ужасно – ведь опять надо тащить мой громадный багаж, но кому? Даже неловко стать рядом с матерью Софией и другой монахиней, как будто я им навязываюсь, чтобы мне помочь. Чувствую, что они меня сторонятся: боятся моего багажа. Свой они как-нибудь дотащат вдвоем; или одна будет сторожить, а другая понесет.
Так я и встала в стороне, а вечер уже наступил, почти совсем стемнело. Нигде не вижу людей. Наши все пошли с вещами на баржу. Молюсь Богу, мне страшно, хожу вокруг, чтобы увидеть кого-нибудь. Но нигде никого… Боюсь думать о дальнейшем.
И вот два незнакомых мне до сих пор батюшки пришли и взяли мои вещи. Я села на палубе, на вещах. Как же благодарна я была этим батюшкам! Верно, наши сказали, что я осталась там одна. А на пристани видно было, как шныряла шпана. Страшно было даже подумать остаться в такой обстановке!
На палубе было хорошо, лучше, чем в каюте. Тепло, приятно смотреть на небо и реку. А внизу, в темноте, многих обворовывали. Мы ехали по Северной Двине в Великий Устюг. Кое-где в селах еще были церкви, и их вид утешал нас. К концу дня мы увидали главы церквей Великого Устюга. Но подъехали не к тому берегу, где был город, а к другому. Здесь мы высадились на пустом берегу и расположились группами, в каждой группе был назначен свой распорядитель. Стали раскладывать костер и кипятить воду для чая. Мы должны были отправиться версты за три от берега, вверх, в Троицкий монастырь, где нам назначена ссылка. Поджидали подвод для вещей (в нашем этапе была тысяча с чем-то человек). Ходили в монастырь посланные и сказали, что скоро будут подводы. У кого были легкие вещи, те, взяв их на плечи, пошли пешком.
Наши батюшки и сестры, подождав до захода солнца, решили пойти с более легкими вещами. Сестры оставили около меня то, что было потяжелее, и тоже пошли, чтобы занять, если будет возможность, место получше, а меня просили, чтобы я проследила, как будут класть их вещи на подводы. Мало-помалу к вечеру все ушли. При вещах осталась я, и еще на земле около костра лежали два больных человека. Они были в жару и без памяти. Их знобило, и они бессознательно тянулись к огню. Все время надо было следить, чтобы они не сгорели.
Наступила темнота, но никаких подвод не приехало. Из монастыря возвратился посланный нашей группой и сказал, что, к сожалению, подвод никаких нельзя достать и придется остаться здесь до утра. Видно было, что ему жаль так оставлять меня. Он прошел по окрестности, принес хворосту и сказал: «Надо вам развести побольше костер, и вы его поддерживайте, чтобы было теплее».
А я только перед этим думала: хорошо, что костер тухнет, огонь будет привлекать сюда шпану, которая, должно быть, во множестве рыскает по берегу, как это обыкновенно бывает при остановках. Но теперь не противоречила; только один Господь знает, что лучше – в темноте или при огне? Оправив костер, он смущенно попрощался со мной и ушел в монастырь, обещав похлопотать утром.
Только Господь знает, как я пережила эту ночь!
Как только забрезжил рассвет, две сестры взяли свои вещи, которые лежали около моих. Так что остались только мои.
К утру оба больных скончались.
Вскоре пришел за мной батюшка Макарий с двумя ссыльными. Упокой его, Господи (теперь он умер), он всегда был так добр ко мне и вообще ко всем.
Мы пошли в гору к монастырю. Это было 6 августа. Помню, в ограде было два больших храма, один в два этажа. Часть каменных монастырских построек, прочных, со сводами, еще сохранилась. Постройки были старинные. Однажды, уже в мою бытность, сюда приезжала комиссия от Архангельского общества, говорила о сохранении этого монастыря как археологической древности. Но пропустить эту комиссию в храм не разрешили, так как в нем были сыпнотифозные.
Наши располагались в храме наверху. Пришлось идти по лестнице со всеми вещами. Вещи люди поставили в головах, а сами лежали прямо на полу.
Сестры освободили мне местечко между ними.
Весь пол храма был сплошь занят лежащими людьми. В ограде то тут, то там около деревьев размещались группами люди и готовили себе пищу или кипятили воду для чая. Все уголки монастыря были сплошь заняты ссыльными, так как людей было слишком много. В каждом помещении был выбран особый старший, который всем распоряжался.
В первый же день мне пришлось увидеть около ворот на крыльце сторожки полубольного человека. У него было воспаление шейных желез – последствие сыпного тифа, который он только что перенес, но еще не совсем оправился от болезни. Он остался от прежде бывшего здесь этапа. Конечно, теперь заболели все, у которых раньше не было тифа.
Поминутно можно было видеть людей больных, изнемогающих от жажды, но от слабости ничего не могущих для себя сделать. Взяв свою кружку, я подходила к группе сидящих у костра людей и просила то тех, то других налить в мою кружку воды, чтобы напоить больного. Некоторые давали, но большинство в первое время относились ко мне с недоверием и отвечали резко, вроде: «Знаем, какому больному, – для себя просишь». Тогда надо было просить у других, так как больные умоляли дать им пить.
Вечером, когда все ложились, было страшно темно, трудно найти свободный промежуток, чтобы ступить ногой; к тому же первое время света никакого не было, а в темноте пройти было почти невозможно. Когда утром вставали, лестница наша была завалена навозом и вся залита.
Монашествующие и духовные ютились вместе. Спать в храме на полу мне пришлось только одну или две ночи. Затем меня позвали в контору, там был комендант из Великого Устюга – наше начальство. Он сказал: «Вы нам помогайте как врач (из моих документов это было видно), чтобы своей подписью засвидетельствовать смерть ссыльного, и тогда уже его будут хоронить. А размещайтесь в комнатке рядом с конторой – вот здесь».
Мне страшно было отлучиться, и сразу согласиться я не могла, хотя сознавала, что там обстановка для ночлега ужасная. Но здесь я боялась оставаться одна и поэтому ответила: «Если бы еще кто-нибудь со мною был, я согласилась бы». Они разрешили мне взять кого-нибудь из своих. Рассказала батюшкам. Они одобрили мой переход. Спросила, не хочет ли кто со мной. Одна из сестер, монахиня Алексия (из Брянского монастыря), захотела, и мы перешли.
Там, конечно, было несравненно лучше. От конторы была деревянной перегородкой отгорожена комнатка в одно окно. Нам дали двое нар, был столик, табуретка, а для освещения мы употребляли маленький пузыречек с керосином и зажигали фитилек.
Теперь я уже считала своей обязанностью обходить все группы этапа, а где замечала больного, старалась отделить его от здоровых. Таким образом, с позволения начальства получились отдельные палаты для различного рода больных. Пока были большей частью дизентерийные. Главное, больные просили пить. Теперь мне помогала матушка Алексия. Она приносила и кипятила воду, а я разносила по своим больным. И пока кое-что было из лекарств, раздавала им. У каждого были свои нужды, и так как им не к кому было обратиться, то они говорили мне. И вот пойдешь что-нибудь отнести, а по пути встретятся больные с бесконечными просьбами: приходится задерживаться, и когда еще дойдешь до места!
Утром в контору приезжал комендант из Великого Устюга. Я где-нибудь у больных, а он, как войдет, сейчас же кричит мою фамилию. Надо было подать ему записку: сколько умерло, сколько заболело. К тому же я стала просить чем-нибудь помочь мне – привезти сахару, белого хлеба, молока, чтобы дать больным. Черный хлеб нам давали.
Комендант был ничего, видно, добрый человек, хотя по необходимости он резко говорил. Но на мои усердные просьбы он смилуется и скажет: «Ну, я вам пришлю сахару, белого хлеба и молока, только прямо в вашу комнату».
И это было правильно, так как если я сразу не выйду к подводе с продуктами, то старшие (начальство наше) встретят подводу и отольют себе от этого малого количества молока, которое предназначалось больным. Поэтому, завидя подводу, мы с матерью Алексией шли скорее ее встречать.
Иногда комендант скажет, как бы проверяя нас: «Уж очень вы заботитесь о ссыльных!»
«Ну как же иначе, когда я сама такая!»
Эта пища для такой массы больных была кап лей в море. Но и то слава Богу! Хоть по кусочку сахару дашь всем больным и некоторым белого хлеба по кусочку и по полстакана молока.
Дизентерия была ужасная. При голодном желудке человек не переносил болезни. В день умирало несколько человек. А когда вскоре добавился тиф, то стало умирать десять-пятнадцать больных.
А каково при такой болезни быть в одном и том же белье! Стала я и об этом просить. И вот, уже под конец, склонились на мою просьбу и выдали белье. Мне выдали мыло, матушка Алексия наготовила воды и стала обмывать их, так что можно было надеть чистое белье.
Как благодарны были люди! Хотя они и умирали, но были утешены, что о них заботятся. Некоторые давали адрес и просили сообщить их родным, когда умрут.
Помню, один больной, интеллигентный, подозвал меня и спросил тихонько: «Что, если бы я выпил литр водки, умер бы я?» Он очень страдал, ему хотелось умереть.
Я стала уговаривать его: «Вам уже не много осталось жить, умоляю вас, употребите эти несколько оставшихся часов на подготовку к вечности. Вам осталось немного потерпеть, а там вечность…»
В конце концов, он пообещал терпеть, сколько ему Господь назначил, и дал мне конверт с адресом своей сестры, чтобы я, когда он скончается, вложила туда извещение о его смерти. Я так и сделала. В тот же день, кажется, он скончался, и я отправила письмо с кратким извещением о смерти. Через несколько дней я получила ответ от нее с просьбой подробно описать последние дни жизни брата. Конечно, я написала что знала.
До поздней ночи приходилось спешно обходить все помещения, где могли оказаться больные. Их надо было отделять, хоть сколько-нибудь оберегая других от заражения. Когда прибудут новые ссыльные и я замечу их, то спешу к ним, чтобы поместить в более или менее безопасное место.
На минутку присела я на скамейку, где сидели наши батюшки, и они сказали мне, что сейчас принесли в мертвецкую (каменный обширный погреб) нашего дьякона, который когда-то был с нами в сарае.
Под вечер запрягали лошадь и накладывали покойников на одну телегу – человек по пятнадцать и более. Если я могла улучить время, то шла провожать их на кладбище, чтобы хоть там помянуть их. Везли их два человека, большей частью из шпаны. Им отдавали за погребение одежду умерших.
Сначала я делала это сама, когда могла, а потом уполномоченный в один из своих приездов к нам сказал мне, чтобы кто-нибудь провожал покойников до могилы, пока не зароют, а то на могильщиков полагаться нельзя, и чтобы народ окрестный не смущать небрежным погребением.
Некоторые из ссыльных иногда пробирались в церковь, которая находилась верстах в трех отсюда, на самом берегу, напротив Великого Устюга. Тогда я передавала записочки о упокоении умерших. Но, к сожалению, не всех записывала: уж очень много их было. Прости меня, Господи! И как я жалею, что не сберегла списки умерших, чтобы потом на свободе поминать их.
В наш этап был помещен и петербургский профессор из Космической Академии – А. П. Машков. Мы с ним познакомились. И теперь он предложил мне помогать. Я очень обрадовалась, так как больных – масса, и при всем желании одна я не в силах что-нибудь сделать для облегчения страданий самых тяжелых из них. А с его помощью я могла хотя бы впрыскивать им камфору. Все больные лежали на полу. Он, как более молодой, мог, стоя на коленях, делать впрыскивания, а я ему готовила шприцы и иглы. Так у нас проходили целые ночи.
Часто за какие-нибудь провинности шпану засаживали в холодный погреб, рядом с мертвецами. И вот пробегаешь мимо их решетки, а эти несчастные, полураздетые (несмотря на холод и сырость), протягивают руки и умоляют дать им хлеба или еще о чем-нибудь просят.
К ним иногда сажают и обыкновенных ссыльных. Например, сидел недолго один священник. Его надо было удалить от более состоятельного протоиерея, чтобы «освободить» последнего от часов, хорошей одежды и денег. Вскоре протоиерей скончался, и священника выпустили.
Вместе с православным духовенством там было два католических ксендза. Я о них старалась заботиться, как о своих. Все были дружелюбно настроены друг ко другу.
Стали говорить, что скоро наш этап отправят дальше. Приехала комиссия, состоящая из врача-женщины и фельдшера, и распорядилась, чтобы заболевших не отправляли по этапу, а оставили здесь. И еще: чтобы у отъезжающих волосы на голове были острижены. Для этого насилия не применяли, а распустили слух, что ссыльных везут домой и для отправки надо быть остриженными. Наши оптинские батюшки не пошли на это и не остриглись.
Всем ставили термометры. В этом гнезде заразы трудно было остаться незараженным кому-либо, кроме тех, кто раньше перенес сыпной тиф.
У батюшки Феодота оказалась температура выше нормальной, видно было, что он уже заболевает, но он просил скрыть, что у него повышается температура.
Приложение 1

Записки монахини Михаилы о матушке Амвросии

К сожалению, матушке Амвросии не удалось окончить свои записки. Во время войны ее здоровье сильно пошатнулось. Трудно было сосредоточить внимание на записях.
Путь ее становился все теснее, условия жизни все тяжелее. Уступая нашим просьбам, она старалась закончить свои воспоминания, но написала всего лишь одну небольшую тетрадочку – и эта тетрадь была последней.
Записки эти были написаны в 1934–1941 годах. Составлены они по отдельным (чаще кратким) записям и заметкам, которые она вела в течение многих лет. Просматривая их, она легко восстановила в памяти все события, встречи, подробности и свои переживания и мысли.
Каждому читателю «Записок», заканчивая чтение, было грустно расставаться с матушкой Амвросией и покидать ее – одинокую, старенькую и измученную тяжелыми условиями ссылки на Севере. Всем хотелось узнать о ее возвращении в Москву и о конце ее жизни.
По настоянию многих читателей «Записок» я решилась собрать некоторые недостающие сведения и попыталась дополнительно описать последние тяжелые годы ее светлой жизни.
В 1931 году матушка Амвросия находилась в Великом Устюге. Туда же приехала группа священников, высланных из московской тюрьмы. Приезжая в Великий Устюг, ссыльные сначала попадали в тюрьмы, организованные в разоренных храмах на берегу реки Сухоны. Начальство разрешило матушке оказывать помощь больным ссыльным. И она не только лечила, но, не щадя сил, помогала всем, кому только могла, – и телесно, и духовно.
Многим страдальцам она облегчала последние часы, даже минуты жизни. Сколько больных, брошенных и умирающих с отчаянием в душе, получали от нее духовную поддержку и утешение! Некоторые из них, успокоенные и просветленные ее верой, скончались у нее на руках! Она даже успевала напомнить о «подготовке к вечности», как она выражалась, подсказывать слова молитвы и направить мысли к Богу.
В Великом Устюге матушка посещала древние храмы. Знавшие ее ссыльные видели ее погруженной в умиленную молитву. Они обратили внимание на то, что выражение ее лица всегда было исполнено мира, смирения и преданности Богу. Прибавлю к этому, что лицо ее всегда было озарено любовностью, отражавшей ту любовь к людям, которая постоянно горела в ее сердце. Ссыльные запомнили ее тихую согбенную фигуру, странствующую с палочкой по лесам и далеким полям навестить сосланных священников или больных. Встретив тяжелого больного, она потом часто (иногда ежедневно), невзирая на расстояния и преследования со стороны начальства, навещала его, носила лекарства и делилась чем могла; и все это – не щадя своих старческих сил. Встретив ее однажды, многие ссыльные запоминали матушку навсегда; все знавшие ее относились к ней с любовью и глубоким уважением.
Приблизительно весной 1932 года она была выслана в Кичменгский городок, расположенный на берегу реки Юг. Здесь она была приглашена работать в больницу, но вскоре ей пришлось отказаться от этой работы, так как она была не в силах преодолевать далекий путь в жаркие, солнечные дни. Но у матушки Амвросии были с собой лекарства, перевязочный материал и даже инструменты, которые она (несмотря на затруднения с багажом) возила с собой во время всех своих скитаний. Она смогла лечить и ссыльных, и местных жителей; старалась никому не отказывать и помочь всем обращавшимся к ней.
В Кичменгском городке она пробыла около года и в 1933 году вместе со священниками была выслана в окрестности города Сыктывкар. В Кичменгском городке, по приказу начальства, были вызваны с вещами ссыльные священники (для высылки в Сыктывкар). Когда они толпились кучкой на дворе со смущенными лицами, мать Амвросия стояла посреди них спокойная, с умиленным лицом, во всем видя волю Божию. Ее убеждали просить разрешения остаться, так как по возрасту она имела на это право, но матушка ласково отклоняла эти разговоры, со смирением уверяя, что пострадать вместе со священниками – это милость Божия.
В Сыктывкаре ей пришлось вынести суровую жизнь, исполненную лишений и скорбей. Здесь они жили среди зырян, в окружении враждебных и грубых людей; мальчишки иногда швыряли в ссыльных камнями. Нашлись даже такие злобные хулиганы, которые ухитрились однажды выбросить матушку из окна со второго этажа, но милостивый Господь сохранил ее жизнь: она осталась невредима, хотя и ушиблась.
Осенью 1933 года мать Амвросию переправили обратно в Великий Устюг, где по возрасту и по состоянию здоровья она получила освобождение. Вскоре (в 1935 году) она вернулась в Москву. Но и здесь ей не дано было отдох нуть от дальних странствий. После неудачных попыток устроиться жить в Москве она поселилась вместе с племянницей Евгенией и ее мужем в Сергиевом Посаде. Ей исполнилось шестьдесят пять лет.
К великому ее огорчению, в эти годы Троице-Сергиева Лавра была закрыта. Матушка Амвросия была лишена радости посещать Троицкий собор и поклоняться мощам преподобного Сергия; она бывала в храме святого Илии Пророка за оградой Лавры. Здесь, в Сергиевом Посаде, как и везде, она старалась помочь всем, с кем сталкивала ее жизнь. Кому лечением, кому молитвой или словами утешения. Многие верующие обращались к ней с просьбой поминать их близких и даже вручали ей списки псалмов, избранных для поминовения.
Правильно говорится в акафисте Божией Матери: «Странники мы на земле и не имеем пребывающего града». Но большинство людей стремится соорудить себе оседлое жилище и «пустить корни»; вольно обрастают они имуществом, а всякое имение сопряжено с лишними житейскими попечениями, чем тяжко нарушается их свобода.
Семья матушки Амвросии жила освобожденной от лишней собственности и власти вещей; с удивительной легкостью они бросали налаженную жизнь, насиженное жилище, переезжали и – в зависимости от новых обстоятельств – перестраивали свою жизнь и заново вили гнездо.
Эта семейная черта передалась и матери Амвросии: она никогда не зависела от места и была свободна от власти вещей и груза имущества; она умела жить налегке.
Но здесь, в Сергиевом Посаде, после тяжелой ссылки и стольких странствий, утружденной долгим жизненным подвигом, – ей был необходим покой. Душа ее жаждала тишины, сосредоточенности в молитве и «подготовки к вечности», как она любила выражаться. Матушка стремилась прожить последние годы жизни в мире душевном, вблизи от Лавры преподобного Сергия, как бы под его покровом, и тут умереть и найти вечный покой. Но ей суждено было иначе окончить жизнь. До конца дней вел ее Господь путем скорбей.
В Посаде ей не удалось найти себе тихий уголок. Много пришлось претерпеть скитаний, неустройства и скорбей. Нигде не было ей покоя, нигде не было места, где главу преклонить. Перед войной, в 1941 году, матушка переехала в сырой, холодный домик. За 1941–1944 годы она ослабела и сильно изменилась в тяжелых условиях военного времени. Ее очень мучила экзема на нервной почве. Пришлось терпеть притеснения от сожительницы, которая грубо упрекала ее за слабость и старость и сильно ей досаждала. Все это очень огорчало матушку, лишая ее душевного мира, который она так высоко ценила, а также тишины, необходимой для духовного делания.
В это время она жила в великой скудости, подвизалась в молитве, но – по мере ослабших сил – все же старалась оказывать лечебную помощь больным и делиться с убогими, нищими и сиротами крохами, которые она имела. Господь не оставлял ее Своею милостью и через людей посылал пропитание. Соседи, жившие через дом от нее, во втором этаже, из милости варили ей крохи в своей печке. Матушка во всякую погоду – холод, дождь и гололедицу – только сама должна была ходить и своевременно получать из печи свой горшочек с полусырыми бобами или двумя картофелинами. Она ходила с великим смирением и благодарила Бога.
В 1943 году ее уже многие знали, и обращались больные, которых она без отказа врачевала как «врач безмездный». Приходили и за советом, и за духовной помощью. Влияние ее на людей всегда было целительно и благотворно.
В это время к ней ездили друзья и знакомые из Москвы и привозили небольшую помощь. Она всегда очень радовалась и утешалась нашим приездом. Лицо ее сияло. Она любила сначала помолиться, затем мы общались, беседовали: она всем интересовалась, давала спасительные и нужные советы. Иногда мы вместе с ней читали что-нибудь из «Добротолюбия» или выдержки из духовной литературы. На тумбочке, сделанной из старых дорожных корзинок, ездивших с ней в ссылку, лежало несколько книг: сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова), «Моя жизнь во Христе» отца Иоанна Кронштадтского. В одном из писем того времени она писала мне во время болезни: «Днем лежу, и около меня книга отца Иоанна Кронштадтского. Прежде я любила другие книги читать, а в последнее время стала чувствовать, что его книги более всего подходят к душе. Все время чувствуешь память Божию неотступно, все как бы сплошная молитва…»
Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова) она высоко ценила и любила черпать у него духовную помощь. Матушка советовала произносить краткие молитвы, указанные епископом Игнатием при скорбях, оскорблениях, поношениях и кознях человеческих:
«Слава Тебе, Боже, за посланную скорбь». «Достойное по делам моим приемлю».
«Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». «Да будет во всем святая воля Твоя».
Владыка Игнатий уверял, что если прочесть десять раз эти молитвы, то скорбь утихает.
Раз матушка показала мне свою драгоценную тетрадочку. В ней она собрала все, что успела и смогла переписать о молитве, предвидя ссылку, перед отъездом на Север. Этот сборничек составляют преимущественно выдержки из произведений владыки Игнатия и некоторые изречения и наставления святых отцов. Эту тетрадочку она возила с собой в ссылку; и везде, где приходилось долго и томительно ждать решения своей участи или в дороге при пересадках, – она утешалась чтением.
Среди всеобщей суеты и шумных разговоров матушка Амвросия торопилась собраться с мыслями, вынимала свою тетрадочку и углублялась в чтение. Чтение это всегда давало ей духовное подкрепление, и она получала утешение.
В самом начале сборничка были ею записаны замечательные изречения владыки Игнатия:
«О подготовке к молитве.
1. Отвержение памятозлобия и осуждения ближних.
2. Отвержение попечений силою веры в Бога и силою покорности и преданности воле Божией».
Много времени матушка уделяла молитве и поминовению живых и умерших. Она придавала большое значение поминанию и относилась к нему с обычной для нее добросовестностью.
Весной 1943 года она писала мне: «Сейчас лежу, температура высокая, вечером 39 градусов, но чувствую себя хорошо. По ночам не спится, но это не какая-нибудь мучительная бессонница, а, наоборот, радостное собеседование с моими близкими, живыми друзьями и с покойниками. Только и успеешь всех вспомнить за ночь».
Во время нашего совместного чтения или бесед в мыслях матушки иногда проносилось смиренное сознание своей греховности, и она шептала с истинным сокрушением, крестясь: «Прости, Господи! Боже, прости меня!» Каждый час, крестясь с благоговением, она читала «Богородицу». Иногда мы читали с ней акафист преподобному Сергию, и тогда она, невзирая на свой возраст и слабость, становилась на колени и усиленно молилась в своем темном уголке, опираясь на жесткое ложе.
У матушки было собрано несколько молитв, которые не включены в обычные молитвословы и правильники. Некоторые из них она часто читала.
На стене висело несколько икон: икона Спаса Нерукотворного, которую она привезла из ссылки и очень ею дорожила; простреленная небольшая иконка Божией Матери, охранявшая матушки Амвросию и спасшая ее во время войны; чудотворная икона святителя Николая, которая была получена матушкой в 1934 году в дар от схимонахини Августы (Защук).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.