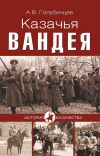Текст книги "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 36 страниц)
Приехал начальник, и они вместе с комендантом объявили, что сейчас всех будут обыскивать. Меня позвали и сказали, что если я поручусь за своих и за себя, что у нас нет никаких медицинских бумаг от докторов, то нам поверят на слово и не будут обыскивать. Я пошла к батюшкам и спросила бумаги, которые у них были. Они мне отдали, и я передала. И нас больше не трогали. Других осматривали тщательно, много было хлопот из-за этого. Одна пожилая интеллигентная женщина, раздеваясь, куда-то сунула свой образ драгоценный и не нашла: так плакала!
Скоро должен был окончиться наш карантин (кажется, десять дней или четырнадцать). Сестра принесла с наших квартир письма. И мне было письмо от батюшки Никона.
Это было последнее письмо, которое я от него получила:
«Христос Воскресе! Дорогая дочь моя, мать Амвросия! Письмо твое от 14 апреля получил только 28 апреля. Сердечно благодарю тебя за любовь и заботу. Спаси, Господи. Конечно, и я рад был бы видеть тебя. Но нельзя забывать, что мы своей воли не имеем; и может случиться так, что и в Пинеге будешь, но не будешь иметь возможности видеть меня, ибо и здесь бывают частые перемещения и назначения в разные места. Поэтому, думается мне, не нужно ставить тебе свое положение в зависимость от моего.
Не имея никаких примеров в отношении подачи заявления, никаких справок, совершенно не зная, чем мотивировать свою просьбу (Каргополь не Крым), да и почти не надеясь на какие-нибудь благие результаты, я пока решаюсь оставаться на месте, предавшись воле Божией. Вызывать тебя в Пинегу не решаюсь, сознавая, какие трудности тебя могут встретить. С другой стороны, как будто не решаюсь и отклонить твое желание. Нет у меня определенной решимости в этом вопросе. Господи, помоги и вразуми! Надо молиться, да укажет Господь путь.
О себе могу сообщить, что болезнь, как мне кажется, идет вперед, ибо температура не падает ниже 38–39 градусов. Это наводит на мысль о скоротечности болезни. А так я себя чувствую как будто все в одном положении. Легкая болезненность есть во всем теле и груди. Температура беспокоит меня и внушает мысль о близости смерти. О выздоровлении теперь почти и не думаю, считая это несбыточной мечтой. Предаюсь воле Божией.
Сердечно благодарю отцов за любовь, и внимание, и заботу обо мне. Спаси их, Господи!
Призываю на тебя мир и Божие благословение. Да хранит тебя Господь под кровом Своея благости. Молюсь о тебе моею немощною молитвою, но все же молитвою любви о Господе.
Приходила мне мысль ехать тебе туда, куда поехали или поедут отцы, чтобы не быть совсем одной. Но опыт показывает, что разлучение неожиданно настигает. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие: в них же несть спасения. Блажен ему же Бог Иаковль помощник его, упование его на Господа Бога своего: единая надежда на Бога – вот твердое основание. Остальное все непрочно, и особенно в нашем положении. Совершенно не знаешь, где лучше, где хуже и что ожидает. Да будет воля Божия!
Преподобный Феодор Студит, сам бывший в ссылке, ликует и радуется за умирающих в ссылке. И мне приходила мысль, что мы, иноки, отрекшиеся от мира, и ныне, хотя и невольно, проводим мироотреченную жизнь. Так судил Господь. Наше дело – хранить себя в вере и блюсти себя от всякого греха, а все остальное вручить Богу. Не постыдится надеющийся на Господа.
У нас хотя начали ходить пароходы, но редко, да еще, говорят, скоро будет сплав леса по реке, и тогда, должно быть, прекратится пароходное движение. Все это создает большие затруднения в почтовом и вообще во всяком сообщении. Погода холодная, ветреная, пасмурная. Получила ли ты мое письмо, которое, хотя и заказным, я послал, но в самую распутицу?
Прости. Желаю тебе всякого благополучия и помощи Божией. Прошу твоих святых молитв и у отцов.
Грешный иеромонах Никон. 30 апреля / 13 мая».
Какой нравственной поддержкой было мне это письмо моего дорогого духовного отца! Как буквально исполнились его слова! Никак нельзя надеяться на человеческую помощь, только Господь Своею сильною рукою поддерживал и помогал мне в тяжелые минуты, а этих тяжелых минут было так много!
* * *
Карантин кончился, и нас потребовали на баржу. Помню, солнце склонялось к закату, когда нам объявили о посадке на баржу с крышей. Куда и как мы ехали, я совершенно не представляла. Можно было за деньги взять носильщика с двухколесной тележкой: так мы перевезли вещи и поместились на палубе баржи. Только когда наступил день, стало видно, что мы плывем по реке Северная Двина.
Мы останавливались, к нам прибавляли еще людей. Вижу: на руках внесли, сняв с подводы, молоденькую девушку. Она была тяжело больна, еле дышала, но получила бумагу, что надо явиться, и ее из деревни перевезли и положили на баржу. У нас было тесно до невозможности вытянуть ноги, но ей, как больной, нашлось место, и ее уложили. Я подошла к ней, и мы о чем-то поговорили. Прошло немного времени, и она скончалась. Покойницу вынесли при первой остановке на берег. Умер и один пожилой человек: его вынесли на следующей остановке.
Наконец, мы прибыли к месту своего назначения, но здесь ссыльных было слишком много: кого-то оставили, остальных послали дальше. Наконец, высадились. Был еще день: яркое солнце, жарко. Остановились около крутого берега, но все же здесь была площадка, куда выгрузили вещи. Нам сказали, чтобы мы с ручными вещами пошли вверх, а за вещами приедет трактор и привезет окружным путем. Взвалила я на плечи свой мешок с пристроченными петлями. Было трудно идти по крутой тропинке на гору, где, очевидно, располагался колхоз.
Едва-едва поднялась, отстала от своих. Здесь лежало бревно, и я села отдохнуть. Пожилой крестьянин подсел ко мне и стал расспрашивать, откуда мы. Прихрамывая, проходит какой-то человек с портфелем и, обращаясь к крестьянину, резко говорит: «Вот ты достукаешься и сам попадешь туда же». Можно было понять, что им запрещено говорить со ссыльными. Я сразу встала и пошла по дороге.
Нас поместили за деревней в очень большом сарае. Бо льшая часть пришедших заняла места у стен, по краям, где крыша была плотнее.
А мне пришлось занять место посредине. Когда привезли мои вещи, я поместилась на сундуке, этим было хорошо, только крыша сверху совсем плохая, и во время дождя защиты не было. Недалеко от сарая было озерцо или, скорее, болото. Воду из него пить нельзя. Зачерпнешь, и попадается масса головастиков – молодых лягушек.
Среди ссыльных было много магометан. Они были одеты в свою длинную национальную одежду, строго исполняли свои религиозные обряды, молились и ходили омываться в это озеро.
А за пищевой водой мы должны были ходить мимо этого озерца по крутой тропинке, довольно далеко, вниз в овраг: там был источник ключевой воды.
На окраине деревни был колодец. Мы иногда ходили туда со своими посудинами и просили у крестьян, берущих воду своими ведрами, и в наши посуды наливать. Большинство исполняло нашу просьбу. Но вот одна старая женщина из ближайшей хаты выскакивала иногда и, увидев, что наливают в наши посуды, бранилась и, выхватив их, выливала на землю.
Скоро произошло событие, которое потрясло всех. Внук этой злой женщины, мальчик лет трех-четырех, схватил девочку такого же возраста за ножки, когда она, став на доску, заглядывала в колодец, и толкнул ее туда. Она утонула. Вытащили уже мертвой. Колодец забили досками. Что-то грозное, промыслительное виделось в этом…
Как ни строг был приказ не иметь сношения со ссыльными, но мало-помалу все же к нам приходили, иногда за вещи давали какие-нибудь продукты питания. Однажды, лежа на сундуке, я заинтересовалась. Около меня поместилась группа сестер. Среди них была одна, которая только что прибыла из Соловков, рассказывала о тамошней жизни и показывала стихотворение, написанное в день ее Ангела (26 января, она была Мария) ее духовником, епископом Иннокентием. Он был еще молодой; мать его, чтобы быть поближе к сыну, поселилась в Архангельске.
Вот это стихотворение, которое пришлось мне так по духу:
Покорно предайся Божественной воле
Воззвавшего к жизни всех смертных Творца,
К Нему обращайся ты в тягостной доле,
И в Нем ты увидишь благого Отца.
Не сетуй: Кто прежде времен существует,
Кто правит с премудростью тьмами планет,
Кто вихрю и морю предел указует,
Тот путь безопасный и нам обретет.
На Божию благость свое упованье
Возложим с спокойной душою во всем,
Тогда все и тайные сердца желанья
Господь увенчает отрадным концом.
Напрасно к заботе, борьбе непосильной
И к делу стремишься и тратишь покой —
Молись, и получишь ты силу обильно,
Все блага дает Он молитве одной.
С любовью предвидит Премудрая воля,
В чем благо для сердца, что вред принесет,
И каждому послана Господом доля,
Но верных Своих Он к блаженству ведет.
Ни в чем нет преграды Его начертаньям,
Блаженство творений – конец Его дел.
Поверь же Господним святым обещаньям,
И вечная радость – твой вечный удел.
Надейся! Он видит души сокрушенной
Всю скорбь и страданья в жестокой борьбе;
Но верь – и увидишь тогда несомненно,
Что все Он устроит ко благу тебе.
Как радостно Богом Христом быть спасенной!
Ты примешь от Бога победный венец
И внидешь с хваленьем души искупленной
В мир вечный, готовый для верных сердец.
26 января 1929 г.
Епископ Иннокентий
И еще маленькое стихотворение, такое подходящее к нашему настроению:
Как темна и терниста дорога,
Сколько горя и страха в пути.
У Тебя милосердия много –
Поддержи и спаси!
О Спаситель! Я много грешила,
Но вернулась опять же к Тебе.
Покаянья отверзи ми двери,
Жизнодавче Христе!
Эта монахиня Мария, видно, с большим трудом переносила изгнание. Вскоре к ней приехал брат, и им удалось как-то незаметно уехать. Я думаю, владыка, ее духовный отец, не одобрил бы, что она самовольно сошла со своего креста…
Принесли топоры, и нам было объявлено, чтобы мы все шли в лес на работу. Батюшка Феодот высоко подвязал свой подрясник и с топором отправился в лес, также и батюшка Макарий. Здесь была игумения Антония, на вид очень слабая: она тоже пошла с несколькими сестрами.
Вообще, пошла большая часть, остались только несколько слепых, люди с отмороженными руками или ногами и совсем больные.
Многие совершенно голодные, бледные, распухшие, едва державшиеся на ногах. Помню, один из таких голодающих подошел со своей алюминиевой чашкой к батюшке Макарию и сказал: «Насыпь мне сухариков, я их съем. А ты потом возьми у меня эту миску, я ведь умираю, она мне будет не нужна».
Все собираются, кто может, а я думаю: ведь я, может быть, даже не буду в силах дойти с топором до места: туда надо идти по страшно крутым тропинкам, которые видны с этой стороны оврага. Я отказалась идти и легла. Человек с ружьем ударил меня и сказал: «Если не пойдешь, тебя запрут в погреб».
К вечеру возвратились наши рабочие, усталые до крайности; матушка игумения повредила себе руку и должна была временно остаться. Они там топором или еще чем-то очищали кору с бревен. Для этого нужна большая ловкость и сила.
На другой день праздник Святой Троицы. К нам пришел комендант и сказал насмешливым тоном: «Назначаем вас на дачу». Было еще очень рано, часов пять-шесть. Еще не успели мы поесть, как подъехали к нашему сараю двое простых саней-розвальней: в каждых санях по две лошади, запряженных гуськом.
Уложили наши вещи на сани, а мы пошли пешком. Удивительно было: трава, день теплый – и вдруг сани. Но когда дошли до дремучего леса, где была прорублена только одна дорога, то вместо проезда мы увидели жидкую грязь, среди которой торчали пни срубленных деревьев. По такой дороге только и можно пробираться на санях, и то с трудом. Недаром же запряжено было по две лошади в сани. Саням иногда приходилось перекидываться через пни, и тогда часть вещей, несмотря на то что они были увязаны, падала в грязь. Пешеходам можно было идти только по бокам просеки, но и здесь было очень трудно пробираться. Срубленные деревья и сучья преграждали путь. Приходилось перелезать через деревья, а почва была болотистая, ноги вязли, после каждого шага приходилось отдыхать, сидеть на сучьях.
Я сказала тому, который отправлял нас, что я не поспею за ними. «Ничего, здесь одна дорога, не заблудишься». На этом я и успокоилась.
Скоро я осталась одна. Чем дальше мы углублялись в лес, тем становилось мрачнее, солнечные лучи сюда не проникали. Не было даже певчих птиц. Шли несколько часов, все без изменения. Один мрак. Наконец, посветлело, деревья поредели: лужайка, тепло, солнышко.
А я ведь с утра не ела, как-то буду дальше, и со мной ничего нет… Вдруг навстречу идет крестьянин с кожаной сумкой через плечо. Поклонился и говорит: «Я таких люблю, посидим!» Здесь было бревно. Мы сели. Он достал пшеничную лепешку и дал мне.
Господи! Откуда же это могло быть при таком голоде? Я была поражена и от умиления стала плакать. Не помню, о чем мы говорили. Потом я съела лепешку и подкрепилась. Разве я могла бы дойти голодной?
У меня было такое чувство, что это Ангел Господень послан мне для спасения. Как я должна благодарить Господа!
Начало темнеть. Мне показалось, что в стороне стоит медведь с поднятыми лапами. Но от усталости и всего пережитого страха в душе не было: я шла как на смерть. Пошел дождь, я даже расстегнулась, чтобы мне освежиться, а то усталость была невыносимая.
Лес становится реже. На дороге, в грязи, вижу, валяются некоторые из моих вещей. Вскоре увидала едущего обратно извозчика. В кармане у меня было пять рублей, и я стала просить его захватить обратно потерянные вещи: я заплачу. В это же время навстречу шел один священник, у которого тоже были неподалеку потеряны вещи. Он нашел их и тоже попросил извозчика их довезти. Извозчик согласился, и я в изнеможении села на сани, а священник шел рядом.
Скоро показались огни. По топкому болоту мы доехали кое-как через бревна до крыльца. Постройка была новая, но не было ни окон, ни дверей. Посередине вместо печки была груда кирпичей; в ней и развели огонь. Вокруг грелся и сушился народ. Было уже половина второго ночи. Всего нас пришло сорок восемь человек. Женщин было немного, всего шестеро.
Начальства у нас не было, за старшего был поставлен один хромой еврей, какой-то странный, видимо, очень жестокий: он грозился, что если будет голодать, то для него ничего не стоит убить человека. Очень подозрительно всматривался в мои вещи, выражал удивление, что они тяжелые. Мне он был так страшен.
Некоторые хотели пить, подставляли жестянки под крышу. Воду пить было невозможно, она пахла скипидаром.
Мы, женщины, выбрали себе небольшую комнатку и стали размещаться. Около нас собрались несчастные и, находясь в отчаянии, говорили: «Утешайте нас, мы больше не можем терпеть!»
Одна из монашек взяла в руки свое Святое Евангелие и хотела прочесть, но куда-то задевала очки. Я предложила прочесть и спросила, что читать. «Да что откроется», – сказала сестра.
Святое Евангелие открылось на месте Послания к евреям (11, 33): «Иже верою победита царствия, содеяша правду, получиша обетования, заградиша уста львов…» И я прочла до конца главы.
Не могу выразить, как на всех подействовало это!.. Прочла еще из Святого Евангелия, не помню что, но тоже было подходящее к нашему положению.
Только находясь в совершенно отчаянном положении, мы могли так сильно почувствовать это утешение. Словами я не могу выразить. Надо пережить все это, чтобы понять…
Среди этой ужасной обстановки Господь послал нам мир душевный, неизъяснимый словами! Мы улеглись, накрывшись полусырыми вещами, но успокоенные сердцем. Слава Богу! Не ожидая ничего, кроме смерти, мы все были спокойны. Когда наутро мы встали, две слабые монашки пошли разыскивать воду. Около наших бараков была непролазная грязь, проходили только по бревнам, а в промежутках топь и человеческий навоз. Здесь, видно, раньше жили ссыльные, и они всё загрязнили.
Среди нашего народа оказалось очень много несчастных, у которых были отморожены и руки и ноги, частью уже омертвевшие и издававшие ужасный запах. Я развела марганец и сделала им перевязку.
В это время с тракторной базы приехал человек, который привез различные инструменты. Он приехал на тракторе, так как до базы дорога была проложена: были настланы бревна. А по обеим сторонам топь.
Человек этот объявил, чтобы мы все получали инструмент и шли чистить лес, и обещал привезти хлеб. Я сказала ему, чтобы он посмотрел, кого он зовет работать: то безрукие, то безногие или слепые. Восемь человек были слепые или совсем больные и слабые. Он увидел: кому здесь работать? Я его просила, чтобы он дал знать кому следует и чтобы нас увезли отсюда, а то все перемрут. И он уехал, забрав инструменты.
Прошло уже часа два или три, как наши сестры пошли за водой для чая, а их до сих пор все не было. Наконец, возвратились. Одна из них – спустым ведром, от усталости не могла вымолвить ни слова: так сразу и легла на полу. А другая все-таки притащила неполное ведро и рассказала, что идти невозможно. Везде валежник и топь. Нога проскочит глубоко, и никак ее не вытащишь. Едва нашли хорошую ключевую воду. Первая сестра несколько раз падала и пролила ее всю. Стали кипятить воду для чая.
Невдалеке от нас лежал грудами срубленный лес. Одна старушка, лет шестидесяти, интеллигентная, из соседнего этапа, пришла на работу. Не знаю, как уж она добралась и что могла сделать? Башмаки у нее были совершенно разорваны, но настроение – бодрое: она надеялась здесь что-нибудь сделать.
* * *
Еще было светло, когда с базы приехал фельдшер: видно, на основании слов того человека.
Я ему показала больных и сделала список с диагнозами болезней. Он довольно дружелюбно отнесся к моим словам и, между прочим, спросил, смотря на корзинку: «Что это у вас?» Я сказала ему, что там перевязочный материал и хирургические инструменты. Он очень заинтересовался. Я стала ему показывать (инструменты были очень хорошие, большей частью английские, считавшиеся лучшими). Он любовался ими.
«Я отдала бы все, какие вам понравятся, только бы вы выручили нас из этого места», – сказала я ему. Он пообещал, что завтра же пришлет подводы и мы отсюда уедем. Я охотно отдала ему все, что он захотел. Он быстро уехал. Я вытащила свое последнее пшено, и мы стали его варить, чтобы напоследок подкрепиться.
Фельдшер выполнил свое обещание. На другой день рано утром, только успели мы встать, подъехали сани за вещами. Подождали они нас, пока мы попьем чай; потом мы упаковали вещи и отправились тем же путем. Но почему-то доехали скоро, хотя солнце, конечно, уже зашло. Наступил длинный зимний вечер, когда мы подъехали к нашему сараю, оставленному недавно.
Печально было смотреть на этот полураскрытый сарай и его обитателей. Там было только двое, один из них – дьякон, совершенно больной, почти умирающий (мы его и оставили таким). Еще перед уходом общими силами мы втащили в сарай негодные розвальни, валявшиеся неподалеку, и на них положили больного. А еще был оставлен больной дизентерией. Теперь он окончательно ослабел. Одежда с него была сброшена как загрязненная, и он лежал голый, прикрытый только соломой. Больше в этом сарае никого не было. Наши батюшки и остальные ссыльные разбрелись по деревне, кто где мог достать себе место.
Больной дизентерией еще мог говорить и сказал мне, что ему хочется сахару. У меня был кусочек в кармане, и я ему дала. Он взял его в рот, и, пока я говорила с другими больными, он уже скончался.
А другой больной, видя, что за мной при шли (батюшки прислали ссыльных, чтобы перенести вещи), стал умолять меня, чтобы я на другой день навестила его. Я, конечно, обещала и приходила к нему несколько дней.
Батюшка отец Макарий был необыкновенно добрый. Он старался поделиться с каждым, и теперь он позаботился прислать за мной. Не помню, как это он мог узнать.
Изба хотя была большая и высокая, но топилась очень жарко, а мне еще и место оставили около печки. На другой день я попросилась у хозяев поместиться на чердаке, где они обыкновенно сваливают на зиму сено, и для этого у них там были сделаны ворота. От ворот покатый пол до земли. По нему и втаскивают сено наверх. Я так была довольна своим новым помещением! Окон там не было, но я приоткрывала ворота и могла читать.
Хозяева были хорошие люди, не притесняли нас. Батюшки угощали меня своим кушаньем. А я готовила суп в жестянке от консервов и носила дьякону в сарай: версты полторы от нашей деревни через поля, в двух или трех местах надо было перелезать через заборы.
Дьякон каждый раз со слезами радости встречал меня, лежа на санях. Он не знал, как только отблагодарить меня. У него были родные – жена и дети, но он не писал им, чтобы не портить им жизнь.
Все они служили. Дочь его была капитаном на каком-то речном пароходе, и он боялся им повредить. Сил у него не было, и он просил меня из его сумки вытащить то, что для него было самым дорогим. Это были карточки жены и детей. Он хотел отдать их мне, чтобы выразить свою благодарность. Но я сказала: пусть они будут у него.
Но не долго пришлось нам побыть с батюшками. Через несколько дней им велено было не уходить с той базы, где они работали, а на ночь помещаться в бараках.
И я осталась одна на чердаке. Все-таки мне было там хорошо. Полуоткрывала ворота и могла читать и что-нибудь шить. Навещала больного дьякона.
Прошло несколько дней такой спокойной жизни, и вдруг, когда я сидела и что-то шила, снизу с дороги раздался голос: «Вот ты где, сейчас же переселяйся в бараки». Это кричал комендант, который отправлял нас тогда на базу. Я промолчала.
Прошло два дня, и, проходя, пришлось мне встретиться с комендантом. Он закричал: «Ты опять здесь, немедленно отправляйся!» И вслед за тем прислал бумажку с направлением в такие-то бараки.
Я попросила хозяина запрячь лошадь и отвезти меня с самыми необходимыми вещами (один чемодан) в назначенные мне казармы. Хозяин знал их. Мы доехали до края обрыва, а дальше были земляные ступеньки к берегу Северной Двины, где и были расположены бараки. Он донес мой чемодан.
Здесь меня встретил тот хромой, которого я так боялась, и указал мне на нары для трех человек. По краям были мужчины, пожилые, грубого вида, кажется, пьяные. «Среднее место свободно, можешь занимать».
Я не пошла туда, села у порога на свой чемодан и стала смотреть кругом. Помещение большое, на пятьдесят человек, все мужчины, только одни нары по соседству занимали три женщины. Окнами казармы выходили на юг. Было очень душно, накурено, много мух.
Одна женщина сказала мне: «Если не хотите туда, я вам уступлю, лягу на этом краю вместо вас, а мужик подвинется». Мы так и сделали. Две женщины были простые, грубые работницы, а третья – еврейка, видно, со средствами (судя по хорошей одежде и вещам).
Недалеко от дверей казармы, на берегу, была устроена печь: длинная, из кирпича, внизу подбрасывали дрова (находили палочки на берегу).
Над печкой была проволока, на которую мы и вешали свои жестянки с крючками. Из жестянок пили чай и готовили в них что-нибудь. Какой-то мальчик поймал небольшую рыбку и предложил купить. Я взяла ее и задумалась, как с ней быть.
Один господин, бывший со мной рядом, научил меня, как ее очистить и сварить. Это оказался профессор из Петербурга (кажется, из Космической Академии). Потом я узнала, что он не пошел в казармы, а здесь же по склону горы (в нескольких саженях отсюда) занял с одним священником баню. Когда она топилась, то они выходили и вытаскивали свои вещи. С Соловков, отбыв там заключение, он прибыл сюда на свободную ссылку. Там, когда он болел сыпным тифом, за ним самоотверженно ухаживал его друг (по фамилии Сперанский). А теперь сам он – как обещал своему другу – взял на попечение его отца-священника, тоже отправленного на свободную ссылку, больного параличом: он едва передвигал ноги.
Когда не было дождя, я целый день была на воздухе: сидела где-нибудь с книжкой, или на речке мыла что-нибудь из белья, или у печки была. Иногда сидела у входа в баню со своими новыми знакомыми.
Профессор в разговоре часто касался восточных верований, употребляя выражения теософов, что меня даже огорчало. Потом он это заметил и часто извинялся, если опять по ошибке скажет.
Как завижу проходящий пароход, сейчас же иду по берегу: не увижу ли там знакомых или, скорее, они меня. Действительно, на одном из пароходов была мать София, отставшая от меня из-за болезни ноги. Она увидела меня и, хотя пароход остановился довольно далеко, старалась как-нибудь поговорить со мной. Но сторож не допустил, и она смогла только указать мне рукой то направление, куда они пойдут.
На другой день она пришла и стала приглашать меня к себе, так как в их бараках было много свободного места.
Не знаю, по какому случаю нас отправили туда. Мне было приятно опять соединиться со своими. Там были и два батюшки, с которыми мы только что расстались в деревне. Эти бараки были выстроены только для лета и находились далеко от берега. Бараки были в виде длинных коридоров: по одной стене – окна, а к другой прилегали наши спальные нары. Здесь мы и сидели, и спали. Нары были в два этажа. Мы помещались внизу.
Сюда же были переведены и профессор с больным батюшкой, только в другой барак. Батюшка отец Евгений рассказывал, что с ними по берегу шел один грузинский князь. Видя, что батюшке трудно перешагивать через препятствие, он шел впереди и отбрасывал с пути камни и прутья – все, что могло бы помешать больному идти.
Потом мы познакомились и с этим князем. Замечательно светлая личность: пожилой, с белыми седыми волосами и бородой, стройный, красивый, с военной выправкой. В нем был виден необыкновенный человек (фамилию его я забыла, по названию растение «агава» напоминает его фамилию). Вероятно, ему часто присылали посылки: он раза два давал мне консервы в жестянках. Когда он отсюда уезжал раньше нас, то написал мне письмо. В обращении он употребил выражение «дорогая сестра». Видно было, что он верующий.
Начальством нашим здесь назначен был уже другой человек – в военной форме, по внешности со светским лоском. У него была искусственная рука, но так хорошо сделана, что сразу нельзя заметить.
Когда нам потом пришлось переходить в другой барак, где не было нижнего места, он уступил мне свое – на столе.
Здесь было вообще лучше жить: были и свои, и еще хорошие люди. На ручей мы ходили и за водой, и умываться, и мыть белье и посуду. Лето было жаркое. Сюда же привезли из сарая и больного дьякона. Здесь ему многие помогали, так что он даже немного окреп.
Наступило время отправки дальше, и мы все пошли на берег реки, где нас ожидала баржа.
Ночью прибыли в Котлас. На пристани легли на свои вещи. Была еще ночь. Вдруг тревога: нам приказали сейчас же идти дальше версты за две-три в Макариху. Батюшки наши попарно пошли. Я и несколько наших женщин остались, хотя нас несколько раз и ударяли конвойные ружьем. Но так хотелось спать! И я ведь не вижу дороги: как я пойду, я не успею за ними!..
Позже оказалось, что ушедшие ночью не сразу нашли дорогу в темноте, странствовали по каким-то рвам и только к утру попали в барак, где все спали, и места им сразу найти было нельзя. Пока они присели на край нар, а как рассвело, пошли обратно за вещами. На базаре мы наняли извозчиков, которые и свезли нам вещи. Там всех нас поместили в один барак.
Бараки эти были более или менее приспособлены к холодному времени. Они состояли из крыши, которая с двух продольных сторон доходила до земли. Крыши были из досок, покрытых дерном. А с поперечных боков шли дощатые стены, в которые были вделаны ворота, с той и другой стороны. Над воротами продолговатые в ширину окна. Поэтому освещение здесь весьма скудное. Барак был на сто или двести человек. Нары в два яруса. Помещаться здесь было тесно: вещи поставить некуда и ног нельзя вытянуть.
Макариха – целый городок, масса бараков с номерами; легко заблудиться. Ссыльных – о коло восемнадцати тысяч. Зимой здесь были ссыльные из казачьих станиц. Часть их (очень небольшая) осталась и теперь: их отправляли постепенно.
Зимой здесь было трудно жить. Установили железные печи. Но это капля в море для такой громады. Дети большей частью перемерли. Памятником их пребывания осталось кладбище недалеко отсюда. Там масса могил, и на каждой по маленькому крестику, иногда с трогательной надписью. Видно: писали любящие родители над могилой своих детей.
* * *
Режим в нашей Макарихе был не очень строгий: хотя официально и не было разрешения на выход из нашего городка, но все же можно было, гуляя, проникнуть за границу городка. Наши не решались, но я уходила в церковь в городе.
Увидалась там со знакомым дьяконом Косьмой. Он подвел меня после службы к владыке-хирургу – преосвященному Луке, который тоже обитал в этих краях. Нестарый, на вид лет пятьдесят – пятьдесят пять, в темно-синем подряснике, с монашеским кожаным поясом, лицо приятное, благостное. Он благословил меня, и на мой вопрос (если мне предстанет необходимость работать по медицине, благословит ли он меня) с готовностью, с радостью сказал: «Благословляю, работайте с Господом. Вот я ведь тоже работаю».
Причаститься было нельзя: батюшка здешний никого не исповедовал. Отец Косьма обещался зайти к нам в Макариху. Он жил в деревне по другую сторону города.
День был жаркий. Идя из города, я изнемогала от жары. Проходя мимо открытых ворот, увидела скамейку во дворе под деревьями и решила отдохнуть. Подхожу, чтобы сесть, и слышу окрик: «Не садитесь, скамейка только что окрашена, вот здесь можно», и мне показывают на соседнюю скамейку.
Это говорил пожилой почтенный человек, видно, интеллигентный. Я подошла и села рядом с ним. Он сразу догадался, что перед ним ссыльная. Стал расспрашивать – откуда? И когда я сказала, что из Козельска, он сейчас же спросил: «Врач Оберучева? Моя жена писала мне, что она у вас ночевала, и дочь наша Ирочка тоже была у вас». И я его знала, только заочно. Отдохнув и поговорив немного, я хотела уходить, а он, написав адрес своей дочери, живущей в Москве, настойчиво повторял: «Напишите ей, непременно напишите». Ему была назначена здесь ссылка. У меня осталось такое хорошее впечатление от этого человека, от этой чудесной встречи.
Возвратилась я благополучно: на меня никто не обратил внимания.
Отец Косьма навещал нас: помнится, приносил мне пшена. И как-то спросил, нет ли какой нужды, – чтобы я сказала, так как ему часто присылают посылки.
У меня, между прочим, не выходил из головы больной, который начал поправляться после тифа: он лежал голый, а ему так хотелось на чистый воздух. Вот я и просила, не может ли отец Косьма уделить пару белья и утешить этого больного. Спаси, Господи, отца Косьму, он все принес, и выздоравливающий был так рад.
Как-то раз один познакомившийся со мной священник вызвал меня из барака и предложил с его духовными чадами пойти в кустарник, чтобы там помолиться. Был канун 1 августа. Он обещал прийти с владыкой Варнавой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.