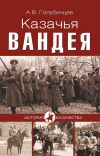Текст книги "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Смерть жены брата Марии. Определение осиротевших ее детей
Вскоре получила телеграмму на имя батюшки Анатолия, что Манечка (невестка моя) скончалась 7 декабря. Надо было немедленно ехать туда, а я с трудом, с помощью костылей, могла пройти по комнате.
Перед этим у одной больной появился громадный нарыв на ноге, температура повысилась до 40 градусов, началось заражение крови. Во что бы то ни стало, для спасения жизни, надо было немедленно делать операцию. И вот я попробовала на костылях пройти через коридор в палату и там сидя сделать разрез; но что это было за страдание! Мне самой сделалось дурно.
А теперь я решила поехать. Одна матушка согласилась проводить меня. Матушка казначея и батюшка (письменно) согласились отпустить меня. Благословили. Как трудно было ехать, и передать невозможно. Только мать Матрена, самоотверженно помогающая мне, утешала меня.
По железной дороге доехали мы до Ельни, где остановились у родственников; оттуда надо было на лошадях ехать еще шестьдесят-семьдесят верст до медицинского пункта, где находились дети.
У родственников я узнала, что Манечка, почувствовав, что заболела сыпным тифом (она была послана на эпидемию), дала мне телеграмму, что она заболела и чтобы я немедленно приехала в Ельню, куда она сама поспешила уже больной и там легла в больницу. Но эта первая телеграмма пропала, и я получила только вторую, где извещалось о ее смерти.
Мы поспешили найти извозчика, чтобы ехать дальше, и вдруг – какое несчастье! – моя доб рая провожатая упала и сломала себе руку. Страдания ее были ужасные. Мороз страшный, надо одеться потеплей, а сломанная рука в шине не проходит в рукав. Медлить нельзя, уже остается всего несколько дней до Рождественского сочельника; хотелось бы хоть к этому дню приехать к детям, убитым горем.
Мои страдания и боли в ноге уже были ничтожны перед страданиями матушки: за ней надо было ухаживать, она стонала и плакала. Как черная туча все это нависло над нами. Только в сочельник к вечеру мы приехали; детей не было дома, их кто-то из служащих взял на елку. Тяжела была наша встреча. Они молча переносили свое горе. Мне так было их жалко, что, если бы надо было, я бы с радостью отдала им свою жизнь. Они сторонились меня. Для меня это было еще тяжелее. Дети диакона, уже подростки, говорили Севочке, что им не следует отсюда уезжать: у них здесь будет общежитие и учение даровое, а тетя захочет сделать их монахами. Тягота на сердце была невыносимая. Днем я удерживалась сколько было сил, а ночью слезы лились нескончаемой рекой.
«Господь не дает непосильных скорбей, Он возьмет меня к Себе» – тогда эта мысль о смерти была для меня единственным утешением. Искали извозчика, спешили, но ничего не выходило: желающих ехать на такое расстояние найти было трудно. Находилось все больше людей, которые расстраивали Севочку, а мне было так тяжело, что я не надеялась перенести всю эту муку… Помню, Женечка, всегда молчаливая, вдруг сказала: «Пусть тетя поговорит с извозчиками – ее послушают».
После долгих хлопот мы, наконец, выехали на двух подводах: люди на одних санях, вещи на других. На вокзале мы также с большим трудом сели в вагон. На пути по какой-то причине нас высадили. Стоим все, слезы льются из глаз и тут же замерзают. Умоляю кого-то ради детей взять нас в вагон…
По приезде в Оптину пустынь Севочку, по совету батюшки, определили в Козельскую школу. Чтобы он был под присмотром, поместила его у одной старушки. Это была, можно сказать, монашеская квартира: там жил отец Кирилл, а к нему постоянно ходил иеромонах Никон и другие; вообще, эта квартира была как бы под надзором Оптиной пустыни. Севе было четырнадцать лет, Жене – одиннадцать. Женечку я увезла с собой в Шамордин монастырь. Там нашлись учительницы, которые с радостью стали с ней заниматься. Женечка была всегда печальная, молчаливая. Как посмотрю на нее, так сердце у меня и замрет от скорби, а она мне ничего не говорит.
К лету Севочка непременно захотел в деревню, и чтобы Женя тоже ехала. Сердце мое замерло от страха: как их отпустить, особенно Женечку?! Много было пролито слез; рассказала только батюшке о своем горе, и он сказал, чтобы их отпустить, только кого-нибудь отправить с ними. Кто из монахинь решится поехать? Все силы употребила, чтобы кого-нибудь уговорить. Одна согласилась: правда, с бестолковым характером, но все же лучше, что хоть она едет.
Деревня – в двенадцати верстах от города. К осени пришлось отдать Женечку в школу в Ельне, так как Сева не хотел возвращаться и отпускать Женечку. Жила она у родственников в городе, а Севочка иногда приходил к ней. Весной Сева взял ее в деревню.
Как-то я серьезно поговорила с Севой: лучше всего ему поступить на службу в Козельске. У меня был знакомый инженер, который соглашался взять его для какой-нибудь работы. Чтобы выхлопотать это место, я несколько раз ходила из Шамордина до Козельска и обратно – к этому инженеру и к батюшке за советом и просьбой. Но когда спросила Севу, он не согласился на поступление. Я стала хлопотать о другом месте, у врача, который из сочувствия к детям готов был взять Севу.
От всей этой ходьбы (время было весеннее) я совершенно сбила себе ноги, появились пузыри. Но и на это место Сева не согласился поступать. Тогда я позвала его и спросила: «Скажи мне откровенно, хочешь ли ты поступить? Ведь я дошла до изнеможения, ноги сбила. Прошу тебя, наконец, скажи мне правду, если я еще какое место для тебя найду, послушаешься ли ты меня?» – «Нет, тетя, откровенно тебе скажу, что не послушаюсь. Пока я еще несовершеннолетний, пока меня не взяли на военную службу, я хочу посмотреть свет».
После такого ответа я не могла больше хлопотать о Севе, я считала его уже для себя потерянным. Теперь убивало меня положение Женечки. Меня пугали слова Севы, что он не позволит взять Женечку ко мне, и намек на то, что может даже жаловаться, не позволит мне ехать самой… Просила Господа указать мне путь…
Приезжала к нам в монастырь моя двоюродная сестра Анна Вырубова. Она мне рассказала об одной благочестивой девушке, Елене Витальевне Домбровской, идеальном человеке. Подумала я о ней: вот такая, с помощью Божией, может мне помочь. Она меня лично не знала, а только по рассказам моей родственницы и, кроме того, видела меня в последний мой приезд в Ельню.
Вот ей-то я и написала. У меня не было денег, чтобы послать ей на билеты, и я писала ей, чтобы она продала Женечкины подушку и одеяло и на эти деньги взяла билет. Ей пришлось идти пешком эти двенадцать верст до деревни к Женечке. Как-то примет ее Сева и согласится ли? И вот, слава Богу, он согласился отпустить. Пришли в город, время отходить поезду. Идут прямо на вокзал. Проезжает мимо какой-то человек на извозчике. Елена Витальевна остановила его и попросила: нет ли у него денег им на билеты? Он ответил, что сейчас лишних у него нет, а вот их дом. Пишет им записку, по которой жена его даст. Они так и сделали, успели зайти и поспели к поезду. Не могу описать моей радости, когда они пришли в монастырь.
У меня было несколько больных, которых я должна осмотреть. Поручаю сестре Анюте, чтобы она сделала для моих путешественников ванну и переодела белье. Даю две рубашки свои…
Елена Витальевна пробыла несколько дней, все мы ходили в храм, не пропускали божественных служб. Оказывается, она пишет стихи, и написала стихотворение в память посещения нашего храма. Рассказала мне свою жизнь – трогательную и в то же время утешительную.
Когда мы были в Оптиной у батюшки Нектария и заговорили о тяжелом положении Церкви, о появлении обновленчества, то на вопрос, как об этом молиться, он произнес прошение ектений, и Елена Витальевна с его слова записала: «О еже низложите сопротивныя на ны востания, святыя же Божия Церкви, в напасти сущия, со предстоятелями их и всеми верными, свободити, Господу помолимся».
Когда она уезжала, я напомнила сестре Анюте, помыли ли ее рубашку. Она поедет в моей, а эту надо завернуть и ей отдать. А сестра на это мне сказала, что у нее не было рубашки…
Может показаться странным, что я, не зная ее, обратилась к ней с таким трудным делом и так на нее надеялась. Но я слышала о ней от двоюродной сестры Анны и была уверена, что она поможет. И вот теперь, вспоминая ее жизнь, мне хочется рассказать о ней другим…
* * *
Их имение находилось между Ельней и Смоленском. Ее родители были образованные люди: муж – доктор, а жена тоже с высшим образованием. У них было две дочери, которых они воспитывали и учили сами и только возили на экзамены.
Доктор Домбровский не занимал службы, жил в имении, имел здесь частную амбулаторию и не отказывал крестьянам в медицинской помощи. Еще он занимался научной деятельностью, любил естественные науки и имел печатные труды. Имение их было превосходно устроено, были сады, оранжереи…
Семья была необыкновенно любящая, дружная, и девочек не отдавали учиться, чтобы не расставаться.
Настало время конца войны 1917 года. Отец заболел. В это время появились беженцы. Успокаивая своих, он говорил: «Нам еще хорошо, хоть и землю нашу взяли, но у нас есть дом, чего же нам унывать, а вот беженцы лишились своего крова, в чужой стране…»
Почувствовав, что приблизился конец его жизни, он благословил жену и детей. Елену Витальевну он благословил медным крестом, который она потом поместила в серебряную оправу. Вскоре после его смерти приходит беженец и просит принять его с семьей в какую-либо из свободных комнат или построек их усадьбы. Вспомнив слова покойного отца, так сочувствовавшего беженцам, они охотно приняли его с семьей.
Вскоре они стали беспокоиться о здоровье матери, которая все более и более слабела. Решили отправиться к известному врачу-гинекологу в Смоленск. Обратились к беженцу с просьбой, чтобы он берег их дом и все вещи. Но так как в это время ходили банды, то он попросил, чтобы ему дали бумагу о том, что все это отдают ему. Старшая дочь немедленно пошла в волость и достала такую бумагу. Собрали только самые необходимые вещи в маленькую корзиночку для больной, и все втроем отправились на станцию, находящуюся недалеко от их поместья. Скоро они возвратились страшно опечаленные, так как доктор сказал, что болезнь – рак и время для операции уже упущено.
Подходят к дому, стучатся. Им долго не открывали; наконец, вышел беженец и сказал, что это все его, у них ничего нет и он их не впустит…
Какое отчаянное положение!..
Что делать? Пришла в голову мысль идти к соседям за восемь верст, в помещичью усадьбу их знакомых. Но там уже устроен детский дом, а хозяйка этого дома стала заведующей хозяйством этого учреждения. Они обратились к ней, и она выхлопотала для одной из дочерей место при детях. А для жилья им дали какую-то хибарку в усадьбе. Было уже холодно, и трудно им было жить в таком жалком помещении, особенно для больной. Все силы они употребляли, чтобы облегчить ее страдания, нежно ухаживали за своей любимой матерью. Болезнь быстро шла к концу. С невыразимой скорбью они похоронили ее.
После этого им стало еще тяжелее; они больше не могли оставаться на этом месте. Отправились на юг, надеясь найти хоть какое-то утешение…
Благополучно доехали до Брянска, но тогда поезда ходили неисправно, и они здесь остановились. Во время стоянки поезда они пошли в собор. После богослужения подошли к свечному ящику и обратили внимание на разложенные книжки: это были жития брянских чудотворцев (святой Олег и преподобный Поликарп). Церковный староста предложил купить. Но у них было всего несколько тысяч – по тогдашним деньгам это ничтожная сумма (а еще надо было для дальнейшего пути). «Чудотворцы вам помогут, возьмите». И они решили отдать все свои деньги и купили книжку.
По возвращении на вокзал они сели на платформе и рассматривали книжку: в ней было в красках изображение святых чудотворцев. Около них играла девочка и все посматривала на книжку. Девушка стала показывать ей и о чем-то с ней поговорила… Скоро девочка снова прибегает и говорит: «Мой папа – начальник станции, он говорит, что поезд долго не пойдет, а мама зовет вас к нам».
Они пошли, и на радушное приглашение добрых людей остались у них на несколько дней, пока поезд не двинулся дальше. Там случайно вышел разговор о шитье обуви, а они как раз умели шить, и за эти дни сшили несколько пар туфель и таким образом заработали на дальнейшую дорогу.
Не доезжая до Курска, поезд останавливается, вагоны отцепляются, пассажиров всех осматривают; берут сумку Елены, а там тетрадь с ее стихами. Их с сестрой ведут и помещают в тюрьму.
С ними было Святое Евангелие, с которым они никогда не расставались. Они готовятся к смерти, как сказал им тюремщик. Переночевали там, наутро спрашивают, скоро ли их поведут. Отворяется дверь, и им говорят, чтобы они шли. «Куда?» – «Куда хотите». Их бумаги и сумки были отобраны.
Они вышли за ворота тюрьмы и направились в ту сторону, откуда они ехали, – к Смоленску. Приходилось заходить в деревни, чтобы попросить хлеба и переночевать. Зашли они в одну усадьбу, видно польских помещиков, упросили хозяйку принять их в качестве прислуги. Но когда они расположились на кухне и пришла хозяйка, из разговора она заметила, что имеет дело с образованными людьми, побоялась и отказала им. Они пошли дальше. Много бедствий пришлось им претерпеть, и только через месяц дошли они до Рославля. Там у них были знакомые, к которым они и зашли. Главное лишение – у них не было белья, и у знакомых ничего не было, они могли только снять с дивана парусиновый чехол и из этого сшили рубашки.
Отсюда они пошли дальше, к оставленному когда-то месту. Им разрешили занять ту хибарку, где они когда-то жили. Но время было холодное, ноябрь месяц. Дров у них не было, пришлось терпеть холод. В окрестностях свирепствовала эпидемия оспы; для покойников даже не рыли отдельных могил, а несколько трупов клали в одну. Младшая сестра заболела самой тяжелой формой оспы. В комнате было невыносимо холодно, и Елена своим телом согревала больную сестру. Они терпели невыносимые страдания. Скоро сестра умерла. Елена не могла вырыть отдельной могилы, и сестру опустили в общую. Оставаться здесь она больше не могла. К этому времени относятся следующие ее стихи:
Я поняла…
Теперь я поняла… А прежде возмущалась
Невольным ропотом душа,
Когда с несчастьями иль смертию встречалась
Невинных, молодых она.
«Зачем, за что, – я думала, – их муки,
Болезни, горе, нищета?
А смерть? А ранняя разлука?
Иль справедливость лишь мечта?»
Но вот в огне мучительных болезней
Сгорели те, кто здесь любил меня,
Сестра лежит в могиле безызвестной;
Какой осталась одинокой я…
Я нищая. Родимый кров отняли,
Тот кров, где некогда я счастлива была,
Моя душа устала от печали…
И вот теперь я только поняла…
Ты прав, Господь, и путь Твой непорочен,
Ты дал понять, как этот мир непрочен,
Ты свят, благословен вовек!
Ты дал – Ты взял; Твоим судьбам я внемлю,
Нагой я родилась, нагой сойду я в землю,
Твое созданье – перстный человек!
Любимых отнял Ты, но разве же свиданье
Ты нам не обещал в безбрежных небесах?
Ты, как огнем, очистил их страданьем,
А вечный мир для душ – в Твоих руках!
Ты отнял отчий дом, Ты снял имений цепи,
Привязанности к месту больше нет!
Земные чувства все так призрачны, так слепы —
Вселенная теперь отчизна мне!
Ты прав, Господь, и путь Твой непорочен,
Ты свят, благословен вовек!
Ты дал – Ты взял; Твоим судьбам я внемлю,
Нагой я родилась, нагой сойду и в землю,
Твое созданье – перстный человек!
Оставаться здесь далее она не могла. Не помню, как она оказалась в Ельне. Здесь наняла себе комнатку (или ее приняли так у одних бедных людей) и стала преподавать Закон Божий. Плату она не спрашивала – кто сколько даст, лишь бы хватило на хлеб, больше не брала. К этому времени относится ее знакомство с моей двоюродной сестрой Анной, которая сказала ей однажды: «Хоть бы сала или масла вам давали, кроме хлеба, для подкрепления». Но Елена не хотела большего, терпела скудную жизнь. Однажды ей пришлось прийти в какое-то учреждение, у нее не было галош, а грязь в этом городе необыкновенная, и она на свои самодельные туфли в таких случаях надевала берестовые башмаки. Эти своеобразные галоши пришлось снять в передней. В эту же самую переднюю выходила дверь из комнаты бывшей хозяйки этого дома. Хозяйка недавно ослепла; жившая с ней женщина сказала, в каких галошах пришла девушка. Слепая заинтересовалась и попросила позвать эту девушку, когда она пойдет обратно. Они познакомились, и результатом этого знакомства было то, что Елена ежедневно приходила сюда и провожала эту несчастную слепую в церковь.
Прошло некоторое время, и Елену позвали к следователю в Смоленск. Надо было ехать по железной дороге. Она взяла с собой только Святое Евангелие. Поезд пришел рано, и она успела зайти в церковь и причаститься.
Когда она пришла к следователю, он вынул ту тетрадь, которую у нее когда-то взяли в вагоне, и спросил – узнает ли она, чья это тетрадь? Она сказала, что это ее. Затем, между прочим, он спросил: здесь несколько страниц вырвано; по какому случаю она их вырвала? Она ответила, что там были написаны насмешливые стихи; ей сделалось стыдно за себя, что она, будучи христианкой, так относится к людям, и потому их вырвала. Следователь спросил: «Вы меня ненавидите?» – «Нет, по-христиански мы не можем вас ненавидеть, мне только вас жаль…»
Совершенно изменившимся тоном он стал рассказывать ей о своем тяжелом детстве… Она заметила у него слезы на глазах. И в конце концов он сказал: «Будьте такой, как вы есть, я буду за вами следить, но только потому, что вы заинтересовали меня. Неужели теперь может быть такой человек? Желаю вам оставаться такой, как вы есть». Тем и закончилось их знакомство.
Около этого времени я и попросила ее привезти мне Женечку.
Рассказала я то, что помнила из ее жизни, потому что воспоминание о Елене и ее жизни часто меня утешало. Впоследствии она справлялась обо мне, но меня там, где она узнавала, не было. Как бы хотелось повидаться с ней еще в этой жизни!..
* * *
Женечка пока поселилась у меня. Мне так хотелось, чтобы она подольше пожила у меня!
Все окружающие с большой любовью относились к ней, нашлись бы для нее хорошие учительницы; но Севочка не захочет оставить ее у меня, да и в самом деле, в моем положении едва ли это будет возможно.
Пошла советоваться с батюшкой Анатолием, и он тоже нашел, что лучше отдать ее на квартиру к верующим людям. Мне пришла мысль о Меньшовых. Это верующие люди из Перемышля: казначей и его жена-учительница. Они приезжали к нам в Шамордино, жили по нескольку дней в гостинице, говели там. Они были слабого здоровья и обращались ко мне за лечением. Вот о них-то я и вспомнила. Как только я назвала их фамилию, батюшка сразу согласился, даже обрадовался и благословил нас отправиться в Перемышль.
От Шамордина до Перемышля было верст тридцать пять. Обувь у нас была ненадежная, а так как осень выдалась сухая, то мы закрутили ноги белыми полотенцами и надели лапти. Сестра Даша обула нас, так как с непривычки эту обувь надевать трудно. Для дальней дороги более удобной обуви нам было и не найти. Дорогой пришлось ночевать.
Когда мы пришли к Меньшовым, Вера Сергеевна очень обрадовалась, приняла нас так, как будто давно ждала. В этот день она была именинница.
Я сказала, что пришлю все вещи, которые привезла из деревни и которые были у Женечки. Пробыла там день или два. К нашей общей радости, у Меньшовых за некоторое время до нас поселилась та учительница из нашего монастыря, которая раньше занималась с Женечкой и с такой любовью к ней относилась. Теперь, значит, они будут здесь вместе, это меня утешало. Женечку сейчас же приняли в школу, где работала и Вера Сергеевна.
Оставив там Женечку, я два раза в год приходила к ней: в начале лета и осенью. Вера Сергеевна полюбила Женечку так, что говорила: «Я боюсь только, чтобы вы не взяли от меня Женечку». Севочка несколько раз приходил к ним из деревни, там говорили, что он очень скучал по сестре. Но сюда переехать не захотел.
Однажды он пришел к Женечке, а затем ко мне, поговел и отправился на Кавказ. В первое время он писал Женечке, написал, кажется, что поедет в Индию, и больше от него ничего не было. Паспорт он не получал.
Это была для нас большая скорбь, особенно для Женечки. Эта скорбь оставила глубокий след в ее душе.
* * *
Умерла моя любимая матушка игумения, и вот я живу теперь в монастыре без поддержки.
Много тяжелого пришлось испытать, но Господь посылал и утешения. Теперь уже по благословению матушки казначеи я ходила в Оптину, где батюшка Анатолий своим любвеобильным сердцем и согревал, и утешал.
Часто я скорбела, что от духовного чтения у меня мало что остается – все забываю. Это так беспокоило меня, что, собираясь идти к батюшке, этот вопрос я записала первым.
Монастырская скотница, узнав, что я иду в Оптину, прислала мне бутылку молока, завернутую в печатный листочек. Когда я дорогой села подкрепиться едой, то развернула листок и, видя, что он духовный, стала читать. Приблизительно так там было сказано. Послушник спросил старца: может ли быть польза от моего чтения, когда я прочту и тотчас забываю? Старец только что окончил трапезу, и перед ним еще стоял кувшин, из которого он ел. Старец велел послушнику рядом поставить другой чистый кувшин и спросил его: «Чем разнятся эти кувшины?» – «Тем, что один чистый, а другой грязный». Старец велел вливать воду в грязный и потом выливать, и так повторить несколько раз, и вылить так, чтобы не осталось ни одной капли воды. «Ну что, он совершенно пустой? Хотя в нем не осталось воды, но кувшин сделался чистым. Так и чтение духовных книг хоть и забывается, но созидает чистоту души». В этом же роде и батюшка сказал.
Однажды летом я сидела у окна своей кельи и что-то шила. Невдалеке от моего окна – окно из заразного отделения, к нему подходит какая-то особа в сером апостольнике, с большой сумкой на плече и спрашивает больную сестру Александру Гурко. В то время эта сестра болела оспой, а теперь поправлялась. Особа подошла, подала ей письмо от ее сестры из Смоленска и рассказывает: она в вагоне познакомилась с ее сестрой, и когда та узнала, что путница едет в Шамординский монастырь, то написала сестре письмо и просила передать. И вот она отдает письмо и говорит, что ей сейчас надо идти обратно в Оптину, так как матушка казначея, не зная ее, по теперешнему времени не решается оставить ее в монастыре.
Сестра Александра была очень словоохотлива и задержала ее разговором, стала говорить о том, что теперь приходится терпеть голод, в монастырской кухне мало что готовится, запасы все кончились, а вот когда кто-нибудь из деревенских больных приходящих принесет в кармане несколько картошин, докторша наша Александра Дмитриевна поделится с нами, – вот и вся наша еда. При этих словах путешественница переспросила имя и фамилию докторши и с удивлением вспомнила, что мы с ней познакомились когда-то в общине во имя Христа Спасителя, в келье монахини Марии (Амбразанцевой-Нечаевой). Ей указали мое окно, и она с радостью подошла ко мне.
Мы, конечно, узнали друг друга, и я выбежала позвать ее в свою келью. Потом я сходила к матушке казначее, объяснила, что это моя знакомая, и просила разрешить ей остаться у меня на несколько дней. День уже клонится к вечеру, как она пойдет? Она совершенно измучена, ведь прошла уже двенадцать верст от Оптиной, да и там от вокзала несколько верст. В сумке ее, кроме белья и одежды, было большое Евангелие, которое она получила от своей любимой тетки, и еще несколько книг. Весом это все было, вероятно, не больше пуда.
Матушка Татьяна была очень красива, возрастом около сорока лет, но вид совсем молодой. Она была начальницей одной сестринской общины, устроенной Дондуковой-Корсаковой. Недавно тамошний епископ постриг ее в мантию, ей захотелось теперь проводить жизнь около старцев, и вот она решилась ехать сюда. Проехать тогда можно было по особым разрешениям. Делались попытки в этом отношении, знакомые давали ей бумажки с какими-то командировками, но дело не выходило, она никак не могла выехать. Наконец, подумала: «Такое святое дело, а я употребила ложь». Пришла в учреждение просить разрешения на проезд. Ей сказали, чтобы она написала заявление и в нем объяснила цель своей поездки. Она прямо так и написала, что хочет ехать, чтобы поступить в монастырь. И ей дали разрешение.
Приехала она в Козельск, оттуда в Оптину, зашла к батюшке Анатолию, а оттуда к нам. Как чудесно Господь ведет Своих рабов! И вот монахиня Татьяна сначала поместилась у меня в келье, а на ночь я отвела ее в пустую палату больницы.
Эта встреча была для нас большим утешением. Ведь она хотела всецело жить ради Господа. В свободные от богослужения и больничной работы часы мы читали с ней «Добротолюбие».
Ходила я к матушке казначее. Просила, нельзя ли ей остаться. Но матушка боялась, чтобы не донесли, что мы принимаем в монастырь, и отказала мне. Позволила побыть ей только несколько дней.
Тяжело было провожать ее из монастыря, а главное – куда?
Брат ее теперь умер, а его жена еще раньше. У них оставался сын, которого матушка Татьяна воспитывала; ради него она сначала поступила на высшие педагогические курсы, а потом, вследствие своего слабого здоровья, несколько лет ездила с ним в Швейцарию и там с ним занималась. Потом его определили в Пажеский корпус. Теперь он окончил свое образование, и тетка, благословляя его на самостоятельную жизнь, сказала ему, между прочим: «Служи, исполняй честно свой долг». А он ей: «В том-то и несчастье мое, что я не знаю, в чем теперь состоит мой долг».
Еще раньше, уже освободившись от обязанности воспитывать племянника (он поступил в учебное заведение), она стала всей душой стремиться к духовной жизни. В это время добродетельная Дондукова-Корсакова, всю свою жизнь посвятившая на добрые дела (читала по тюрьмам), была уже при последних днях своей жизни и упросила Татьяну стать во главе ее общины (в Новгородской или Псковской губернии, не помню).
Находясь у предсмертного одра Дондуковой-Корсаковой, Татьяна увидала, что ее увлек некий еретик (он ее навещал).
И в то же время, не зная этого, навещал ее и митрополит Антоний (Вадковский), а в общине (хотя она и была освящена и открыта самим митрополитом) все было в духе этой ереси (название ее забыла).
Дондукова-Корсакова говорила: «Все эти перегородки, которые люди понаделали между Церквями, не доходят до неба». В ее душе уживались одновременно и еретические понятия, и исполнение обрядов Православной Церкви. Сестры, конечно, этого не знали и, беззаветно любя свою основательницу, придерживались всего того, что было заведено ею.
И вот когда Татьяна поступила и стала постепенно, с благословения местного епископа, вводить более монашеское устроение, сестры начали обижаться за свою любимую основательницу общины. Они не могли оценить вновь поступившую начальницу.
Татьяна чувствовала это. Епископ предложил ей постриг, который она с радостью приняла. После этого отношения с сестрами стали для нее еще более трудными, и она начала, никому ничего не говоря, думать о том, чтобы ей уехать и жить вполне по-монашески. В последнее время мысль ее обратилась к старцам, ее потянуло в Оптину, и она пришла к нам. Но время было какое!
Жалея отпустить монахиню Татьяну, я захотела проводить ее до Оптиной и побыть с ней еще хоть один день. Матушка отпустила меня проводить ее. В Оптиной для ночлега нам отвели в гостинице общий номер. Всю ночь мать Татьяна не спала, непрерывно кашляла (при такой цветущей наружности!). И утром я решила ее выслушать. К ужасу своему, я услышала в груди экссудативный плеврит, вся левая половина плевры доверху была наполнена экссудатом. Такой румянец у нее был от высокой температуры. Сейчас же я пошла к батюшке и рассказала ему все. Он, конечно, благословил оставить мать Татьяну до ее выздоровления в нашем монастыре. И мы возвратились; я объяснила все матушке казначее, и она разрешила поместить ее в одну из пустующих палат больницы.
Как я уже сказала раньше, все запасы пищи в кладовых монастыря исчезли, в трапезной не готовили. А в больнице мать Аристоклия, заведующая больничным хозяйством, как-то вполне подчинилась фельдшерицам и на меня смотрела их глазами. Пришлет, бывало, матушка казначея для больницы, например, сколько-нибудь постного масла, а она, по настоянию фельдшериц, прибавит немного больным, а все остальное – для фельдшериц. Сестры видят, что мне с матерью Татьяной отправляют сухое кушанье, и очень скорбят об этом, даже заплачут. Но это еще хорошо, было хоть что-нибудь, но вскоре и совсем перестали готовить. Тогда мы с монахиней Татьяной купили пуд овсянки и просили сестру кухонную делать нам из нее кисель: тем и обходились без хлеба.
При такой болезни матери Татьяне было трудно, конечно. Но она была в таком восторженном состоянии, видела во всем чудо милости Божией и Царицы Небесной, оставившей ее у Себя; все было для нее хорошо. Она не замечала и не особенно хорошее отношение к себе и всегда говорила – слава Богу!
Первое время мне часто напоминали о ней при разговоре, называя монахиню Татьяну «ваша» (т. е. моя), но потом как-то стали забывать. Несколько месяцев она пробыла в больнице, в своей уединенной келье, где точно исполняла все монашеские правила. Иногда я уже лягу в своей келье и слышу над головой, где помещалась монахиня Татьяна, постукивание от земных поклонов – значит, она исполняет пятисотницу.
Следя за своим внутренним миром, она часто ходила за советом к нашему монастырскому духовнику отцу Мелетию. Его духовные дочери находили это, по немощи, предосудительным, а может быть, и завидовали. Кроме того, один из иеромонахов Белозерского монастыря (находившегося, кажется, вблизи общины матери Татьяны) написал своей знакомой, сестре нашего монастыря, очень хороший отзыв о матери Татьяне и даже прибавил: «Хорошо, если бы она была у вас игуменией». Все это я узнала только после смерти матери Татьяны, а тогда только удивлялась, почему старшие, говоря со мной, иногда выражали свое недоброжелательное к ней отношение. Все это так незаметно сплелось в какой-то клубок, и возникла непонятная, но недоброжелательная атмосфера. От матушки Татьяны я не слыхала, чтобы она это замечала, но мне было тяжело за нее. Ее я видела всегда радостной, благодарящей Господа за все.
Не помню, как это началось, но только месяца через два-три решили перевести ее в странноприимную. Там, кроме больших бараков для странников, прямо из сеней была маленькая комнатушка, куда ее и поместили.
Когда я пришла туда, матушка Татьяна, как всегда радостная, говорила мне – как здесь хорошо, она в полном уединении, а матушка Зоя, заведующая странноприимной, к ней так добра! Она, эта заведующая, правда была особенная, блаженная. Когда батюшка Амвросий еще был жив, ее, молоденькую, привезли в Руднево, на монастырскую дачу, куда часто приезжал батюшка; для него там был домик. Он и матушка Евфросиния (слепая игумения) начали здесь копать колодезь, из которого вода потом исцеляла одержимых. Сюда и приведена была тогда монахиня Зоя, которая тут исцелилась от своей болезни. Впоследствии ее назначили заведовать странноприимной. Она отличалась простотой и была необыкновенно добра со странниками, что так необходимо при этом послушании.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.