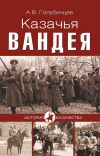Текст книги "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Революционные настроения и забастовка в Медицинском институте
Около этого времени я заболела ангиной с высокой температурой и не могла день или два приходить на лекции, тем более что квартира моя в то время была далеко от нашего института. Проболела я несколько дней. Прихожу, а мне и рассказывают, что хотели устроить забастовку, кого-то поддержать, а здесь вдруг нашлось десять человек, которые все-таки пришли на лекции и таким образом сорвали забастовку. Это так раздражило большинство, что они исключили этих десять студентов из товарищества, назвали прокаженными и объявили, чтобы никто с ними не имел никакого дела, даже не разговаривал, что они не должны пользоваться ни студенческой столовой (которая была для слушательниц Медицинского института), ни лекциями, которые литографируются и предоставляются для всех, и не будут пользоваться никаким материальным пособием в случае нужды.
Я увидела, что эти десять человек поневоле держатся особняком, никто не может к ним подойти. Настроение их ужасное! Удивляешься только, как могли им создать такое угнетенное положение. У меня на душе было спокойно, только жаль одного – что я не была в тот день в институте и не могла выразить свое настроение тоже тем, что пошла бы на лекции. Чтобы загладить свою вину, я чем могла выражала им свое расположение.
Но не долго мне пришлось быть в таком недоумении. В этот же день назначена была сходка, на ней были не только наши, но и студенты изо всех высших учебных заведений. Взяли самую большую аудиторию. На стене около кафедры висела нагайка. Прежде всего высказались, что нашлось десять человек, которые помешали забастовке, – их теперь исключили из товарищества. Объявили их фамилии, назвали их прокаженными и с этим названием обещали список фамилий вывесить на видном месте во всех высших учебных заведениях. Говорено было много, много жестокого, указывали на нагайку, что вот такие хотят ее…
А у меня в душе все больше и больше разгоралось пламя негодования против такого отношения к человеческим убеждениям. До такой степени я была возмущена, что даже обычная застенчивость не могла меня удержать.
Спросили: неужели среди нас может найтись кто-нибудь, кто был бы против такого решения? И я, помолившись в душе, встала (а сидела я очень высоко, кажется на последней скамейке) и сказала: «Прошу исключить меня из товарищества и вписать в группу тех, кого вы называете прокаженными, потому что я думаю одинаково с ними». После этого наступило гробовое молчание, потом студенты за председательским столом обменялись между собой несколькими словами и наконец сказали вслух: «Кто там говорит, идите на кафедру». Шла я туда, как на виселицу. Не знаю, как я могла пройти это пространство, только чувствовала, что спина моя неподвижна, и если бы я захотела наклониться, то не смогла бы. Впоследствии, будучи врачом, от простых больных я слышала такое выражение: «И спина моя стала прутом». Вот что тогда было со мной, а те, кто смотрел на меня в то время, как я проходила через ряды, потом рассказали мне, что я сделалась бледная как полотно.
Вошла на кафедру и повторила то же самое, только еще добавила: «Я не хочу быть в таком товариществе, которое так жестоко поступает; я тоже не буду пользоваться столовой, не буду брать ваших лекций». – «А еще кто с вами?» – спросила председательница каким-то мягким тоном. «Я не знаю о других, я только прошу исключить меня». Сказав это, я пошла на свое место, а когда проходила по рядам, то видела многие взгляды, устремленные на меня с сочувствием и со слезами. Села на место, и ко мне обратились с ответом: «Мы вас не исключаем из товарищества, мы уважаем вашу прямоту, вы будете у нас посредницей между нами и так называемыми прокаженными, так как сами мы не будем общаться с ними».
Вечером пришли ко мне две наши слушательницы, очень растроганные, и со слезами говорили, что они вполне согласны со мной, но боязнь помешала им высказать свое мнение; а так как я не хочу пользоваться товарищеской столовой, то они будут готовить: вместо обычной платы 7 руб. 50 коп. в месяц у них обед будет стоить 6 рублей, и еще будут давать кусок чего-нибудь на ужин. А лекции мне были не нужны, так как я сама записывала, и от меня пользовались другие.
А на другой день пришла ко мне наша слушательница Воскобойникова, старинная знакомая профессора Манассеина, от него с предложением, не соглашусь ли я заниматься с его воспитанницей и принимать участие в его журнале «Врач». Я почувствовала, что это отголоски вчерашнего события: лицо Воскобойниковой я видела в слезах, когда возвращалась с кафедры, она и передала профессору обо всем. А ведь левые всегда старались вписать его в свой лагерь. Я была благодарна профессору за такое сочувствие и ответила, что в журнале согласна работать, так как это легко (отмечать все, что касается медицины, просматривая все газеты), а заниматься не в силах, так как это отвлечет меня от медицинских занятий.
В назначенный час я пришла: начала брать газеты и размечать статьи, а два раза в неделю приходила и приносила отмеченное. Профессор ничего не говорил о происшедшем событии, но как трогательно и ласково он ко мне относился: такой занятой, почтенный ученый провожал меня в переднюю и был там, пока я оденусь! Это даже смущало меня, и я роняла или газеты, или что из одежды. Но зато все это очень меня утешало.
Однако не долго я пользовалась этим счастьем: через месяц или два он заболел воспалением легких и скончался, проболев чуть больше недели. Великая потеря была, особенно для медицинского мира. Он ведь был таким авторитетом, как бы моральным судьей среди медицинских деятелей, к нему обращались за решением в различных недоумениях.
И вот почувствовалось, что нет такого авторитета, которому бы все верили, все слушались, и если в то время находились противники профессора Манассеина, то внешне они не решались высказываться. При моем коротком знакомстве с профессором Манассеином и то приходилось видеть примеры его гуманной, самоотверженной деятельности, которая навсегда запечатлелась у меня в душе.
Бывший заслуженный профессор Военно-медицинской академии, профессор Манассеин продолжал принимать больных после ухода в отставку. Прием был бесплатный, но больше двадцати пяти человек он не принимал в свой приемный день, так как считал, что больше этого хорошо принять нельзя.
Однажды на втором или на третьем курсе мне пришлось с одной из подруг пойти к нему на прием, так как я почувствовала слабость и сердцебиение. Мы встали очень рано и еще при свете луны пошли на Выборгскую сторону, где он жил при Медицинской академии. У входа, еще запертого, стоял юноша лет шестнадцати-семнадцати, совсем бедно одетый, вроде нищего; он сказал, что пришел записаться к профессору, потому что болен, и будет считаться первым, а мы, значит, второй и третий номер; постепенно стали приходить еще люди, а мальчик все считал и назначал им номера. В девять часов дверь отворилась, и швейцар впустил первые двадцать пять человек.
Начался прием. Видя тяжелых больных, мы уступали им, а сами всё оставались и оставались.
Для нас поучительно было видеть, как маститый старец провожал больного и при этом говорил еще, что находил нужным.
Например, провожая больного, видно тяжелого туберкулезного, он его утешал и, успокаивая, сказал, чтобы к нему непременно пришла жена больного. Во всем этом было столько любви к больным! И слышать это было так полезно нам, будущим врачам; самим нам пришлось зайти, когда уже стемнело и давно зажглись огни.
Как было не скорбеть и беднякам, для которых профессор был истинным благодетелем! Недаром у его гроба можно было заметить бедняков, которые его оплакивали. Но в личной, семейной жизни он не был счастлив. Его жена увлеклась другим профессором и променяла на него такого обаятельного, идеального человека. В его доме поселилась племянница писателя Достоевского и стала хозяйничать. А он взял еще какую-то девочку, удочерил и нанял для нее учительницу. Компания известного направления окружила его, старалась сблизиться, но он им не доверял: когда его спросили, кому он поручит свой журнал, он сказал, что не может поручить никому (так я слышала через близких знакомых).
Гроб несли на руках до Финляндского вокзала, а оттуда по железной дороге до ближайшего кладбища. Живущая у него племянница Достоевского была или маловерующая, или неверующая, она сочувствовала тому кружку, который так хотел быть близким профессору. Теперь, после его смерти, они провозгласили себя самыми близкими к нему людьми и на могиле устроили митинг с шумными речами и клятвами. Печально было смотреть на все это, а в вагоне на обратном пути слушать речи, не соответствующие истине.
В один из поминальных дней я поехала на кладбище с твердым намерением отслужить панихиду. На могиле уже были посетители, не по мню кто. Я зашла в дом священника и попросила его пойти со мной на могилу профессора Манассеина, чтобы отслужить панихиду. Пришли к ограде. Бывшие там запротестовали, но я, заранее подготовившись и предвидя это, твердо сказала, что они не имеют права запретить нам. Священник стал служить панихиду, и они ушли. Это было в 1901 году.
* * *
На четвертом или пятом курсе нам уже назначали больных, за которыми мы должны были следить; в этом случае нас называли кураторами. Между больным и куратором устанавливалось какое-то близкое отношение. Чем можно было, мы старались помочь им, принести книгу или лакомство какое. Больные часто были откуда-нибудь издалека, в Петербурге были совершенно одиноки, и как дорого было им такое участие с нашей стороны! Мы входили в их духовную жизнь.
Помню, мне был поручен один туберкулезный в последней стадии этой болезни; кроме легких, у него было поражено и горло; он ужасно страдал и целыми днями смотрел из-за ширмы, не пройду ли я по коридору. Он говорил, что ему страшно умирать, и просил меня, чтобы я постаралась быть при его смерти. Но у некоторых кураторов был горделивый вид, и больные стеснялись обращаться с такой просьбой и звали меня. А у меня с того времени возникло особенное отношение к смертному часу. Это не было что-то мрачное, напротив, чувствовалось, что совершается таинственное сближение земного с небесным, и потому такие просьбы побыть около умирающих меня не отягощали, а, наоборот, утешали.
По возвращении на квартиру я часто вспоминала какие-либо особые случаи с моими больными. Вот помню, одна мне сказала: «У вас все больные особенные, просто ангелы небесные». В отдельной маленькой палате лежала курсистка-еврейка, которую я должна была навещать. Когда я заболела и несколько дней не могла посещать и больных, то я просила подругу навестить моих больных; зашла и к той курсистке, и она, вспомнив обо мне, говорила, что я с особенной заботой и расположением отношусь к ней. Подруга ответила: «Нет, она одинакова со всеми».
И моя подруга Мария, и еще одна (дочь племянницы Достоевского, но не той, что жила у Манассеина), которая имела особенное расположение ко мне, иногда с упреком говорили больным: «Да не все ли вам равно – мы или кто другой?» По возможности я старалась одинаково относиться ко всем.
Наступил последний год нашей учебы. Теперь мы должны были получить самые главные сведения, которые нужны нам как будущим врачам. А тут вдруг опять затеяли забастовку.
Был убит министр народного просвещения Боголепов. На сходке спросили, кто найдется… (масса эпитетов, самых позорных) и пойдет на панихиду? Я встала, меня позвали к кафедре. Несколько человек с ожесточенными лицами окружили меня и зашумели: «Знаете ли вы, что у нас триста револьверов, которые направятся на вас!» В толпу протиснулась одна курсистка В., высокого роста, и сказала: «Не трогайте ее, не для раздражения вас она так поступает, она всегда была религиозная». И почему-то они оставили меня в покое.
Удивляло меня такое настроение, а главное, и то, что профессора в большинстве своем были как бы заодно с нашими «передовыми» курсистками. Мне захотелось в этом удостовериться, и вот однажды я зашла в кабинет к пожилому, популярному у студентов профессору хирургии Кадьяну и сказала, что мне с ним надо поговорить. Мы остались одни, и я сказала: «Мы на последнем курсе, скоро на нас ляжет страшная ответственность – люди будут вручать нам свою жизнь, а мы, вместо того чтобы приобретать больше знаний, занимаемся политикой и устраиваем забастовки. Как вы, профессор, смотрите на это?» Бедный профессор так смутился, что он не мог сразу ничего выговорить. Пробормотал что-то неопределенное, начал оправдывать студентов неопытностью и молодостью, говорил, что «и мы когда-то…».
Вообще, тяжело мне было удостовериться, что от наших профессоров помощи мало. Только с тех пор я заметила, что он избегает меня, как бы боится встречи со мной один на один. Стали говорить, что на Волге ширится голод. Мы принимали это за истину. Открылись курсы эпидемических болезней – холеры, чумы. Я слушала их и думала, не надо ли и мне туда поехать?
Но, с другой стороны, ведь родители мои остались одни, брата с полком услали на остров Крит, в помощь грекам против турок. Написала я им письмо с вопросом: как мне поступить? Они ответили: если необходимо, то поезжай. В это время в Петербург приехала жена одного офицера, наша хорошая знакомая, и, когда услыхала, что я не знаю, как поступить, она твердо и откровенно сказала, что мать была больна всю зиму и теперь слаба, так что ни в коем случае не советует мне ехать на эпидемии, а надо после экзаменов возвращаться домой. Я так и сделала.
* * *
У нас опять начались волнения. Женский медицинский институт сделался центром волнующейся молодежи. Сюда собирались из всех высших учебных заведений. Но теперь я уже спокойнее ко всему относилась, ничего ни от кого не ожидала и говорила только то, что мне подсказывала совесть. И вот в один из таких моментов была объявлена забастовка для поддержания всего студенчества; к этому были присоединены различные страшные угрозы, вплоть до расправы револьверами. Нас строго предупредили, что ни одна слушательница не может на следующий день быть в стенах института: не только в аудиториях, но и в лабораториях и клиниках.
С каким тяжелым чувством мы разошлись! Слышали только, что директор предупредил депутатов: если никто не придет и лекции не состоятся, он вынужден будет сообщить об этом министру, а последний уже говорил, что Женский медицинский институт открыт как бы на пробу и еще не утвержден до окончания первого выпуска; если же «они будут устраивать бунты, то сейчас же закроем его». Но эти слова директора нисколько не подействовали на депутаток, они с прежней смелостью требовали проведения забастовки. Им не был дорог наш институт, у них были другие цели. И так мы разошлись.
Что это была за тревожная ночь! То, к чему мы стремились и чего достигли с таким трудом, мы должны были потерять по какому-то безрассудству и насилию. Сердце у меня загорелось негодованием от такой несправедливости. Помолившись Богу, я успокоилась на твердом решении идти завтра, хотя бы и быть там одной (да я и не надеялась, что кто-нибудь после таких угроз рискнет пойти). Своих мыслей я никому не высказывала. Рано встала. Приготовившись, как на смерть, оделась, надела форму, приложилась к образу Божией Матери, прощаясь со своей жизнью. Сказала старичкам-хозяевам: «Прощайте» – и подумала, что ведь они и не подозревают, что я расстаюсь с ними навсегда. На пути никого не встречаю. Вхожу в швейцарскую. Добродушный швейцар взволнованным голосом спрашивает: «Что же вы пришли, ведь вас застрелят, там за углом стоят с револьверами!» – «Это их дело, а я должна сегодня быть на лекции, иначе Медицинский институт закроют».
Профессора не пришли. У нас должна быть сейчас лекция профессора Соколова по детским болезням, иду искать – не пришел ли он в клинику. Действительно, он там. «Профессор, я пришла слушать лекцию». – «А кто-нибудь еще пришел?» – «Нет». – «Так как же?» Он, смущенный, испуганный, бледный, замялся. «Если у нас сегодня не будет лекции, то, как сказал министр, институт закроется». Перепуганный профессор начинает отказываться.
«Профессор, я требую, чтобы вы читали, иначе телеграфирую министру, что профессора сами устраивают забастовки». Он махнул рукой и сказал: «Пойдемте. Только что мне читать, прошлую лекцию?» – «Что хотите, что удобнее вам, лишь бы лекция состоялась». Взял девочку, над которой будет читать. Вошли в аудиторию. Я села на первую скамейку посередине, а он, бледный, трепещущий, начал читать мне одной. Как мне было его жалко: он хороший, добродушный.
Прошел первый час лекции: пока, кроме нас, никого не было, и все обстояло благополучно. «Делать ли перерыв?» – спросил профессор. «Нет, будем здесь, куда же расходиться, перерыва не надо». И профессор стал читать второй час. Но что это было за чтение: ни он, ни я почти ничего не понимали, только бы провести время.
На втором часу почувствовали, что кто-то вошел, – пришли несколько человек с первого курса, более мягких убеждений. Профессор ободрился, стал читать более громким голосом, и мне стало легче на сердце. Второй час закончился, и профессор, закончив лекцию, пожал мне руку и сказал: «Благодарю вас, что вы настояли прочесть лекцию в аудитории».
Мы дружелюбно попрощались. Я поблагодарила первокурсниц, которые пришли поддержать меня. Под конец лекции подошли две или три девушки с нашего курса. Пошла искать преподавателя, у которого были следующие часы с нами, – профессора Волкова, по внутренним болезням. Он держал себя гордо. И теперь, когда я подошла к нему (он был в своей клинике) и сказала ему, что прошу его читать лекцию в аудитории, он ответил: «Я имею право и здесь читать» – и начал лекцию над больной, которая лежала в постели.
Теперь я была не единственной слушательницей, подошли, кроме тех двух или трех, еще несколько человек, и мы могли спокойно прослушать лекцию. Занятия состоялись, не было причин к закрытию, а в дальнейшем все пошло обычным порядком. Никто о забастовке не упоминал, как будто ничего и не было.
Начались экзамены. Время экзаменов я всегда любила, еще когда была девочкой. И здесь мне не очень трудно было учиться, тем более что я не пропускала ни одной лекции и вела записи. Учиться для меня было большим удовольствием, тем более что стремление стать хорошим врачом придавало силы. Экзамены проходили в виде беседы с профессором, так что они даже были интересны. Особенно мне нравилось беседовать с профессором Феноменовым. Он умел предлагать вопросы так, что на них было легко отвечать. Про него я часто думала: какой это замечательный человек, ему бы не профессором быть, а епископом. Книга его «Хирургическое акушерство» написана удивительно талантливо и увлекательно, эпиграф к ней взят из книги Бытия. Я не знаю лучшего учебника по медицине, несмотря на то что она посвящена такому предмету. Я готова была не один раз сходить к нему на экзамен и удивлялась, что другие шли с таким страхом и неудовольствием.
Интересно было и у профессора Бехтерева, но здесь я была смущена: профессор предложил мне остаться в его клинике ассистентом. Надо было бы принять это за честь для себя, а я как будто испугалась: «Нет, не могу, я всегда стремилась в земство и готовилась для этого».
Поездка к родителям. Исцеление мамы от чудотворного образа Божией Матери Касперовской
Все экзамены прошли хорошо. Но ведь чтобы получить врачебный диплом, надо еще осенью выдержать государственный экзамен.
Во время моей учебы в Медицинском институте в Петербург приехала моя подруга по Московскому Александровскому институту Наташа Лепер (Юрьева). Мы сидели с ней за одной партой; она была первая ученица, а я вторая.
Кровати наши в дортуаре стояли рядом, так что мы были дружны. Она особенно хорошо ко мне относилась. Узнала, что я в Медицинском институте, и приехала. Теперь она была уже замужем за доктором Лепером, военным врачом; в семье его царила особенная дружба (брат семейный и две сестры-девушки). Сестры его беззаветно любили, да и он был замечательно хороший человек.
Он приехал работать над диссертацией в Медицинский экспериментальный институт к профессору Павлову. Вместе с ним, также для работы, приехал земский врач Пономарев. Они с Наташей бывали у меня, и я у них. Врачи пригласили меня поработать в экспериментальном институте: я заинтересовалась и в свободные часы отправлялась туда с ними. Они занимались различными исследованиями над собаками. Собаки были с фистулами, и надо было следить за желудочным соком, который изменялся в зависимости от различных условий.
Чувствовала я, что Наташа, которая сама вышла за врача, и мне желает того же. Но ведь я дала слово всецело посвятить себя медицине, как же я буду сворачивать с дороги? Они уговаривали меня, чтобы после весенних экзаменов до осенних государственных не уезжать на лето домой, а ехать в земство помогать доктору Пономареву. [Вспомнив об адресе, который мне дал оптинский старец отец Венедикт, я написала ему короткое письмо: «Ехать ли мне помогать врачу или отдыхать?» Он ответил: «Только не выходи замуж». Но так как их предложение имело именно эту цель, то я, конечно, не поехала,][1]1
Текст, выделенный редакцией в квадратных скобках, хронологически выпадает из общей последовательности повествования.
[Закрыть] а отправилась домой, где я была так нужна. Мы разъехались по домам. Я спешила в Одессу, где меня ждали мои слабые родители. Брат с полком еще оставался на острове Крит. Отец с денщиком поехал в имение в Смоленской губернии, а мы с матерью еще несколько дней оставались в Одессе.
Мамочку я застала слабой, больной: она не вполне еще оправилась после болезни. Зиму они провели плохо. Случилось так, что пришла одна нищая женщина, ведя за руку детей. Женщина рассказала о своем плачевном положении, что ей приходится скитаться по сараям, а теперь настали необычные для этой местности холода, и вот она стала просить оставить ее в передней. Мамочка сказала ей, что передняя без печки, но это, конечно, не остановило бедную женщину (ей приходилось жить в гораздо худших условиях, она говорила, что они все равно не раздеваются). И наконец уговорила мою мамочку: они остались в передней. В сильные холода невозможно было равнодушно смотреть, как они замерзают, тем более что дети были больны. Так что мама моя вынуждена была держать свою дверь открытой, потому и у них в комнате было холодно.
В таких условиях им пришлось прожить всю зиму. А главное, помимо всего этого (только теперь, при нашем свидании, мама рассказала мне), она заболела: у нее сделался нарыв в животе, опухоль видна была даже снаружи, был сильный жар, она лежала в постели, и пришлось позвать доктора, который сказал, что здесь необходима операция, и назначил день, когда он придет с инструментами.
Наступил назначенный день. Несмотря на страшную слабость, мамочка собрала все свои силы, кое-как сползла с постели к комоду, чтобы вынуть чистое белье, и легла в постель. Посмотрела в окно и заметила, что там толпится народ. Спросила, что это значит. Ей ответили, что через их двор проносят чудотворную икону Божией Матери Касперовскую.
Мамочка попросила, чтобы занесли к ней. С умилением и слезами молилась она и просила помощи в предстоящей операции. Повернулась, и гной в громадном количестве хлынул из прорвавшегося нарыва. В это время приехал врач с инструментами и сказал, что здесь уже все сделано, и только перевязал рану. И теперь я встретила свою мать больной до крайности. Но мне об этих обстоятельствах она не писала, я все узнала только при свидании.
Побыв несколько дней дома и собравшись в дорогу, мы с ней решили ехать на дачу, куда раньше уже поехал отец.
В день отъезда пошли к обедне в собор. Выйдя из собора, я заметила в ограде киоск, в котором продавались книги, а по колонкам были развешены портреты царской семьи и образки. Я стала их рассматривать, думая что-нибудь купить для деревни, и как-то невольно обратила внимание на продавца: поля своей черной шляпы он вывернул и опустил вниз, мне это почему-то бросилось в глаза.
Потом мы отправились на вокзал к поезду. Я встала в очередь перед билетной кассой. За мной стал какой-то человек и сказал: «Я буду за вами, а пока отлучусь». Вскоре он пришел и о чем-то заговорил: это был продавец из киоска. Взяла билеты, сели в вагон. Жара невыносимая, да и хлопот было много, и я пошла проветриться на площадку. Вижу, что около меня очутился тот продавец из киоска, которого я видела утром, только шляпу он оправил, подвернул поля как должно, и вид у него стал другой, не такой простоватый. И сразу, как знакомый, он начал со мной разговор. Увидев, что я учащаяся (я всегда носила простой костюм и сейчас была в темно-синей косоворотке; чаще всего мы всё шили с матерью сами, мне доставляло удовольствие с нею посидеть и поработать), он стал уговаривать меня ехать с ним на Волгу, где, как считалось, были эпидемия и голод.
Он вез с собой ящик с революционной литературой. «Туда много наших учащихся поехало, поедемте со мной и вы». – «Как же в киоске вы развесили иконы и портреты царской фамилии, а говорите о революционной литературе?» – «Это только для вида, а на самом деле мы везем революционную литературу. И столовые устроили только для того, чтобы удобнее было агитировать». Я объяснила ему, что придерживаюсь совсем другого направления, но он все надеялся обратить меня на свой путь.
Доехали до Киева, прощаемся с ним, а он не хочет нас оставлять. Стал спрашивать, куда мы. И когда я ответила, что в Лавру, то сказал, что и он хочет туда. Взял наш чемодан и сопровождал до Лавры.
В номере нам подали постное, и он ел с нами. Потом мамочка отдыхала. Когда мы пошли в церковь, он никак не мог остановиться и все добивался моего согласия. Наконец, я ему твердо, даже резко сказала: «Скорее вы перейдете на нашу сторону, чем я на вашу», и ему пришлось попрощаться; но до самого последнего момента повторял, что если надумаю, то чтобы написала. В Лавре мы поговели, побывали в пещерах у святых мощей и поехали к себе в деревню. Сразу же начали хлопотать о постройке нового дома. Старый уже сгнил, крыша текла, под полом образовались муравейники.
Помню, приехал в соседнее имение к тете двоюродный брат, с которым мы никогда не виделись. Мы с ним поговорили на званом вечере, а на другой день он приехал к нам и говорит: «Теперь я вижу, почему у Саши такое настроение, – здесь у вас земной рай, красота какая!»
У отца сделался легкий удар. Хотя он и ходил, но стал плохо слышать и вообще очень осла бел. Мама после болезни тоже была слаба, и мне пришлось взяться за починку дома самой. Но Господь помогал, так что все хорошо проходило. Плотники оказались очень хорошие люди. И я только просила их, чтобы они делали по совести, так как мы в их работе не понимаем, а отец слабый. Я сама и план составляла, и лазила по лесам. В праздничные дни я давала им книги или сама читала. Угощение было без водки. Они как будто и сожалели, но смирялись. Все они были верующие, особенно главные. Кончили, и мы с ними по-дружески расстались. Нашли хорошего печника, а приборы я должна была прислать из Москвы, когда поеду на государственные экзамены в сентябре.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?