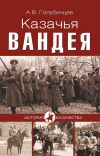Читать книгу "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Еще не получив ответа, он стал уже звонить по телефону. Видно, ему очень хотелось устроить это дело. А он хорошо меня знал, так как уже по окончании института, когда я оставалась для практики, мы с ним работали еще в Обуховской больнице. Но как же я могла оставить свое земское место, где все ко мне относились как родные? Кроме того, в моих мечтах уже складывалась мысль о том, не следует ли поехать в общину во имя Христа Спасителя. Хоть и неприятно было, но пришлось решительно отказаться.
Съезд продолжался несколько дней, на нем я встретила своего учителя по Московскому институту, зоолога, профессора Зографа, и, конечно, своих петербургских профессоров. Неожиданно повидалась с доктором Протопоповым, с которым мы когда-то расстались в Одессе навсегда. Он сказал мне, что женился на сестре милосердия, которая с ним работала, и у них есть дети.
На съезде можно было почувствовать два разных направления: материалистическое и идеалистическое. Душою я была всецело на стороне второго, и все доклады этого направления были мне по душе. Вот только позабыла я сейчас все имена докладчиков.
Кроме съезда и Медицинского института, в первую очередь, конечно, я поехала в Иоанновский монастырь на реке Карповке. В вагонах меня неприятно поразило настроение публики. Прошло так мало времени, а как все изменилось! На мою просьбу кондуктору сказать мне, когда будет остановка против монастыря некоторые между собой делали возмутительные замечания, говорили: «Вероятно, это иоаннитка».
В этот свой приезд я много раз побывала на могилке глубоко чтимого батюшки Иоанна. Не пришлось мне лично беседовать с дорогим батюшкой, хоть теперь постараюсь чаще бывать на его могиле. Мне нравился этот маленький храм-усыпальница, куда любящие батюшку приносили живые цветы и украшали мраморную плиту и все вокруг…
Однажды в трамвае я увидела севшего со мной рядом негра, совершенно черного, с блистающими белыми зубами, высокого роста, одетого в монашескую рясу, в камилавке (греческого фасона), с золотым крестом на груди и с четками. Я очень заинтересовалась, не выдержала и спросила, откуда он. Он ответил, что он православный монах из Нью-Йорка, там есть православная миссия, а едет он в Троице-Сергиеву Лавру помолиться. Говорил он хорошо по-русски, вполне правильно. Мне приятно было видеть, что есть и негры монахи.
Как-то еще раз, ехавши из монастыря, я сидела рядом с одной сестрой милосердия. Она была, конечно, в своей форме, и на груди у нее был большой золотой крест (в Петербурге была такая община, где все сестры носили большие кресты), но она как-то прикрыла его кончиком косынки. Мне это сделалось неприятно, и я сказала ей: «Сестрица, какая вы счастливая, у вас на груди такой крест, как бы я была счастлива, если бы у меня был такой». Не помню, что она на это сказала, может быть, сейчас пришлось выходить.
Я вышла на тротуар, и со мной поравнялся сидевший против нас уже немолодой, очень приличного вида господин. Заговорил: «Вы меня очень заинтересовали, откуда вы?» Я сказала, что я на короткое время приехала сюда из Смоленской губернии на съезд, я земский врач. Он еще больше заинтересовался, прошел мимо своего министерства, чтобы продолжить разговор. «Наш Государь теперь очень озабочен, – говорил он, – тем, какие бы принять меры, чтобы народ не страдал от пьянства. Он очень, очень озабочен этим. Мы собираем различные проекты по этому поводу. А вы среди народа, вы нам скажите свое мнение, свои наблюдения, которые для нас будут очень ценны». Довольно поговорили мы с ним, он дал свою визитную карточку в министерство (вероятно, внутренних дел), просил, когда смогу, чтобы зашла, и мы расстались. Но мне никак не удалось побывать у него, тем и закончилось наше знакомство.
Мне надо было спешить домой. Здесь снова началась обычная работа. Как-то случайно, после очередного съезда врачей нашего уезда, один из них зашел к нам на ужин. Он еврей, но мало похож, жена с двумя девочками недавно его оставила. Мне его было жаль, о нем всегда говорили, что он хороший врач: к населению он относился очень участливо, а на больницу смотрел как на свое детище, очень хорошо ее оборудовал и много говорил со мной о медицинских вопросах. Видно было, что врач знающий и любящий свое дело, весь ушедший в него.
Вдруг на другой день к нам приходит никогда у нас не бывавший (я о нем только слышала и видела издали) один из помещиков нашего уезда, как я знала, имеющий большой авторитет. Еще довольно молодой, лет сорока с чем-нибудь, неженатый; знала еще про него, что если приезжал архиерей, то этот помещик первый радушно приглашал его. Кажется, Суворова, с которой я некоторое время жила в пансионе, была его родственница. В его имении есть земская больница, и вот он приглашает меня сменить то место, которое я имела в городе, и поступить в его больницу. Он мне рассказывал о разных удобствах, которые встретят нас там: хорошая природа, большой сад и огород будут к нашим услугам, больница очень хорошая (о ней-то и говорил вчера приходивший доктор). Я ему сказала, что нам это будет не очень удобно, далеко от железной дороги (это имение было приблизительно около того места, где жили в Рославльских лесах пустынники, которые когда-то основали Оптинский скит).
Много очень хлопот с переездом, укладкой вещей и с перевозкой, а мать моя слабого здоровья. Но он продолжал уговаривать и говорил, что мы сами можем совсем не хлопотать, он пришлет своего опытного лакея, который все уложит и перевезет, а для нас пришлют карету, и переезд не будет особенно заметен. Незаметно будет и дальнее расстояние, так как всегда в нашем распоряжении будут его лошади и экипаж. Но чем больше он уговаривал, тем больше я беспокоилась.
Никак не могла принять я это место – главное, потому, что оно уже было занято вчера приходившим врачом, и я понимала, как оно для него дорого: он устраивал больницу и любил ее. Наконец ушел этот помещик, но с тем, чтобы мы с мамочкой подумали и решили. Тем более что там лучше воздух.
Ни на одну минуту я не могла представить, как бы можно было из-за меня удалить этого врача, и решила, что мне нужно скорее уходить из этого земства. И поэтому сейчас же написала Амбразанцевой-Нечаевой, которая открыла общину в Симбирской губернии (небольшая станция Новоспасское) и нуждалась во враче. Ответ пришел благоприятный, она ответила: «Очень рада, но хотелось бы посмотреть друг на друга и поговорить лично».
Взяла отпуск на несколько дней и отправилась. Мамочка была согласна со мной во всем. Наступила сырная неделя, надо было спешить, чтобы к первой неделе Великого поста возвратиться.
Община во имя Христа Спасителя в селе Новоспасское и ее настоятельница
Отправилась. На станции Новоспасское приятно было увидеть очень большой, художественно исполненный образ Христа Спасителя. К поезду пришли люди с лошадьми от Амбразанцевой, и мы поехали. Было еще светло, когда подъехали к общине.
Везде новая деревянная постройка, отличающаяся крайней простотой; все обнесено простым, новым, высоким плетнем. Вышла матушка настоятельница, светлая, сияющая, как Ангел Божий. Я входила с большим страхом, и она (как говорила мне потом) очень боялась этой встречи с незнакомым врачом. Тем более что и брат ей говорил (он был адъютант при Дворе): «Как бы ты не попала на врача-революционера».
Но вышло так, что после первых мгновений встречи мы обе почувствовали себя легко. Все окружающее и простота обстановки подействовали на мою душу так хорошо: я вижу здесь образ преподобного Серафима, и не было ничего такого, что бы могло смутить меня, как это было у ее подруги в Полоцке. После первых слов мы так расположились друг к другу, что здесь же и высказали свои опасения, которые были нам теперь даже смешны.
Матушка показала мне несколько больных детей (костным туберкулезом), которых пришлось принять еще до открытия больницы. Во время нашего разговора в отдалении сидела молодая особа, интеллигентная, красивая, которую матушка отрекомендовала как своего друга Татьяну М. Тогда я почти не обратила на нее внимания, слишком большое впечатление произвела на меня сама матушка Мария своим ангелоподобным видом и своей простотой в обхождении. Но через много лет эта встреча с ее молчаливым другом (мы тогда с ней совершенно не говорили) имела большое значение для нас обеих.
Я была очарована матушкой Марией: ее чисто христианским взглядом, ее отношением к сестрам, к больным. По уставу сестры не только должны были обслуживать больницу, но и ходить по домам, ухаживать там за больными женщинами, вести их хозяйство, обмывать детей, вообще облегчать домашнюю жизнь.
Село Новоспасское было очень большое, в нем было не менее десяти тысяч жителей. Там была земская больница. Но вот мать ложится в больницу, дети остаются с отцом или даже одни: какова их жизнь! В таких случаях посылается сестра, чтобы поддержать беспомощную семью. Кроме того, они несут все необходимое для больной и для ее детей, молоко, легкую пищу.
Какое это было благодеяние! Матушка Мария рассказала мне, что несколько сестер уже посланы к таким семьям.
Скоро настало время вечерней молитвы, и мы все пошли в трапезную. Молитвы читают по очереди сестры, а акафист Воскресению Христову (который полагался в этот день: вероятно, это было воскресенье перед масленицей) читала сама матушка. Мне понравилось ее благоговейное чтение, как и все в ней. Недаром владыка Гермоген Саратовский сказал про нее, когда она была на освящении храма в имении своих родственников: «Она от рождения монахиня».
А ведь она и ее сестра Татьяна вращались в светском обществе (отец ее был камергер Его Величества, а она с сестрой считались фрейлинами Государыни), зимой всей семьей они жили в Петербурге и во время торжественных приемов должны были являться во дворец. Но вся эта великосветскость их не коснулась. Бывали они на балах только по обязанности. Были они сами необыкновенно красивы, но главное, их одухотворенный вид освещал и согревал все вокруг.
Между прочим, однажды отец, проходя через зал во время бала, увидел свою Таню, окруженную поклонниками, но по виду такую печальную, и подумал: «Она в это время думает: как это вам для души, полезно ли?» Вскоре она поступила в монастырь, который основали в Риге, с помощью пожертвований Государя Императора, ее друзья, две сестры Мансуровы. Одна из них, старшая, мать Сергия, была игуменией, а вторая, мать Иоанна, была игуменией устроенного там же скита. Монастырь имел строгий устав. В него и поступила Татьяна Амбразанцева-Нечаева. Часто печальная прежде, среди светского общества, в монастыре она совершенно изменилась. Родные, приехавшие ее навестить, были удивлены: радостная улыбка не сходила с ее сияющего лица; видно было, что дух ее удовлетворен такой обстановкой. Она скоро получила монашество – мантию, с именем Никоны, и всегда была помощницей игумении Сергии.
Здесь, пожалуй, придется мне рассказать о ее кончине. Точно не знаю, когда она была арестована со многими другими сестрами, кажется, и с игуменией Сергией. Сосланы они были в Среднюю Азию. Схиигумения Сергия заболела дизентерией и скоро умерла. Мать Никона тоже заболела дизентерией и вместе с некоторыми своими сестрами была помещена в местную больницу. Положение ее было очень серьезное, ожидали смерти. Рядом лежала сестра (которая по возвращении и рассказала все это), она заснула и видит это самое больничное помещение, а посреди палаты стоят несколько дев в светлых одеждах с золотыми митрами на головах. «И узнаю я, – говорит она, – лица все знакомые: сестры нашего монастыря. А тайный голос говорит: “Это все посвятившие себя Богу”. И вижу я, в это время из двери выходит еще одна, в такой же белой одежде и с таким же золотым украшением на голове, а стоящие девы восклицают: “Вот идет наша радость!” Да ведь это же Амбразанцева, мать Никона, которая лежит рядом со мной, узнаю я. Просыпаюсь и вижу, что мать Никона умирает, делает последний вздох».
Расскажу, что пришлось услышать урывками о том периоде жизни настоятельницы Марии, который предшествовал нашему личному знакомству. Она была на несколько лет младше своей сестры и отличалась необыкновенной привязанностью к матери. Как-то она сама сказала про себя: «Я, как собачонка, не отходила от матери». Мать заболела тяжелой болезнью: опухоль в позвоночнике, в шейной области. Опухоль, вероятно, была не злокачественной, но причиняла больной много страданий, она была парализована.
Вот здесь-то и проявилась с особенной силой та горячая любовь к матери, которая заполняла сердце маленькой Марии. Она была теперь взрослой и всецело посвятила себя уходу за матерью. Сама она была очень молчалива, и если я узнавала что из ее жизни, то случайно, отрывисто. Например, не очень давно, года два или полтора назад, одна знакомая, между прочим, рассказала мне: «Отец мой и Амбразанцев были друзьями; мы жили тогда по зимам в Москве. Мать моя меня, молоденькую девушку, отправила в Петербург, чтобы я познакомилась с ними и посмотрела на девушку, которая всецело предалась уходу за больной матерью. “Этот высокий пример будет полезен для твоей души”, – прибавила мать».
Но это между прочим; дальше расскажу, что знаю.
После смерти матери Мария Алексеевна готовила себя к предстоящим трудам. Прошла курсы сестер милосердия с таким успехом, что лучше ее едва ли кто мог ухаживать за больными. Духовным отцом ее был старец отец Алексий Зосимовский. С его благословения она составила устав общины во имя Христа Спасителя и по его же благословению начала все устраивать в имении брата (у нее был единственный брат, он приезжал только несколько раз в год в свое имение).
Здесь был старинный двухэтажный дом, в котором сохранилась память приезда Императора Александра I: бокал, из которого он пил. Здесь хранилась икона в золотой ризе – благословение Императора Александра II вступающим в брак родителям матушки, а под образом стоял золотой ковчежец с платком, омоченным в крови Императора-мученика. Отец матери Марии горячо любил своего Государя и как великую драгоценность хранил его кровь. Брат глубоко любил свою сестру Марию, как он ее называл. И вот после смерти матери (отец умер гораздо раньше) брат, с помощью друзей-врачей, уговорил сестру отправиться на всю зиму из Петербурга в Крым, так как заметно было, что ее здоровье ослабло. А до ее отъезда брат послал своего управляющего, очень ловкого человека, с большим багажом вещей, чтобы все устроить для сестры, не говоря об этом ей самой. Привезли именно все те вещи, которыми была обставлена ее комната в имении (даже и портреты).
На новом месте все было расставлено так, как она привыкла, как ей нравилось; туда была также отправлена серебряная дорогая посуда. Приехала туда и их старая домашняя прислуга. Так что благодаря нежным заботам брата, она здесь, вдали, чувствовала себя отчасти как дома.
План устройства общины, когда она отправлялась в Крым, уже созрел в душе матушки. Раньше она уже ездила несколько раз к отцу Алексию Зосимовскому и взяла у него благословение на начало. Брат сочувствовал ей, поручил своему управляющему готовить материал для будущей постройки. Она отправилась, как уговаривал ее брат, в Крым. Уединенная ее жизнь там, думается мне, как нельзя более была полезна для ее душевного укрепления перед таким великим делом…
У нее был друг – монахиня Нина, с которой я познакомилась в Полоцке и которая заведовала там училищем (но та была под руководством Полоцкого архиепископа).
Матушка Мария беззаветно любила мать Нину и благоговела перед ней; по временам они виделись: или матушка сама ездила погостить к матери Нине, или та иногда, хоть на короткое время, приезжала сюда. У нее матушка училась монастырскому уставу. На обратном пути из Крыма весь багаж был погружен на другой пароход, который попал в сильный ураган, и все вещи пропали. Матушка с радостью приняла это, как от Господа, избавившего ее от мшелоимства, от лишней роскоши и указавшего ей путь, по которому она должна теперь идти…
По другую сторону сада (по которому только восемь минут идти) начали строить здания общины. Помещения были самые простые, бревенчатые. Сначала был поставлен дом с большим мезонином, предназначенный для общежития матушки и сестер; затем кухня в связи с коридором и прачечная с баней. На восточной стороне усадьбы маленькая часовня с тремя окнами.
Когда это было сделано, матушка съездила опять в Зосимову пустынь и, получив благословение, сама перешла в общежитие и начала принимать сестер. В это время приехал брат, и они решили перед окончательным переходом матушки созвать всех родных и знакомых, устроить прощальный обед, и тогда она перейдет. Старый преданный лакей, который был в этом доме еще до рождения матушки, очень сожалел о ее намерении переселиться в общину, он все уговаривал ее не делать этого. Он с каким-то презрением относился к этим простым девушкам, которых принимала матушка, и считал это унижением для своей барышни.
Собрались гости в последний раз. Матушка исполнила это как свою обязанность и затем ушла из дома уже навсегда, не взяв оттуда ни одной вещи, даже иконы в богатых ризах все были оставлены. Вся дорогая посуда, серебряные подносы, скатерти были после гостей отнесены на чердак. Когда на другой день лакей пошел за ними – ничего уже не было. И это матушка тоже приняла с радостью, как указание для себя.
В общине она завела все простое. Даже постель, крайне простую, она покрыла темным ситцевым покрывалом поверх подушки; так же было и у сестер. Одежда – в будние дни серенькое платье с белым передником и косынкой; а в праздники – черные бумажные платья с белыми фартуками и косынками. У настоятельницы та же одежда, только вместо косынки белый апостольник, а когда она в церковь шла, сверх белого апостольника черное покрывало. Все это было благословлено батюшкой отцом Алексием Зосимовским.
Когда я приехала посмотреть, то сестер было немного, человек пять-шесть, все деревенские. Батюшка благословил принимать только таких, которые нигде до этого не были, чтобы не принесли ничего чуждого (если бы они раньше были, например, в каком-либо монастыре, они могли бы говорить: «Вот у нас было лучше» – и тем наводить смущение). Батюшка советовал принимать по три человека в келью (так и построено было помещение). Эти вновь поступившие уже были распределены: кто готовить, кто трапезницей, кто суточная чтица. Келейница у матушки, помню, назначена была молоденькая, маленького роста, до крайности молчаливая и смиренная.
Больница же только строилась, все в малом виде: для больных женщин на десять человек и на сорок человек детей от года до четырнадцати лет. Думала матушка иметь и родильное отделение, но батюшка сказал, что не надо. Для детей, кроме общей больницы, пришлось иметь маленькое отделение для заразных. Хоть еще и не было больницы, но пришлось уже взять несколько детей. Они были в тягость родителям и уговаривали матушку взять их. Так что, когда я приехала в тот первый раз, одна комната общежития была уже занята (временно) несколькими больными детьми. Были беспомощные дети с костным туберкулезом. За ними так хорошо ухаживали матушка и сестры!
Кругом была святая обстановка. Сама матушка необыкновенно нежная и вокруг себя создавала такую атмосферу. Внушала сестрам относиться к своим обязанностям как к святому послушанию – и это отражалось на детях: они не капризничали и вели себя как-то особенно смиренно. Я должна была приехать с осени, когда закончится устройство больницы.
* * *
Дома я рассказала свое впечатление о матушке и вообще об общине, и мы решили вместе с матерью, что это место по мне, – то, чего я так хотела. И кроме того, теперь можно было избавиться от уговоров переселиться в то имение, куда меня просили.
В течение этого поста мы с матерью ездили в Оптину и Шамордино. К нам уже было письмо оттуда, что матушка игумения Екатерина больна и надо ее навестить и, кроме того, много еще накопилось больных по монастырю. Не помню, на какой неделе Великого поста мы поехали.
Поговев в Оптиной пустыни, мы отправились в Шамординский монастырь. Осмотрела я матушку игумению: у нее была тяжелая болезнь, по-видимому, начался рак печени. Осматривала и всех больных, которых мне указывали. Навестила схимонахиню Марию, сестру Льва Николаевича Толстого.
Она радушно приняла меня и после того, как я ее осмотрела и дала некоторые советы, оставила у себя попить с ними кофе. У нее была своя келья, т. е. домик, выстроенный на ее средства, состоящий из нескольких комнат, с маленьким садиком и огородом. У нее было две келейницы: одна, младшая, готовила и подавала кофе, а другая, старшая, матушка София, интеллигентная, – сестра игумении Екатерины.
Здесь за столом разговор коснулся и брата ее, Льва Николаевича. Видно было, что она любила его, но много огорчений ей доставляло его умонастроение. Она сказала: «Я не люблю, когда Лёва, говоря о Боге, выражается так запанибратски; это меня очень огорчает».
В следующий мой приезд, после смерти Льва Толстого, мне пришлось посетить Шамордино, и, так как здоровье Марии Николаевны ослабело, потребовался медицинский совет. Матушка Екатерина тогда уже умерла. Меня опять проводили к схимонахине Марии.
Она встретила меня на ногах, так же радушно, но было видно, что здоровье ее сильно пошатнулось, и в ней произошла большая душевная перемена: она как-то совсем завяла, вероятно от этой глубокой скорби о брате. Я боялась касаться больного места, но как-то вышло само собой, что заговорили о Льве Николаевиче. Говорила и она, и ее сожительница, почтенная монахиня София. Рассказали они мне, как Лев Николаевич при ехал в Оптину пустынь 28 октября 1910 года, остановился в монастырской гостинице и при этом дал понять гостинику отцу Михаилу (впоследствии отец Мартиниан), кто именно он, как-то даже при этом так выразился: «Не боитесь меня принимать?..»
«Хотелось бы пойти к старцу, – продолжал он, – да он ведь меня не примет». Но отец Михаил успокаивал его и говорил, что «батюшка старец примет, никак нельзя сомневаться». Лев Николаевич пошел, но, постояв только на крыльце хибарки, внутрь не вошел… С тем он и уехал в Шамордин монастырь к сестре 29 октября. Там он остановился тоже в гостинице, а оттуда пошел к сестре. Он обнял ее и несколько минут рыдал на ее плече. Потом заговорил: «Как ты хороша, Машенька, в этой одежде… Как хорошо у тебя, как бы хотел я так жить». – «А что же, это легко сделать. Сейчас келейница сходит, возьмет подходящую комнату в деревне, и ты останешься здесь жить». Потом они остались одни и долго говорили. «Сестра, я был в Оптиной, как там хорошо! С какой радостью я надел бы теперь подрясник и исполнял самые низкие послушания и трудные дела, но поставил бы условием не принуждать меня молиться, этого я не могу». – «Хорошо, – отвечала сестра, – но и с тебя бы взяли условие – ничего не проповедовать, не учить». – «Чему учить? Там надо учиться. В каждом встречном насельнике я видел только учителя. Да, сестра, тяжело мне теперь… А у вас что, как не Эдем! Я здесь бы затворился в своей хижине и готовился бы к смерти: ведь восемьдесят лет, и умирать надо», – сказал граф.
Потом наклонил голову, задумался и оставался так до тех пор, пока ему не напомнили, что он кончил обед.
«Ну, а видал ты наших старцев?» – спросила сестра. «Нет», – ответил граф. Это слово «нет», по словам сестры, было сказано таким тоном, что он сознает свою ошибку в жизни. «А почему же?» – спросила сестра. «Да разве, ты думаешь, они меня примут? Ты не забудь, что исконно православные, крестясь, отходят от меня. Ты забыла, что я отлучен, что я тот Толстой, о которого можно… Да что, сестра, – оборвал свою речь граф, – я не горюю, завтра же еду в скит, к отцам, только я надеюсь, как ты говоришь, что они меня примут».
Келейница возвратилась сообщить, что комната найдена, и вечером проводила его на новую квартиру. В ночь приехали к нему дочь Татьяна с Чертковым и Феоктистовым, нашли его на квартире и насильно увезли. Утром келейница, посланная Марией Николаевной, пошла приглашать его пить чай, но его уже не было, и они с великой скорбью узнали о его внезапном отъезде. Из Оптиной запросили по телеграфу Святейший Синод, как поступить. И был ответ: чтобы старец выехал на станцию Астапово для увещания больного писателя. Отец Иосиф был в то время очень слаб, не выходил уже совершенно, и его заменил старец-скитоначальник, в то время отец Варсонофий. Он сейчас же поехал с казначеем Пантелеймоном.
На станции Астапово они застали Толстого, лежащего там больным, окруженного вражеской силой в лице Черткова и компании, которые уже умирающему читали газетные хвалебные панегирики и всячески поддерживали его в сатанинской гордости. Не впускали даже его жену, которая в великой скорби и слезах жаловалась на это приехавшему старцу, которого, конечно, тоже не допустили к умирающему. «Смерть грешников люта» – так оно здесь и было. Он умер 7 ноября 1910 года.
Говорили, что он претерпел неимоверные страдания. Чтобы облегчить их, врачу, бывшему при умирающем, приходилось постоянно впрыскивать морфий. Этот врач, чех (забыла его фамилию), приезжал первое время после похорон в Оптину и Шамордино и говорил об этих тяжелых, ужасных страданиях.
Через несколько месяцев я видела в монастыре Марию Николаевну. Печать тяжелых душевных переживаний, скорбь за погибшего, за душу несчастного брата резко на ней отразилась, она была как бы придавлена ею, и только посещение время от времени матушкой своего старца, отца Иосифа, хоть несколько умеряло эту невыносимую скорбь.
Не ясно ли, что перед смертью Толстой почувствовал какой-то перелом. Но было уже поздно, он слишком удалился от Господа.
Исполнилось предсказание Кронштадтского пастыря. Батюшку отца Иоанна спросили: «Может ли Толстой покаяться?»
«Нет, – отвечал он, – ибо он чрезмерно виноват хулою против Духа Святаго, а этот грех не прощается ни в сем веке, ни в будущем». И при этом батюшка отец Иоанн предсказал Толстому особенную кончину, как в действительности и случилось.