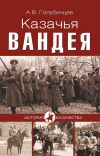Читать книгу "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
Однажды на прием пришла девушка-подросток, лет шестнадцати, с красивым цветущим лицом и большими, но грустными глазами, очень скромная, молчаливая. Пожаловалась она на свое сердце. Я стала ее выслушивать: беспорядочный шум в сердце оглушил меня. Никогда мне не приходилось встречать ничего подобного. Оно было увеличено до средней подмышковой линии. Это было так неожиданно при ее цветущем виде! Почувствовав, что у меня темнеет в глазах и начинается обморок, я оставила стетоскоп и спешно ушла в свою комнату, ничего не говоря. Здесь я легла, опустила голову к полу и пролежала несколько минут, подкрепилась и вышла. Назначила лекарство. Я не надеялась, конечно, на какую-нибудь помощь и отпустила ее, а она спросила, можно ли ей прийти еще. Я ответила, чтобы пришла, как закончит пить микстуру.
Сильное было у меня потрясение по этому случаю. Ничего подобного мне не приходилось видеть, и чувствовалась невозможность помочь.
Вечером, ложась спать, я спросила у своей прислуги (ведь она здешняя, всех знает) о новой пациентке. И та мне рассказала, что эта девушка – Таня – из соседнего хутора, у нее рано умерла мать; отец женился на второй, от которой у него несколько детей. У мачехи очень жестокий характер, всю работу она взвалила на эту молоденькую безропотную девушку. А работы у них много: кроме пахоты, еще крахмальный завод, много рабочих, для которых она должна выпекать хлеб (ежедневно по пуду), носить с рабочим в ушате воду из-под горы (как я потом узнала, однажды Тане нельзя было идти за водой, и ее сменила одна рабочая женщина, которая отказалась нести воду, сказав, что ей это не под силу).
Самовар приносила на стол сама Таня, а он был большой – в ведро. Кроме того, мачеха, когда у нее был грудной ребенок (а у нее их было много), с вечера отдавала младенца Тане, чтобы ей самой можно было уснуть, а Таня безропотно и кротко все принимала и самоотверженно все делала. Ночью она несколько раз вставала, шла во двор и смотрела, по какой причине лает собака: это было тоже на ее ответственности.
Как-то она сказала мне (хотя о себе говорила совсем редко, была необыкновенно молчалива), что когда выйдет ночью и ей что-нибудь покажется страшным, то она решительно идет на испугавший ее предмет и хватает его руками. Этим она отучила себя бояться сверхъестественного.
Весной во время разлива возникла опасность прорыва плотины (у них была и мельница), и Танечке часто приходилось туда бегать, даже ночью. Никто из домашних как-то не беспокоился за нее. Таня бежала, несмотря на невероятно сильное сердцебиение (у нее в детстве была скарлатина, и с тех пор она чувствовала тяжесть в области сердца), – теперь у нее был тяжелый порок сердца. Там, на плотине, она вместе с рабочими спешно закапывала навозом и землей опасные для прорыва места.
По окончании работы она в изнеможении ляжет где-нибудь в уединенном месте под кустом или в какой-нибудь уголок, и вот здесь у нее начинается рвота и головокружение. Никто не обращает на нее внимания, никто не спросит ее ни о чем, а она, кое-как оправившись, принимается за свои обычные дела. И все это молча, безропотно.
Удивлялась я ее характеру, а в душе благоговела перед ней (потом мы с ней жили вместе четырнадцать лет).
Наступало лето: здесь свои работы, например пахота. Танечка боронит после пахаря; пройдет один-два раза по ниве, сердце ослабеет, голова закружится: она ляжет на межу, и у нее начинается рвота. Оправившись – о пять за дело. Много, много было домашних дел у Тани, всех и не перечтешь. Да, вот еще и баню она топила по субботам для семьи и рабочих.
Узнав о Тане кое-что от прислуги, я прониклась глубоким состраданием к этой кроткой девушке. Вот пришла она во второй раз. Был жаркий день, а к вечеру разразилась сильная гроза. Вид у нее был ужасно болезненный, она вся дрожала от сильного сердцебиения, а ее губы и обычно румяное лицо имели синий оттенок. «Как она пойдет такая слабая, – подумала я, – да еще такая буря, гроза и дождь». И спросила: «Не лучше ли тебе остаться у нас переночевать? Ты никого не затруднишь, у меня помещение большое». Она с радостью согласилась.
На второй день ей тоже было плохо; я сказала ей, чтобы она не беспокоилась и была здесь сколько захочет, так как никого не стесняет. И она жила здесь, пока я была на этом месте и не свезла ее домой. Я, конечно, заботилась о ней сколько умела. Мне было приятно, что такой Ангел Божий поселился со мной. У меня самой от забот с больными не было аппетита, и я могла забыть о еде. Помню, как-то собралась уже спать и только тогда вспомнила, что Танечка еще не ужинала; мне самой совсем не хотелось, но ее я спросила, и Танечка ответила: «Мне бы хотелось». Мне так совестно было, что я чуть было не заставила ее голодать.
Отъезд из города Ельни и тяжелое расставание с больными
На мою просьбу освободить меня с этого места, где я уже совершенно изнемогала, не пришло никакого ответа. Приезжал член земской управы и уговаривал продолжать служить. Я сказала ему, что у меня сил уже нет; со мной все чаще делается дурнота во время приема. Дали мне совет меньше принимать больных, относиться к ним не так внимательно, но это было невозможно. И тогда я сама уже стала заботиться о враче, который бы мог меня сменить.
Прислуга узнала о моем намерении уехать и, несмотря на мою просьбу никому об этом не говорить, все разгласила. И вот мне стало еще тяжелее: приезжали не только те, кто действительно нуждался, но и те, которые шли с тем, чтобы спросить, нет ли у них какой-нибудь болезни, нет ли у их детей чего-нибудь ненормального, как вообще поступать в том или другом случае.
Стала я готовиться к окончательному отъезду. Сама отвезла Таню к родным, чтобы предупредить их, какое у нее слабое здоровье, как ее надо оберегать. Но здесь я увидела полное безучастие со стороны мачехи. Отец, правда, хороший человек, но он окончательно порабощен женой, она всем заправляет. На мои слова, как слаба Танечка, она небрежным тоном сказала: «Вам, верно, скучно без нее». После этого, конечно, не о чем было с ней говорить. И, прощаясь, я сказала уже одной Танечке: «Если тебе будет очень плохо и ты захочешь, то помни, что я всегда буду рада тебя встретить и поселить у себя, как бы ты ни была больна, а мои родные – добрые, они любят меня и во всем согласны со мной». Танечка, как всегда молчаливая, ничего не сказала, и мы расстались. Раньше мне не пришлось поговорить с Танечкой об этом, ведь я не знала еще вполне, в какой она живет обстановке и какой ужасный характер у мачехи.
Наконец из Смоленска приехал врач (еврей), желающий поступить на мое место. Тогда положение мое сделалось еще хуже. Моих уговоров, что приехавший врач более опытный, они не слушали и кричали: «Никто о нас лучше вас не будет заботиться», – требовали и умоляли, чтобы я сама их принимала.
Сдала я все новому врачу (ночью и между приемами) и наняла извозчика. Извозчик подъехал, погрузил вещи; выхожу, а здесь поднялся страшный крик, кричали на руках у матерей дети, кричали и взрослые, ставши по обеим сторонам дороги, хватали за ноги: «Глянь на Бога, что ты нас оставляешь?!»
Вся эта суета так меня растрогала, что я не могла удержаться от слез, начала принимать, весь день ушел на прием; извозчику сказала, чтобы он на другой день подъехал как можно раньше. Но народ собрался еще до рассвета, опять началось то же самое, еще с бо́льшим надрывом. Извозчик мне сказал тихонько: «Они вас не отпустят, в ожидании вашего выхода они щипали детей, чтобы те плакали, только бы вас остановить».
И вот пришлось сказать извозчику, чтобы он тихо подъехал ко мне с вечера к другому входу (где кухня), а на главной двери будет висеть замок. Так и сделали: часов в одиннадцать вечера он подал с заднего хода, и мы быстро поехали. Сделав небольшой крюк, мы поднялись на горку, откуда увидели дверь амбулатории. Около нее стояли люди и кричали нам вслед, но было уже поздно: мы быстро уехали.
По пути, как и обещала, заехала к Энгельгардтам. В последний раз я осмотрела свою пациентку девочку, а садовник, которого я тоже лечила, приготовил мне в благодарность (они слышали, что мать моя очень любит цветы) шестьдесят баночек с различными растениями и несколько букетов срезанных цветов. У них была замечательная оранжерея, он и она (Энгельгардты) очень любили растения. Например, у них была особая оранжерея с орхидеями, которая одна только стоила восемь тысяч, а это по прежним деньгам немало.
Я с радостью приняла такой подарок, который может порадовать и утешить мою мамочку, и в ту же ночь (чтобы лучше было цветам) отправилась дальше. Ехать надо было семьдесят верст, но ночью и лошадям лучше, и нам не жарко.
Родители были очень утешены моим приездом. Они со слезами говорили, как я изменилась за эти пять-шесть месяцев, даже голос у меня стал другой, совсем слабый. С любовью мамочка расставляла привезенные растения; действительно, она особенно их любила и обращалась с ними заботливо, как с живыми. Заметит, бывало, каждый вновь выросший листочек или бутончик и с любовью показывает мне.
Мы жили в новом доме, светлом, уютном. Скоро из Одессы приехал в отпуск брат, и мы решили при нем освятить дом. Пригласили из села священника, нашего духовника с детских лет, которого мы очень уважали; а сами украсили дом зеленью и цветами, как на Троицу. Что это за красота была! Приготовили и обеденный стол заранее и сговорились с братом, что сами будем угощать гостей. Было радостно и оживленно.
В то время как мы шли с братом за кушаньем, чтобы принести гостям, брат спросил меня: «Что ты, Саша, как будто опечалилась?» Правда, я в этот момент подумала: как хорошо все, какой красивый, удобный дом, но ведь это лишние цепи, которые притягивают к земле. Не помню, ответила я так или только подумала. Знакомые привезли фотографа и нас всех снимали. Брат сказал: «Станем с тобой», но одна знакомая встала рядом с братом и разъединила нас. Здесь, среди благоухающей природы, можно было очень хорошо отдохнуть. Брат должен был скоро уезжать обратно, а мы все оставались.
Прошло немного времени, и я получила письмо от Тани (она была грамотной, училась в сельской школе). В этом письме она со скорбью писала, что ей, верно, скоро придется умереть. Стала она работать в поле, и ей сделалось совсем плохо, непрерывная рвота и полный упадок сил; и вот она просит разрешения приехать к нам, так как зять (муж старшей сестры) готов ее привезти. Сейчас же я ответила, что пусть приезжает, ждем.
И вот через несколько дней приходит на террасу прислуга и говорит: «Там какая-то девушка, вся синяя, дрожащая, еле вошла на крыльцо, – спрашивает вас». Я сразу, конечно, догадалась, что это Танечка. Я была ей невыразимо рада, – ведь я часто думала о ней и жалела, что там ее оставила. У нас была отдельная комнатка, куда мы ее и поместили, старались чем можно скрасить ее жизнь. Танечка была такая хорошая, что перед ней можно было только благоговеть.
Она осталась у нас и прожила четырнадцать лет, до своей кончины. Как мне жаль, что я не могу всего выразить, всего того, что бы хотелось. Так мне хочется передать образ этой кроткой, светлой девушки с ангельской душой! Меня всегда поражало ее самоотвержение, ее серьезность и молчаливость, необыкновенная чуткость души. Какой у нее был чудный характер! Первое время она, как тяжелобольная, часто лежала, а потом постепенно окрепла, мало-помалу вошла в нашу жизнь и сделалась вполне членом нашей семьи. Она подходила характером к моей матери, которая тоже была молчалива и серьезна. Все мы ее полюбили.
Переезд с родителями в Одессу и поступление на службу в больницу
К концу лета брат написал нам, чтобы я не поступала здесь на место, а лучше бы приехала в Одессу: там открылась новая больница, где все было устроено по последнему слову науки. К тому же сюда принимали преимущественно недавно окончивших медиков и помещали в палату к опытным врачам, у которых можно было поучиться: они проверяли диагнозы и назначения молодых врачей, так что это являлось продолжением клиники. При больнице имелся роскошный анатомический театр и всякие усовершенствованные лаборатории, так что врачи могли проверять свои диагнозы на вскрытиях. Все это очень привлекло меня, и мы, посоветовавшись, решили всей семьей переехать в Одессу. Брат приготовил нам квартиру. Поручивши имение и нашу любимую лошадь хорошему крестьянину из своей деревни, мы поехали, взяв с собой, конечно, и Таню.
Правду писал брат, что больница там замечательная. Кроме старой городской больницы Красного Креста, только что была выстроена и новая – в предместье, называемом Романовка. Больница роскошная, действительно оборудованная по последнему слову науки, на пять тысяч человек, специально для рабочих. Все так хорошо устроено: даже двор, чтобы не было пыли, усыпан галькой на большую глубину. Нет ни сырости, ни пыли, а для красоты везде устроены куртины с замечательными розами, персидскою сиренью и другими цветами.
А про внутреннее устройство и говорить нечего: дежурные всегда наготове, так что через пятнадцать минут можно начинать какую угодно операцию. Посреди двора – общежитие для палатных врачей (их было около двадцати человек) и для сестер, которых было около трехсот. Кроме палатных врачей (недавно окончивших: им отдают предпочтение, так как такова цель больницы – усовершенствование врачей), в каждом отделении имеется еще старший врач или профессор, который приезжает из города.
Я немедленно подала прошение о приеме в эту больницу. Заведовал ею известный хирург – профессор Сабанеев. Операции его имени известны в учебниках по хирургии.
Сразу меня не могли принять, так как не оказалось свободного места, но обещали, как только оно откроется. Чтобы не терять времени, я пока для практики поступила в лабораторию Красного Креста. Вероятно, я там пробыла очень недолго: не осталось почти никаких впечатлений.
Помню только, я очень беспокоилась о том, что отпускаю домой больных с серьезными болезнями, а ведь они не будут исполнять должного режима (да это для них и невозможно в домашней обстановке). Тем более я была рада, когда вскоре меня известили об освободившейся вакансии в больнице на Романовке.
Больница эта от центра города и от нашей квартиры была довольно далеко – на электрическом трамвае три четверти часа езды. Надо было поселиться в общежитии для врачей. Там все были одни мужчины. Дом двухэтажный, комната моя в нижнем этаже. С одной стороны живет девушка, уборщица нашего общежития, а с другой находится ванная комната, которая была для меня одной; на этом же этаже – наша общая столовая. Комната со всем необходимым, постелью и постельным бельем.
На чай или кофе, завтрак, обед и ужин все должны были в определенный час собираться в столовую, по комнатам не полагалось.
Наверху зал, где была и читальня. Один из врачей был выбран хозяином. Между прочим, он заявил вначале, что надо повесить в столовой образ, но большинство не согласилось.
Когда я первый раз вошла в столовую (все уже собрались к обеду), то осмотрелась кругом и, не увидев образа, повернулась к востоку и три раза перекрестилась. Врачи демонстративно уставились на меня – видно, для того, чтобы смутить. Но я нисколько не смутилась, наоборот, мне захотелось еще резче выразить свое настроение. И так с их стороны продолжалось некоторое время, но потом они привыкли. Относились они ко мне с большим уважением.
Когда мне вскоре пришлось дежурить по больнице (надо было всю ночь не спать, обходить палаты, смотреть, все ли в порядке, и всякий раз являться по требованию сестры в палату, где нужна была врачебная помощь), то Н. С. Челнавский (он был выбран старостой) вызвался ознакомить меня со всеми обязанностями дежурного врача.
На первый год я была назначена в женскую палату по внутренним болезням, там было сто двадцать женщин и двадцать детей (для детей отдельная комната). Старшим врачом был очень хороший, опытный, уже пожилой доктор Кудрявцев. Из амбулатории нашей больницы присылались больные, распределялись по палатам, и я должна была присланных в нашу палату осмотреть, разместить и назначить лекарство, но пока дать только что-нибудь безразличное, вроде валериановых капель или чаще клюквенное питье с латинским названием, через два часа по ложке, если не требуется какой-либо экстренной помощи.
А уже на другой день утром приходил старший врач, осматривал больного, смотрел, что записано у палатного врача, и либо подтверждал это, либо объяснял новое в кабинете; то же и с лекарством. Так что все это было очень полезно для молодых медиков, они каждый раз подвергались проверке.
У нас с нашим врачом установились замечательные отношения, он все более и более доверял мне, и мы почти всегда сходились во мнениях. А если кто из больных умирал, то палатный врач со своим листом шел на вскрытие, где очень опытный прозектор вскрывал, объяснял и сравнивал то, что было написано у нас в больничном листе, с тем, что выяснилось на вскрытии. На эти вскрытия шел не только соответствующий палатный врач, но шли мы все, чтобы получить ту пользу, которую приносит вскрытие при сравнении с листом. Для того, чей был умерший больной, это было как бы публичное испытание, вроде экзамена.
Как бывало неловко тому, у кого лист не совпал с тем, что обнаружилось на вскрытии, – значит, плохо наблюдал за своим больным. Все исследования для наших больных делались в лаборатории, и мы принимали в них участие. У нас не было фельдшеров, все фельдшерские обязанности исполняли палатные врачи: так было устроено для пользы молодых врачей. Так что дел у нас было очень много, целые дни мы были заняты, но зато это было очень полезно.
Не хотелось мне уходить из палаты еще и потому, что она была женская: женщине как-то лучше быть в женском обществе. Особенно это сделалось для меня заметным, когда я, единственная женщина, очутилась в интернате, где были только мужчины. Бывало, вечером окончу дела в палате, и не хочется уходить; ужин в восемь часов, а я еще останусь, задержусь, прихожу в девять или в десятом, а врачи еще сидят в столовой: «Мы вас ждем, сегодня кушанье такое хорошее (какое-нибудь пирожное), без вас не хотим начинать». А сами начнут со мной разговор, и все больше о религии. Сидевший справа от меня доктор Н. М. Протопопов, такой серьезный, как-то даже заметил им: «Вы все время – и за обедом, и за ужином – пристаете к Александре Дмитриевне с вопросами о религии, у нас только эта тема разговора и бывает». Говорили также о больных.
Если у кого в палате интересный больной, все непременно перебывают там. Иногда у нас назначались вечера с туманными картинами (научными): по анатомии, по болезням. Один доктор назначен был показывать картины, а меня выбрали их объяснять. Бывали врачи, сестры милосердия, санитары и кое-кто из посторонних.
Медицинский персонал был у нас очень большой. Наша больница – это целый городок.
За стенами больницы, неподалеку, была скромная церковь – маленькая, деревенская, с оградой из валунов. Я как-то там была, но только один раз – мы все время были заняты. Имелись у нас лошади для хозяйственных надобностей, и, если бы мы захотели в театр или на какое-либо научное собрание, можно было поехать, для этого была линейка.
Как-то один из докторов подошел ко мне и начал приглашать в театр, а рядом стоящий доктор возразил: «Ты, значит, не знаешь Александру Дмитриевну, она с тобой ни о чем, кроме как о больных, не будет разговаривать». Ездили мы иногда и на медицинские собрания, но мне они были неприятны, так как разговор там всегда сводился на политику. Раз в неделю я, после утреннего обхода, ездила на трамвае к родным и возвращалась к вечернему.
Так прошел первый год моего пребывания в этой больнице, где мне помогал опытный и хороший доктор, принесший мне много пользы. Все, казалось бы, шло хорошо, но меня стала угнетать мысль: полезна ли такая служба для моей души?
Все врачи наперебой стараются выказать мне свое расположение, каждый чем-то помогает мне в палате: например, узнают, что у меня больной с асцитом (надо выпустить жидкость), и кто-нибудь непременно придет мне на помощь. Я была им благодарна, но в то же время думала: так они меня совсем избалуют своим вниманием и услугами, ведь я только начинаю служить, а что будет дальше? Полезна ли мне такая жизнь среди мужчин? Не объяснив родным причины, я только сказала, что хотела бы оставить это место. Они не возражали, для них все было хорошо, чего бы я ни захотела; а кроме того, приближалась весна, и мы все могли бы поехать в деревню.
Никому ничего не говоря, я окончательно собралась, занесла в канцелярию прошение об увольнении по семейным обстоятельствам и уехала, с тем чтобы больше уже не возвращаться. На второй день в нашу квартиру является доктор из нашего общежития (старше меня по годам) и говорит, что он прислан от всех врачей просить прощения, и при этом стал на одно колено (так ему было велено) и стал говорить, что, может быть, кто-нибудь меня оскорбил или сделал что-нибудь неприятное: «Если так, то мы все просим прощения и просим вас возвратиться к нам».
Я уверяла, что, кроме добра, мне никто ничего не сделал. Но не могла же я ему сказать, что именно это является причиной моего ухода. Все же я не могла отказаться и вернулась в больницу. Положительно, не было ничего предосудительного в таком обращении врачей со мной: кроме уважения и самого большого доброжелательства, я от них ничего не видела. Но я боялась за себя, чтобы я-то не привыкла к такому незаслуженному обращению.
В течение всего моего там пребывания никто не входил в мою комнату. А я ходила только из палаты в столовую и оттуда – в свою комнату. В зале-читальне я бывала, только когда меня приглашали на собрание. Вообще, там у меня не было минутки свободной.
Помню одну маленькую больную, лет восьми (но она была такая захирелая, еще меньше казалась на вид). Обойду я, бывало, всех больных и на прощанье еще раз подойду к ней, ведь у нее такая тяжелая, неизлечимая болезнь – туберкулезное воспаление брюшины. Но однажды я очень спешила и вопреки обыкновению не подошла к ней на прощанье, а в общем попрощалась со всеми и собралась уходить.
Вхожу в швейцарскую и вижу: за выходными первыми дверями стоит в уголку эта маленькая больная (ведь ей так трудно было пройти) и с такой любовью, со слезами на глазах прощается со мной; тогда я только поняла, какая любовь таится в этом маленьком сердечке.
С тех пор я никогда не проходила мимо ее кроватки, чтобы не остановиться и не поговорить с ней. Вскоре она умерла, для меня это было большое огорчение.
Итак, прошел уже целый год моего пребывания в этой больнице. По существовавшим здесь правилам я теперь должна была перейти в хирургическое отделение. Для меня, как собирающейся служить в земстве, это было необходимо: хирургические случаи там встречаются на каждом шагу, необходимо суметь сделать неотложную операцию.
Мой доктор уговаривал меня еще остаться у него: «Я намерен не долго служить, скоро выйду в отставку, вот тогда мы с вами и уйдем вместе из этой палаты». Но когда я рассказала о своем осознанном желании работать в земстве, он с сожалением, но согласился отпустить меня.
* * *
Не знаю, как это случилось, забыла: по жребию ли или по желанию профессора хирурга Дюбуше, но я очутилась в том отделении, которое являлось заветной мечтой для всех наших врачей. Это был молодой искусный хирург, применявший все новейшие методы и при операции, и при перевязках. Про него говорили, что это своего рода артист хирургии. По национальности француз; очень красив собой. Он был назначен сюда американским вице-консулом, так как являлся американским подданным. Первым ассистентом у него был приват-доцент Дитрих, а я стала вторым ассистентом и палатным врачом.
Теперь я попала в мужскую палату. Среди мужчин ведь больше хирургических случаев, а это было главное хирургическое отделение. Устройство здесь было идеальное. Дежурные хирургические сестры были наготове каждую минуту; они дежурили, как часовые, не отлучаясь ни на минуту. Вступая в дежурство, они принимали ванну, надевали все свежее и новое (от белья до обуви) и были там неотлучно. Это я говорю уже про ночь. Стоит только сказать врачу по телефону – и через четверть часа все уже будет готово, а больной привезен в операционную.
Доктора завидовали моему поступлению в это отделение. У профессора Дюбуше была еще своя частная лечебница, и когда ему там нужен был ассистент, то он приглашал меня, и даже платил: это было большой честью для палатного врача. А главное, как полезно было для практики: он показывал мне, как делать различные новейшие повязки (например, при туберкулезе позвоночника), накладывать корсеты и различные повязки при переломах, а уже в палате поручал мне показывать все это другим врачам.
Много очень удобных перевязок я научилась делать благодаря ему. Он говорил, что французские хирурги особенно искусны в изобретении повязок, и поэтому советовал мне побольше читать французские книги на эту тему; сам давал мне французскую хирургическую литературу о новых повязках. Он часто обращался ко мне (когда был в палате): «Будем говорить по-французски» – и переходил на свой родной язык, но я не решалась отвечать ему по-французски.
Работы у нас в хирургии была масса: операций по пятнадцать проходило в день. Частью приходилось ассистировать, а отчасти – хлороформировать. Это самое тяжелое: ведь больной полностью отдан на твое попечение. Хирург занят только самой операцией, ему нельзя отвлекаться, а ведь больной здесь на волосок от смерти: надо тщательно следить за каждым вздохом, за каждым биением сердца, он на границе жизни и смерти. И мало дать тоже нехорошо – помешаешь хирургу спокойно действовать.
Небольшие операции хирург поручал делать мне, а сам ассистировал. Все это было так полезно для неопытного врача, каким была я. Кроме того, мне было поручено накладывать печать на посуду с материалом для стерилизации, это очень ответственное дело. Теперь я уже как хирург дежурила на хирургической половине. Ночью надо было тщательно следить, нет ли случаев, которые должны быть немедленно оперируемы. Здесь уже дорога каждая минута. При виде такого больного немедленно говоришь по телефону дежурной сестре в хирургической операционной, чтобы все было готово, даешь знать палатному врачу и другим (приходят все, ведь всем интересно), а затем профессору Сабанееву, который жил при больнице. Через четверть часа уже все готово к операции, больной привезен…
Как-то так случалось, что в мое дежурство очень часто находили такого больного: сразу общая тревога и неотложная операция. Врачи и стали шутить надо мной: «Когда дежурство Александры Дмитриевны, хоть запирай свою палату, – непременно найдет больного, которого надо экстренно оперировать».
Однажды во время дежурства меня позвали к больному, о котором я только много слышала. Это был молодой человек высшего круга, к нему часто приезжала карета губернатора; выходили из нее и дамы с букетами. Вообще, о нем как-то особенно заботились – лежал он в отдельной палате. Болен он был безнадежно: острое воспаление брюшины. К нему входили только или профессора, или старшие врачи. Слышала я, что он вообще не может спать, и к нему обыкновенно призывали профессора. Но на этот раз позвали сверх обыкновения меня, дежурного врача по хирургическому отделению. Ноги у меня, как говорится, подкашивались, когда я шла туда: все наши светила ничего не могут поделать с его бессонницей, а я тут что же могу сделать? И в таком безнадежье шла.
Но, войдя, при виде больного я должна была собрать все свои силы и бодро поздороваться с ним. Он протянул руку, крепко сжал мою и не выпускал.
«Что же вы не спите?» – сказала я, а потом обратилась к медбрату, который сидел неподалеку, и сказала ему строго: «Вы мешаете ему, сейчас же ложитесь и закройтесь одеялом с головой». В один момент он юркнул под одеяло и закрылся с головой. Потом я опять, стоя на том же месте и не отнимая руки, сказала: «Спите, спите!» – «Буду спать, только не уходите, мне страшно засыпать». – «Я буду с вами, только спите». А у самой такое желание помочь ему, чтобы он хоть как-нибудь заснул, ведь он измучился. Я, боясь помешать ему, не отрывала руки. И вдруг что же? Слышу легкий храп спящего больного. В душе радость, что хоть на несколько минут уменьшаются его страдания, и в то же время что-то вроде страха, – я как будто остолбенела, боюсь даже дышать: не помешать бы ему. Держа руку все в одном положении, присела на стоящий рядом стул. Не знаю, сколько времени прошло в такой тишине, я готова была сидеть и сидеть – лишь бы он не страдал. Но потом он проснулся, и я ушла от него успокоенная тем, что он подкрепился пусть и коротким сном. Через несколько дней он умер.
Была у меня и детская палата. Как-то прохожу рано, до обхода по коридору, а по нему идет разносчик конвертов, бумаги и еще какой-то мелочи. Вижу, около него мальчик из моей туберкулезной палаты рассматривает бумажные образки. Я сказала: «Ты хочешь образок? Я куплю тебе в киоте, и лампадку». Приятно мне было смотреть на верующего мальчика, и я рада была случаю принести икону хоть в детскую палату (образов в больнице у нас, к прискорбию моему, не было), а тут представился случай. Купила образ Божией Матери и лампаду, и с этих пор в нашей детской палате висели икона и лампадка.
Профессор Дюбуше, наш хирург, все мне напоминал о французском языке, так как французы перевели все главные хирургические сочинения. И наконец, познакомил меня с одним студентом-практикантом, который бывал у нас на операциях, с тем, чтобы он в известные дни приходил ко мне: я читала – по-французски, а он объяснял непонятные слова.
Этот студент учился медицине за границей, в Парижском университете, и хорошо знал французский язык. У него была выдающаяся по красоте наружность. С него, мне кажется, была написана та картина, которая стояла на выставке в витрине главного книжного магазина на Ришельевской улице (по поводу Кишеневских беспорядков – «Погрома евреев»). Изображен он там, как изображают Спасителя, прекрасное лицо. Если не прочтешь надписи, то так и примешь за Спасителя. И вот мы с ним в свободное время читали новейшее из французской литературы по хирургии.
Профессор Дюбуше взял отпуск, и на это время его заменял ассистент Дитрих. Часто я видела, как Дитрих полушепотом говорил со студентами-евреями, злорадно упоминая имя Государя Императора. Случилась одна большая операция, ее делал профессор Сабанеев, главный врач нашей больницы. Вообще, на такую операцию еще не решались, это был первый опыт. Профессор Сабанеев придумал разные приспособления; подобная операция была первая во всем медицинском мире. И на нее собралась масса врачей; кроме наших палатных, сошлись все главные хирурги города.