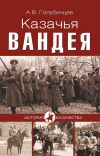Текст книги "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Испытания (1911–1914)

Болезнь и смерть матери
Настает время, когда мне надо вспоминать о болезни и смерти моей мамочки. Несколько первых лет (может быть, лет шесть) у меня на душе была такая скорбь, что доходило до физической боли. Прошло столько лет, столько печальных событий совершилось за это время, а эта скорбь не исчезла, и я со страхом записываю воспоминания о том времени.
Хочется мне передать все-все, что сохранила моя старая память.
На Святой неделе моя мать почувствовала боли в животе, которые часто у нее возникали после операции (у профессора Снегирева) и сопровождались сильной слабостью. Вот и на этот раз все повторилось, но уже в тяжелой форме: по пульсу и дыханию я почувствовала, что это уже смертельная болезнь. Я сказала об этом мамочке. «Хорошо, деточка, что ты мне сказала, теперь мне надо пособороваться и причаститься».
С необыкновенным умилением она молилась за елеосвящением и приняла святое причастие.
Мне хотелось навсегда запечатлеть ее слова, и я старалась их записывать. В это время приехал брат с семьей, которая поселилась неподалеку у родственников, а брат ночевал у нас и был почти все время с нами.
Тогда уже действовал закон не хоронить в церковной ограде, а мне так хотелось похоронить мамочку рядом с бабушкой (ее матерью) в ограде. Поэтому я написала просьбу епископу, которую и повезла в Смоленск наша знакомая Вонлярлярская. Возвратилась она оттуда и привезла мне разрешение и благословение от епископа Феодосия – складень серебряный небольшой, чтобы на шею надеть (посередине Черниговская икона Божией Матери, а по бокам – преподобный Сергий и Ангел молитвы).
Мамочка благословила меня этим складнем, и я с ним никогда не расставалась, надевала всегда наружу, чтобы мне всегда его видеть. Еще благословила и тем образком Воскресения Христова, который лежал у нее на груди во время всей ее болезни, продолжавшейся двенадцать дней.
Всех она благословила. К ней приходили и родственники, и знакомые, приходило много детей. Всегда такая молчаливая, теперь обязательно скажет каждому что-нибудь на пользу. Я ни на минуту не отходила от нее, стояла на коленях сбоку около изголовья.
И мне почувствовалось, что в это предсмертное время еще более прояснились ее духовные очи, даже физически обострился дух. Люди не всегда решаются сразу войти, но она уже чувствует и начинает говорить именно то, что надо этому человеку. Брат с женой привели своих детей: Севочке уже было года четыре, а Женечке второй год, ее поднесли для благословения на руках.
Лицо мамочки было оживленное, как и всегда, и поэтому приходящие говорили: «Разве можно при таком виде думать о смерти, она поправится». Боялась я, чтобы ее не смутили, не помешали такому хорошему, уже отрешенному от всего земного настроению: хотелось, чтобы ничто не возвращало ее к земному. Даже веер, предложенный для того, чтобы веять на больную, которой уже недоставало воздуха, я не взяла, – овеивала ее священными листками. Все время кропила ее крещенской водой.
Терпение у нее было необыкновенное – ни на что не жаловалась. Только раз, после укола в ногу, она забылась, а потом сказала: «Что-то вот ногу немножко больно». – «Прости меня, мамочка, ведь это я тебя уколола…»
Наши окна помещались низко, так что, когда приходили нищие и просили: «Подайте Христа ради», мамочка говорила: «Скорей подай. Как я люблю нищих! Ты, Сашенька, никогда не пропускай никого. Если нет у тебя денег или хлеба, то подай хоть конфетку, а если ничего нет, то хоть доброе слово скажи».
Кто-то прибежал звать к больному, но я душевно совершенно изнемогала и ни на одну минуту не хотела оставить мамочку, а она мне сказала: «Нет, не отказывай, ты будешь лечить, а они за меня помолятся».
Как-то, когда мы были одни, она сказала мне: «Все люди хорошие, лишь бы их поближе узнать. Чаще пиши брату. За тебя я не беспокоюсь, ты любишь людей, ты не будешь одинока».
Была в забытьи, а когда пришла в себя, то сказала: «Сашенька, если бы ты знала, как было хорошо, я не могу объяснить. Светло, светло!..» И про Николая Угодника помянула. Я спросила: «Хочется тебе умереть, мамочка?» – «Хорошо умирать, ко Господу идти, и с вами хорошо, мои детки. Я ведь оттуда буду видеть вас, буду смотреть на вас».
Наступило 23 апреля – мои именины. Некоторые родные и знакомые зашли, но так как я не отходила от своего места, то они принесли нам с мамочкой рюмки с вином и поздравили меня, пожелали мне здоровья. И помню я, в это время мне было так неприятно это пожелание здоровья; изнеможение, которое я чувствовала, мне было больше по душе, мне не хотелось оставаться на земле после мамочки, и я это высказала, а мамочка мне ответила: «Нет, живи дольше, ты будешь помогать больным, а они за меня помолятся».
Пришла наша знакомая, которая очень боялась смерти, и мама ей сказала: «Машенька, не бойся смерти, хорошо умирать с Господом».
Троюродная моя сестра Анна Вырубова (очень добрая девушка – любила очень мамочку) спросила, как ей жить, выходить ли замуж.
«Я желаю тебе так, как моей Сашеньке. Вон Евангелие, открой там, где заложен образок святой мученицы царицы Александры, там апостол Павел говорит об этом. Как хорошо благочестивой девице жить ради Бога. Мы с папочкой хорошо всю жизнь прожили, но все-таки я для своей Сашеньки всегда хотела, чтобы она благочестивой девицей жила».
Мне она никогда не говорила о замужестве, а я никогда не поднимала этого вопроса и только теперь узнала ее желание по отношению ко мне. Когда я давно еще заговорила о монастыре, она не отговаривала меня, но сказала: «А как же мы Танечку оставим? Она не выражает этого желания». И думаю, что ей жаль было и меня, и брата, что мы совсем уж отделимся друг от друга.
Она еще раз причастилась и 27 апреля 1911 года, в семь часов утра, когда зазвонили в церкви, скончалась.
Незадолго до смерти она сказала: «Мне не хочется, чтобы меня обмывали другие; ты сама, как всегда, оботри меня».
Я так и сделала и сама одела, только брат немного помог мне. Надела ей свое белое платье, в котором я причащалась, и положила ей на грудь пальмовую ветвь, которую привезла из Иерусалима одна наша знакомая и давно нам дала. На второй день мы отнесли ее в храм, где было отпевание, а оттуда усопшую повезли в наше имение.
Запрягли нашу любимую лошадь, которая везла и отца, брат вел ее под уздцы. А наш духовник, уже очень преклонных лет, изъявил желание сопровождать гроб двенадцать верст пешком.
К вечеру донесли до имения, там гроб стоял в нашем доме, все крестьяне прощались. А утром направились к обедне в село Кузнецово за шесть верст. Навстречу нам вышел духовник с крестным ходом и хоругвями, и я удивлялась, что лошадь, такая пугливая, все время была спокойна.
На погребении, на обедню, батюшка хотел надеть черное облачение, новое, только что сшитое, но я попросила его надеть белое.
Ведь первые христиане на смерть смотрели как на радостное событие, переселение к Богу.
Батюшка с такой любовью относился к мамочке и ко всем нам, ведь он был наш первый духовник, он нас детьми благословлял на путь, когда мы из дома уезжали в первый раз в учебные заведения. И мы, дети, глубоко уважали его.
До шести недель я оставалась в имении, чтобы ежедневно ходить на могилу. Здесь уже были похоронены бабушка и отец, но ограда была большая – для всех нас. Служба там была не каждый день, как вообще в селах. За это время я только раз отлучилась, ездила в Смоленск, чтобы заказать новое облачение для священнослужителей – к сороковому дню – и памятник на могилу.
Когда была там, где делают памятники, то видела среди других еврейские, в виде тумбы, и наверху пятиконечная звезда. Заходила к просфорнице, которая печет просфоры на все церкви города, и просила ее для нас сделать по просфоре в каждую церковь о упокоении рабы Божией Евгении до сорокового дня.
Каждый день, живя в имении, я вставала чуть свет и еще до восхода солнца, взяв бутылку воды и кусок хлеба, отправлялась на кладбище. Идти туда шесть верст; прежде я боялась бы, но теперь у меня не было страха, мне казалось, что мамочка неразлучно со мной.
Там на могилке я читала Псалтирь и потом красила ограду. Красила я самой маленькой кисточкой, которая у меня нашлась, для рисования, мне не хотелось большой, я хотела красить все шесть недель. Уходила я в сумерки, возвращалась часов в одиннадцать, когда уже все спали.
Пока я там жила, то почти никого не видала: так рано я ежедневно уходила.
Мне было так тяжело, что не могу даже и выразить. Те, кто был при церкви, – сторож и церковнослужитель – думали, что я там и жить останусь. Впоследствии я всегда приезжала сюда ко дню кончины, где бы ни служила. От скорби я не могла свободно дышать, мне что-то теснило грудь.
Брата с частью полка (батальоном) командировали в Петербург нести службу. Зная мою скорбь, он написал мне, чтобы после сорокового дня я приехала к нему, у него есть хорошее помещение. И я поехала.
Там я ежедневно ходила к обедне в храм Воскресения. Она начиналась поздно, в десять часов, пели солдаты. Я приходила перед обедней, а брат освобождался в десять с половиной часов и тоже приходил. Очень хорошо служил отец Николай Антонов, благоговейно. После обедни обязательно совершал панихиду. Трогала меня до слез молитва, которую он произносил по окончании панихиды – таким хорошим тоном, с особенным чувством… И я даже в конце концов решилась попросить его написать мне эту молитву: «Господи сил, скорбящих Радосте, и плачущих Утешение, и всех в малодушии сущих Заступление, плачем усопших содержимыя Твоим благоутробием утешив, всякую болезнь, лежащую в сердце их, исцели и раба Твоего в надежде воскресения и жизни вечныя, усопшего в недрех Авраамовых упокой. Яко Ты еси Воскресение, и Живот, и Покой усопшего раба Твоего… Христе Боже наш и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Вообще, я думала, как я буду работать с таким тяжелым настроением. Время для меня как бы остановилось. Например, утром придется написать мне рецепт, пишу и ставлю число; через несколько часов снова пишу, но мне уже кажется, что прошло слишком много времени и я должна писать уже следующее число; и если еще, то мне невольно хочется написать уже третий день; вообще, только усилие над собой, сознание, что в теперешнем состоянии время у меня как бы остановилось, заставляют меня удержаться и написать правильное число.
И думалось мне: вот если бы мне удалось поступить врачом в Белгороде при открытии мощей святителя Иоасафа, с его помощью я начала бы работать. Посоветовавшись с братом, пошла в департамент подать заявление о принятии меня врачом при открытии мощей, которое предполагалось 4 сентября 1911 года. Какой-то господин принял от меня прошение и сказал: «Вы, вероятно, будете приняты, так как никто еще не подавал». Спросила я его: «Ничего, если я отлучусь на две недели, не могу пропустить?» Он меня обнадежил, чтобы я не беспокоилась.
Поездка на остров Валаам
Мне хотелось побывать на острове Валаам, и я стала об этом думать. Услыхала я, что здесь, в Петербурге, с пристани идет пароход по Ладожскому озеру на острова Коневец и Валаам, где есть монастыри. Захотелось мне туда поехать. Чтобы не отличаться от толпы богомольцев, сшила себе мешок из сурового холста, надела его на спину, на голову – белую косыночку, и так брат повел меня на пристань (к сожалению, ему по службе нельзя было со мной поехать).
В девять часов утра там уже стоял пароход «Валаам». Мы взяли билет на палубу, чтобы все видеть во время пути. На палубе парохода был отслужен благодарственный молебен, все богомольцы пели; в десять часов пароход отчалил от берега. Была чудная погода. Пассажиры по-братски относились друг к другу, чувствовалось, что это всё люди верующие, едущие помолиться в монастырь.
У меня в сумке было несколько книжек с духовными стихами и церковными песнопениями. Просили сначала прочесть, а потом и запели, так что всю дорогу пение почти не прекращалось.
После захода солнца мы пристали к острову Коневцу. При входе на него повеяло ароматом роз. Здесь были преимущественно белые розы, так что когда с парохода и пристани смотришь на остров, то видишь, что остров весь увит белыми розами. (У меня такое впечатление осталось.) Уже все службы окончены, это был будний день, значит, повечерием все закончено и храмы закрыты.
Мы бегло прошли по ближайшим окрестностям Коневского монастыря. Неподалеку скала Конь-камень, на которой расположена маленькая часовня. От этого камня и остров получил название Коневец. Здесь в древние времена приносились идольские жертвы.
Главный храм во имя Рождества Богородицы. Уже было поздно, надо было спешить, приглашали на покой, так как на другой день служба начиналась очень рано, и после ранней обедни мы сейчас же должны отправиться в путь. Мне хотелось ночевать с простыми богомольцами, с ними я и пошла, не стала отделяться. Вошли в странноприимную, все уже спали, была такая духота, а при моей слабости, которую я теперь чувствовала, я не могла дышать спертым воздухом. Я сейчас же потихоньку, никому не говоря, вышла и села на земле около стены; какой-то монах увидал меня и пригласил в трапезную, где я легла на скамейку.
Ночь была теплая, это ведь было начало июля месяца, и здесь я спокойно заснула. Отдых наш был очень короткий, скоро прозвонил колокольчик на полунощницу, утреню и раннюю обедню. Помню, что приложилась в храме к чудотворному образу Божией Матери, у Нее на руках Спаситель держит двух голубков. Мы выехали рано, чтобы поспеть ко всенощной на остров Валаам.
Опять окружили нас симпатичные русские люди, пели молитвы, угощали друг друга чаем из своих чайников.
Красота кругом, погода прекраснейшая. Чайки все время кружатся около парохода, сверкают на солнце и своими острыми крыльями касаются блестящей поверхности воды. Воды спокойны, плавание наше тихое. Перед самой всенощной мы подъезжаем к острову Валаам. Раздается звон церковного колокола.
Здесь уже все более крупных размеров: и грозные скалы, и величина острова. Подул ветер, и с острова доносится аромат бесчисленных роз, только здесь розы исключительно красные. На пристань выезжает несколько экипажей, управляемых монахами, с высокими породистыми лошадьми, для встречи богомольцев. Здесь я уже не пошла в общую странноприимную, а меня поместили вместе с одной девушкой в номере гостиницы. Все так благоустроено. С первых шагов, уже на пристани, при виде благоговейных монахов проникаешься особым каким-то чувством, которое я испытывала только в Оптиной пустыни.
Здесь в гостинице спрашивают, как хотите: подавать ли обед в номер или пойдешь в трапезную. Я ходила в трапезную, там монах (как сказали мне потом, выпускник Духовной академии) так хорошо читал. Помню, какое осталось у меня впечатление, когда он читал Димитрия Ростовского о поклонении Страстям Христовым… Ночью в час или в половине второго (забыла) будильщик проходил по коридору и нараспев произносил около каждой двери: «Пению время, молитве час, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Такой приятный напев! Одной особе из Москвы, интеллигентной (страдалице), так понравился этот напев, что она просила гостиничного положить его на ноты, а по приезде в Москву она закажет будильник с таким напевом во время отбивания часов. В храмах и на всем монастырском укладе жизни лежал отпечаток необыкновенной строгости, благоговения, страха Божия.
Сам церковный напев так резко отличался от всего слышанного раньше! Он внушал страх Божий и особенное благоговение перед величием всего священного.
Стоит только посмотреть на окружающих монахов – и невольно почувствуешь страх Божий. Идя в собор, я спросила проходящего монаха, где покупают просфоры, он опустил еще ниже голову, не обернулся, а только рукой указал, где просфорня. Еще как-то раз вышли мы из гостиницы с той девицей, которая жила в моем номере, стали на скалистом берегу и любовались окружающей красотой. А девушка и говорит: «Вот мимо нас пробегает послушник из огорода, я его остановлю и поговорю». – «Не надо», – говорю я, но она все свое: «Хочу». Она его остановила и спросила что-то незначительное. Он, наклонив голову, не смотря на нее, ответил. (Нес он из огорода охапкой огурцы какие-то длинные, в пол-аршина и даже больше.) Она опять: «Что вам за это будет, что вы с нами говорили?» Он ответил: «Вечером, когда пойду я к своему старцу на благословение, должен сказать ему и об этом и испросить прощения». И спешно ушел.
Относительно пастырского благословения я, конечно, и раньше знала, что оно важно, но как-то до сердца эта истина не доходила, я не чувствовала ее. Но вот как-то раз пришлось мне на Валааме услышать поучение об этом. И я поняла, а главное, и сердцем почувствовала, какое великое значение оно имеет.
Говела. После принятия Святых Даров, как обыкновенно, подходишь к столику, где на подносе берешь кусочек просфоры и запиваешь теплотой, а здесь еще дальше стоит монах с кувшином и полотенцем. Он льет воду над тазом, чтобы причастник омыл и вытер свои уста. Отошла я, рядом человек добродушный говорит: «Вот как хорошо здесь всё исполняют, как и в нашей единоверческой церкви».
Богомольцам на Валааме полагается жить только три дня, но мне так хотелось еще пожить, ведь какая скорбь все время у меня на душе, а в таком святом месте все же легче. И я пошла брать благословение остаться еще на некоторое время. Ходила к настоятелю, и он разрешил мне. С богомольцами иногда отправлялась на сенокос. Когда оканчивалась трапеза, в двенадцать часов, то возглашали: «Желающие могут идти на сенокос». Для этого подавались на озеро большие лодки (забыла, как их называли). Монахи управляли. Садилось по нескольку десятков человек в один баркас. Пели тропари Николаю Чудотворцу и еще, мимо какого острова ехали, какой там был храм – пели тот тропарь. А вокруг главного острова Валаам много островов поменьше, и на них скиты. Во время плавания пели и стихотворение, сочиненное одним из монахов: «О дивный остров Валаам!» (Забыла это стихотворение.) В нем описывается красота этого острова.
Действительно, какая красота! И красота Божия в природе, и красота в человеческих делах – масса мастерских. Помню мастерскую, где делают из кипариса иконостасы; мне на память дали несколько кусочков кипариса.
Во всех мастерских висели таблицы с правилами монашеского поведения, составленные епископом Игнатием Брянчаниновым. Есть у них и корабельные верфи.
Летом в полевых работах участвуют и богомольцы, а с осени начинаются бури, пароходство прекращается, и на острове водворяется полная тишина, так дорого ценимая истинными подвижниками. Остаются только некоторые, кто дал обет поработать монастырю, например, год.
Не каждый раз я ездила на сенокос на баркасе, иногда пойду пешком (мне сказали, что это версты четыре будет), чтобы посмотреть лес. Там бояться нечего, зверей нет, а мелкие – белочки и зайчики – как ручные, не боятся монахов, их здесь не трогают. Иду я и вижу табун лошадей, и вдруг они несутся прямо на меня. Я очень испугалась, хорошо, что был забор из жердей, я перелезла и смотрю: лошади подбежали к забору и остановились, а монах, видя мой испуг, сказал: «Напрасно вы боитесь, они ничего не сделают; они бегут потому, что увидели человека, они любят людей. На них мы выезжаем на пристань, и они знают людей».
А вот когда пошла дальше и встретила стадо коров, то они заревели, а монах-пастух сказал: «Они привыкли видеть только монахов».
Вообще, богомольцам не разрешается ходить по острову, но мне ничего не сказали, и я пользовалась своим незнанием. Дойдя до луга, я взяла грабли и вместе с другими начала грести. Сил у меня совершенно не было, грудь моя надрывалась, но я понуждала себя, ворочала сено, а сухое носила в скирду. Тяжело мне было страшно. Потом нам предложили поесть, подъехала телега с кадками творога и молоком для работающих. Я тоже села. Какая-то женщина сказала: «Ты монахиня?» Я ответила: «Нет». Она сказала: «Ты не хочешь мне сказать». Обиделась и отошла.
Когда наступил Сергиев день, под вечер, перед заходом солнца, я взяла акафист и отправилась в лес. Напала там на часовню, которая стояла в чаще леса на скале, вошла в нее и вижу – «Явление Царицы Небесной преподобному Сергию» во всю стену. Так радостно мне было. Стала читать акафист, вдруг в часовню заглянул монах. «Не бойтесь, я вам не помешаю, моя обязанность – обходить по лесу часовни, здесь у нас и облачения, а чухни[3]3
Чухонцы или финны (устар. назв.). – Примеч. ред.
[Закрыть] иногда забираются сюда и не оставляют ничего. Я вот и присматриваю. Оставайтесь с Богом». И ушел. Так приятно мне было там, все напоминало лесное уединение преподобного.
Ездили мы, богомольцы, и по скитам – тем, где женщинам дозволялось быть. Были в скиту Святого Воскресения, где пели «Христос Воскресе», и во многих других. Во время этих путешествий монахи рассказывали кое-что из монастырской жизни. Рассказывали, что спиртных напитков здесь совсем не разрешают.
И вот когда один благодетель, выстроивший церковь или скит, захотел доставить братии «утешение» и на праздник открытия прислал несколько бочек вина, то настоятель велел все вылить в воду. Так строго следуют этому правилу.
Не во все скиты разрешалось женщинам; например, скит Иоанна Предтечи – самый строгий, туда женщины не допускались.
Однажды я проходила мимо гостиницы со своей соседкой, и она говорит: «Вот из сада идет подвижник из строгого скита Иоанна Крестителя». Я поспешила к тому старцу, на которого она указала. Он шел по тропинке сада, вероятно направляясь к настоятелю. Я взяла у него благословение и сказала: «Батюшка, благословите и помолитесь обо мне, у меня большая скорбь на душе» – и потом еще сказала: «Я подала прошение, чтобы меня приняли врачом на открытие святых мощей святителя Иоасафа».
На что батюшка ответил: «Нет, ты поедешь, только так». Как странно: получив такой ответ, надо было усомниться в возможности поступления. А я как-то или ничего не подумала, или не сообразила, как будто и не получила никакого ответа. Мне сказали, что имя этого старца – Агапий.
Приехала в это время старушка – мать одного из монахов – и привезла с собой свою племянницу, которая была в старообрядчестве, а теперь здесь была обращена в Православие. Мать уже собиралась к отъезду и пошла в сопровождении сына на пристань.
Я иногда ходила к отходу парохода и на этот раз стояла около решетки против парохода, уже готового к отплытию. Рядом со мной стоял и сын отъезжающей старушки. Высокого роста, похожий на Александра Невского, как его рисуют, красивой наружности. Серьезный, бледный. Я очутилась совсем рядом: его лица не вижу, он слишком высок для меня, а вижу только руки, на которые капля за каплей стекают слезы, а он стоит, по наружности недвижимый, спокойный. Так полагается в духовных правилах – не выражать наружно своих чувств. Помню, батюшка Никон говорил перед всеми нашими (так как это касалось всех): «Не выражай своих чувств, это не идет к монашествующим». А тот монах, провожая свою мать-старушку, конечно, чувствовал, что видит ее в последний раз, но наружно ничем не выразил своих чувств. Мне сказали, что он работает на корабельной верфи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?