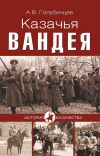Текст книги "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
Случайно для матушки Татьяны нашлось место учительницы при детях на соседнем хуторе, в двух верстах отсюда: летом ей удобно было ходить. При общем голоде ей давали, конечно, очень мало, что-нибудь из продуктов. И она с восторгом говорила, как ей хорошо. На ближайшей мельнице она тоже с кем-то занималась.
Но на «странной» ей не пришлось долго быть: во-первых, там оказалось очень холодно; во-вторых, скоро странноприимную уничтожили.
Но Господь милосердный не оставляет любящих Его: около этого времени одна монахиня, имеющая свою келью, т. е. отдельный домик (она жила там со своей племянницей, умственно ненормальной девушкой), предложила ей жить в своей келье, в отдельной комнатке.
Это было уже под конец жизни матери Татьяны. Вначале к ней сюда приходили дети… С трудом ходила она в церковь. Она все более и более ослабевала, ее легкие были уже поражены; поражен был, наконец, и кишечник, отчего началось сильное истощение. По возможности она исполняла все правила – лежа и сидя. А когда я приходила, она часто просила читать для нее Апостол и Святое Евангелие. Она сейчас же приподнималась, становилась на ноги, держась за спинку кровати и за меня: батюшка прежний велел ей читать Евангелие стоя, говорила она. И так до кончины своей она исполняла его слова.
В конце ее болезни к нам приехали для изъятия ценностей. Когда я услышала об этом, меня взял ужас: как же будет со Святыми Дарами? Мне пришло в голову взять их с дарохранительницей и опустить в реку (у нас протекала большая река Серёна, и через нее мост). Приезжие ходят по храму с нашим священником (который скоро объявил себя обновленцем) и с матушкой казначеей, ужасно испуганной. Думаю: нужно попросить ее оставить меня на время обеда в храме, а тогда я уже сознаюсь перед всеми, чтобы никого больше не винить. Такие мысли как молния пронеслись у меня в голове. Спросить кого-либо? И у меня явилась мысль: спрошу матушку Татьяну, ведь она – умирающая, а кто же может правильнее судить, как не тот, кто ни в чем не нуждается, ничего не боится, отправляется уже в вечность?
Я побежала к матери Татьяне и спешно спросила ее. Она с радостью приняла мои слова и сказала: «Если матушка казначея разрешит вам остаться в храме, то возьмите и меня, умоляю вас…»
Я побежала, застала матушку казначею, идущую со всеми через храм, отозвала ее в сторону и стала просить, чтобы она оставила меня посторожить храм, пока они будут обедать. Матушка, видно, догадалась. Вся дрожащая, замахала на меня руками и вскричала: «Нет, нет!»
Были последние дни жизни матушки Татьяны. На ее вопрос, каково ее состояние, я откровенно ответила, что ей остается только готовиться к смерти. В это время случилось здесь же быть и матери Евдокии Саломон, которая очень любила матушку Татьяну. Мне пришлось идти по больным, и я оставила больную на руках матери Евдокии.
Монахиня Татьяна вскоре в этот же день скончалась (20 августа 1920 года). Года два прожила у нас эта радостная страдалица. В последнее время батюшка Мелетий часто приходил причащать ее в келье. Матушка, принявшая ее в свою келью, заботилась о ней сколько могла. И теперь, после погребения, пригласила помянуть покойницу и устроила чай и закуску.
В это время был случайно в гостинице приехавший из Оптиной протоиерей Адриан (окончил в Петербурге Инженерное училище, теперь он болящий, в Киеве, на иждивении жены). Он усердный молитвенник, и (так приятно было!) он отслужил панихиду и остался на чай.
Уход из монастыря. Временное поселение в пустыньке Иерусалимской иконы Божией Матери
Все терпели голод, особенно те, кто не был связан с деревней, где все же кое-что было.
Идешь, бывало, из церкви, слабость страшная (чистого хлеба нет, давали по триста или четыреста граммов – из гречневой мякины), а старушки просят каких-нибудь сухариков.
В монастыре был устроен совхоз, а теперь еще приехали из так называемого Социального обеспечения для поддержки тех, кто не работает в совхозе и не имеет чем пропитаться. Записаны были богаделки и записали нас, больничных. Стали давать по сколько-то хлеба, как-то дали патоки, можно пить с чаем, а то ведь сахару не было. И дали мне метра два бумазеи (которая у меня и теперь на подкладке пальто).
В соседнем селе (версты три) образовался медицинский пункт. Молодой доктор, Николай Иванович Зерцалов, приехал познакомиться с нами. Он был неопытный (только что окончил); просил, если какой будет трудный случай, помочь ему. Несколько раз приходилось с ним ездить по поводу переломов. При этом, конечно, я не показывала виду, что я в этом что-нибудь понимаю, но что все исходит от врача, а я ему помогаю.
Однажды он приехал ко мне с приглашением что-нибудь прочесть из популярной медицины на предполагаемом собрании. Очень уговаривал меня; я не отказалась. Перед собранием (накануне) он приехал и спросил меня, что я буду читать. Я ответила, что если я буду читать, то думаю, что теперь самое необходимое – о неврастении, и как на исцеляющее средство укажу на веру в Бога и молитву. Это так удивило доктора и испугало, что он сказал: «Этого никак нельзя читать, вас возьмут…» И я отказалась. Он попросил у меня что-нибудь почитать. Я дала ему статью епископа Игнатия Брянчанинова. Когда он возвратил мне книгу, я спросила, понравилась ли статья. «Прочел только потому, что вы мне дали. Мне тяжело читать духовное». А он ведь сын священника… Когда он задумал жениться, рассказал мне все про себя. Родные его далеко, от них он не может получить благословения, а теперь он куда-то уезжает, чтобы там жениться и получить новое место. Ему страшно без благословения, и он очень просил меня его благословить. У меня был небольшой кругленький образок великомученика Георгия в серебряной ризе, им я и благословила доктора.
При этом докторе, который относился ко мне так хорошо, по-дружески, фельдшерицы немного притихли, и вопрос о советской больнице в стенах монастыря оставили.
Как-то к нам, именно ко мне, приехали два врача из Перемышля, ближайшего к нам города. Может быть, под влиянием рассказов доктора Зерцалова или еще почему-нибудь узнали и при ехали, чтобы пригласить меня служить. В это время я была в своей келье, мне нездоровилось, я даже лежала. Когда они вошли, я встала, и мы долго беседовали.
Оказывается, эти врачи были верующие. Сначала они высказали мне все свои доводы, что лечение – это дело богоугодное и напрасно я не соглашаюсь. Затем я сказала им откровенно все-все, что было у меня на душе. И в конце концов, они сказали: «Да, если бы мы были на вашем месте, то поступили бы так же». Расстались мы большими друзьями.
Поступил по соседству, вместо Зерцалова, новый врач, долго не знакомившийся с нами. Только потом узнали – очень доброжелательный и тоже хорошо относящийся ко мне.
Опять с новой силой поднялся вопрос среди фельдшериц об устройстве у нас вместо монастырской советской больницы. Говорили с ними об этом приезжающие. И фельдшерицы начали пугать матушку казначею и матушку Екатерину, вообще старших монахинь, что вот она, врач, у нас живет, как бы скрывается. От этого будет плохо монастырю.
Конечно, они так говорили неправильно: никто не скрывался, наоборот, в списке Калужской губернии я была записана в числе врачей. И заведующий здравотделом, когда он посетил соседний с нашим участок, однажды виделся со мной и сказал: «Каждый из врачей за чем-нибудь обращается, а от вас я ничего не слышал и подумал: верно, она в монастыре».
Туча эта против меня все надвигалась и надвигалась… И вот накануне Вознесения матушка казначея приходит ко мне (на глазах у нее слезы) и говорит: «Страшно, что вы у нас в монастыре, надо вам пока куда-нибудь уйти».
«Благословите, матушка», – сказала я. Она заплакала, вынула приготовленный на ленточке образок в медальоне – Нерукотворный образ Спасителя, благословила и надела мне на шею. При этом она, конечно, говорила, что жалеет, но что же делать?
При ней я уложила в мешок правильник, Святое Евангелие, смену белья и надела его на плечи. (Такой дорожный мешок был у меня всегда наготове, так как с ним я ходила в Оптину пустынь.) При ней я и вышла. Матушка казначея спешила, чтобы я успела выйти до всенощной. Двум сестрам я сказала, что ухожу и прошу куда-нибудь сложить мои вещи. Никто ничего не знал.
В Оптину я пришла, когда было совсем темно. Зашла к батюшке, сказала ему вкратце, что мне придется куда-нибудь уйти.
Батюшка сказал: «Молись Богу, чтобы Он тебя направил». И я пошла ко всенощной.
Не все сестры (даже больничные, которые только приходили работать в амбулаторию) знали о моих отношениях с фельдшерицами и вообще мое положение. И на другой день после моего ухода начальство сказало им, что теперь они должны ходить работать на огороды. Но начальство, конечно, не знало о моем уходе. До этого им дела не было, так только совпало; я не была зачислена в совхоз. А сестры поняли это как следствие моего ухода, в волнении прибежали к батюшке и стали жаловаться: что наделала докторша – ушла, а нас теперь на огород работать посылают. Все их разговоры подействовали на батюшку, он расстроился, и, когда я пришла к нему, он строго сказал: «Иди обратно в Шамордино».
Виновата я, что точно и подробно ему всего не объяснила: у меня как-то сил не было… И пошла обратно.
Прихожу к матушке казначее, а ее келейница, матушка Арсения, благочинная монастыря, почти со слезами на глазах говорит: «Матушку нельзя сейчас видеть, она на собрании, подождите». Ласково обошлась со мной, чувствовалось, что ей больно за меня. Наконец, через некоторое время, вернувшись от матушки, она сказала: «Вам придется возвратиться в Оптину, но теперь уже поздно. Вы сходите в больницу и там в пустой палате переночуете».
Близкие сестры, рабочие и больные встретили меня со слезами.
Среди вещей у себя я нашла полфунта шерстяной ваты, шерстяную черную юбку, серенький фартук, и из всего этого я попросила их сшить для меня теплую кофточку на дорогу. Они очень плакали, особенно Анисья. Фельдшериц я не видела, так и ушла на другой день рано утром.
В Оптиной, конечно, прежде всего пошла к батюшке Анатолию и рассказала ему, что матушка казначея даже не приняла меня и велела возвратиться обратно. Теперь батюшка понял, что это не от меня пошло, как ему представили, а действительно надо уходить, и сказал: «Ты бы так и сказала мне. Ну, куда же ты поедешь?»
«Мне не хочется в мир, а вы, батюшка, благословите меня идти по направлению к Иерусалиму, я буду останавливаться для ночлега, а потом идти дальше, пока не умру, и все буду представлять перед собой Иерусалим».
«Какой тебе Иерусалим? Иди молись, и я буду молиться».
Из церкви пришла опять к старцу и высказала свою новую мысль: не пойти ли мне в пустыньку Иерусалимской иконы Божией Матери? (Я слышала от духовной дочери отца Герасима-младшего, Веры Адамовны, что старец назначил ее туда.)
При этих словах батюшка обрадовался и сказал: «Да-да, туда хорошо, благословляю. Есть здесь монах, который оттуда родом, – он объяснит, как туда пройти».
Увидала этого монаха, он рассказал мне весь путь, я все записала, поговела. Пришла Даша (служащая больным в нашей больнице), принесла мне сшитую кофточку, которую я просила, баночку варенья, булку хлеба и, на всякий случай, паспорт умершей схимонахини Екатерины, неграмотной. Взяла я бумажную рясу, маленькую мантию, правильник, Святое Евангелие, кипарисный крест и белье.
Батюшка Анатолий рассказал мне, что в Иерусалимской пустыньке недавно выстроен и освящен храм: «Вот ты и читай там Псалтирь, а в свободное время помогай Параскеве, которая там живет, делай, что она тебе скажет».
Возвращение в монастырь. Болезнь и смерть отца Анатолия
Возвратилась я из Иерусалимской пустыньки за несколько дней до Успения. Батюшка благословил меня готовиться к святому причастию на Успение. Народу по случаю поста было очень много, поэтому я поговорила с батюшкой совсем кратко.
На праздник пришла одна из больничных сестер – Анюта, очень хорошо ко мне относившаяся, любившая меня, но горячая, нетерпеливая: ей хотелось, чтобы я сейчас же пошла к ним. При виде меня она ничего не сказала, а только попросила идти с ней к батюшке. Получили благословение и стоим на коленях перед ним. Анюта заговорила: «Нам хочется, чтобы матушка Амвросия устроилась у нас, пусть она попросит прощения у Саши Никитиной (председательница совхоза), и тогда та похлопочет оставить ее у нас».
Довольно продолжительное время батюшка молчал. В это время в голове у меня проносились мысли: «В чем просить прощения? Страшно мне, если так батюшка решит…»
И батюшка заговорил: «Нет, она теперь к вам не пойдет, а если пришлют за ней, попросят, тогда…» И сестра Анюта с этим возвратилась.
А за это время доктор, иногда наезжавший в наш монастырь, сказал фельдшерицам: «Ожидать открытия советской больницы в монастыре никак нельзя, об этом нечего и думать – в здравотделе средств мало, закроется и та больница, где я теперь нахожусь».
После этого фельдшерицы заговорили другим тоном, они пришли в палату и сказали сестрам: «Мы надели ей сумку на плечи, теперь снимем». И матушка казначея послала ту же Анюту за мной. Тогда батюшка благословил меня идти в монастырь. Фельдшерицы встретили меня доброжелательно, а больные и сестры с большой радостью.
На этот раз не долго мне пришлось побыть у себя. Через несколько дней матушка казначея была в Оптиной, увидала, что батюшка Анатолий заболел, позвала меня и сказала: «Я тебя повезу к батюшке, тебе надо там остаться, он заболел, а его близкий хороший келейник тоже заболел и лежит в больнице. Теперь у него отец Вакх» (этот отец Вакх был очень странный, все искал великих подвигов; потом, как говорили, попал в Саров и в 20-х годах заболел психически). Она сказала мне: «Будь у батюшки, пока он тебя благословит».
У батюшки была огромная грыжа, временами она ущемлялась, и теперь было неполное ущемление. Я поселилась у батюшки. У него было три комнаты и ожидальня: спальня, приемная (довольно большая) и для келейника – маленькая. Батюшка думал, что я буду ночевать в приемной, но я попросилась в ожидальной, так мне было удобнее. Келейник Вакх читал правило, молились мы все вместе, батюшка – лежа в постели.
Лечили мы батюшку вдвоем с доктором Казанским (он приехал из Кронштадта, очень опытный и хороший человек; ко мне он относился очень хорошо). Несмотря на все наши старания, болезнь все ухудшалась. Батюшка все бледнел, слабел.
Я сказала отцу архимандриту Исаакию, что болезнь очень серьезная, – как он думает насчет схимы? Отец архимандрит предложил батюшке.
Положение больного было очень тяжелым: он ничего не ел, состояние было такое – вроде бреда. Видно, организм постепенно отравлялся. Во время пострига он был так слаб, что не в состоянии был сам держать свечку, а голос был едва-едва уловимый. Мало было надежды на выздоровление. Прошло несколько тяжелых дней, и – Господь дал – батюшке сделалось немного лучше, он мог кое-что есть. Теперь на батюшке была надета скуфейка с белым крестом.
Бывало, бережешь сон батюшки, чтобы не стукнула дверь, ведь ему так необходим сон. А стучат часто, всё спрашивают, нельзя ли видеть.
Не брала я на себя этой обязанности – впускать, говорила: это дело келейника, а отец Вакх строго запрещал. Как жаль, что я не вела тогда записок! Теперь все забыла. Помню, что батюшка, несмотря на свою болезнь, все заботился, есть ли у нас с келейником что поесть. А когда стал немного подниматься – велит приготовить обед и сам из каждого кушанья попробует и благословит нас… А келейник отец Евстигней все еще был болен и лежал в больнице. Когда батюшка немного окреп, но еще лежал, я, сидя на скамеечке около его постели, иногда читала ему. Помню, батюшка дал мне книжку, где описывалось, как тонул корабль: кто мог – садился в лодку и уплывал, кто на доске или просто уплывал… А капитан стоял на мостике, никуда не уходил. Перед ним разверзлись небеса, и он увидел Спасителя…
Получила я как-то записку из монастыря от Фени (самой близкой мне сестры, так как матушка игумения покойная поручила ей заботиться обо мне, и нас батюшка Анатолий вместе постригал). Она писала: «Многие недовольны на вас, что вы так долго живете у батюшки. Некоторые обижаются, что вы их к нему не пускаете». Писала она это с таким волнением, – будто я здесь живу и остаюсь самовольно. Ответила ей, что матушка казначея так благословила и я спокойна.
Когда возвратился отец Евстигней, я отправилась в свой монастырь.
Здание больницы понадобилось под богадельню для мирян, откуда-то привезли мужчин и женщин. Фельдшерицы вступили в совхоз. Для старшей отвели келью, где она устроилась с двумя близкими сестрами. Хозяйственно устроились как члены совхоза: завели там кур, вообще хозяйство. Предложили мне вступить в члены совхоза врачом, но я сказала: «Ведь вы не потерпите меня: тяжелым больным я буду говорить, что надо причаститься…» И они замолчали.
Вторая фельдшерица, Вера Ивановна, поселилась в келье Ольги Константиновны Сомовой, с которой она была дружна.
Вера Ивановна (она была рясофорная) скоро заболела сыпным тифом, и так тяжело, что у нее появились пролежни. Окружающие отчаялись и говорили, что трогать ее теперь не надо; ни перекладывать, ни камфоры впрыскивать. «Нет, надо надеяться до последнего момента и все делать как полагается», – сказала я им и сама начала перевертывать ее. Она хотя и была в полусознательном состоянии, но это услыхала и потом так мне благодарна была!.. Все старалась чем-нибудь отплатить, и мы были потом с ней в самых лучших отношениях.
В церковь мы не ходили, так как священник был уже открытым обновленцем. Батюшка иеромонах приходил к нам в больницу, причащал больных.
Не долго прожил наш батюшка Анатолий, только год после пострига в схиму. Он был уже очень слаб, но все же принимал народ. Смотрела я на него с тайным страхом и думала: может быть, в последний раз его вижу. И однажды спросила его: «Вот время какое, не у кого будет и спросить, как поступать». И батюшка сказал: «Если некого спросить, далеко от старца, можно после усердной молитвы открыть Святое Евангелие или Псалтирь».
24 июля, на святых Бориса и Глеба, я исповедовалась у батюшки с таким чувством, как будто в последний раз…
Исповедовалась у него и моя троюродная сестра Анна, приехавшая в Оптину. На другой день были ее именины, и батюшка после исповеди благословил нас идти в Шамордино, чтобы там причаститься и затем сестре остаться у меня погостить.
30 июля мы сидели в моей келье, я читала вслух епископа Игнатия Брянчанинова. Прочла место, где рассказывается о том, как у одного брата умер старец и после этого у него вместо старца были скорби…
На этом месте в дверь помолитствовалась сестра, вошла и сообщила: «Батюшка Анатолий скончался в пять часов сорок минут утра».
Сестра рассказала: рано утром келейник отец Евстигней заметил, что батюшке совсем плохо, что он изнемогает, и побежал к казначею отцу Пантелеймону. Когда они возвратились, то застали батюшку уже скончавшимся: он стоял на коленях у самой кровати, голова его лежала на постели…
Сейчас же мы, кто мог, побежали в Оптину; матушка казначея, конечно, всем разрешила. Когда мы пришли, батюшка лежал уже в Казанской церкви; почти непрерывно служили панихиды. Ночью духовные дети батюшки оставались в церкви и читали по очереди Псалтирь. Могилу приготовили в той самой часовне, где были погребены уже два предшествующих старца – Амвросий и Иосиф.
Пришлось копать рядом с могилой старца Макария, который был погребен под соседней часовней. Копая землю, братия попали на гроб отца Макария: он был цел, только угол отгнил. Они видели, что тело его нетленно.
Помню, спрашивали кого-то из старцев: почему в Оптиной мощей нет? И тот ответил им: «Это нарушило бы уединение пустыни».
В записной книжке я нашла запись ответа батюшки Анатолия на мой вопрос, как жить. «Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь тебя видит, а на остальное не обращай внимания! Молись, чтобы Господь помог лучше послужить святой обители».
18 августа – двадцатый день кончины батюшки Анатолия. В гостинице шамординской (раньше это был дом монахини Амвросии, в нем жили ее внучки Ключаревы, когда летом здесь гостили) после богослужения был устроен обед, на который пригласили отца архимандрита с некоторой братией; были и мы, сестры из Шамордина.
Продолжительное время я не говела: тяжело было идти к другому духовнику, особенно от старца-наставника. Когда бывала в Оптиной пустыни, заходила к батюшке Нектарию на благословение: он с любовью принимал духовных детей покойного батюшки Анатолия как осиротевших.
7 декабря, на день Ангела покойного батюшки Амвросия, старец радушно принял меня. Поздравил и меня с днем Ангела, потом оставил у себя и, когда приходили другие, говорил: «Поздравьте ее, у нее сегодня день Ангела».
Вообще, у батюшки Нектария было как бы юродство, он часто говорил загадочно. На Рождественский пост я попросила принять меня на исповедь, он согласился, несмотря на то что ему было трудно: вся братия имела его своим духовником и старцем.
Но не долго мне пришлось иметь его своим духовником. Вскоре его арестовали и свезли в Козельскую больницу. Везли на розвальнях, был сильный мороз; один из братии провожал его. Мы все, бывшие там, бежали за санями до монастырской границы. В больнице у его дверей стоял дежурный с ружьем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.