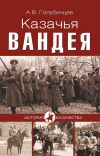Текст книги "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Арест. Заключение в Смоленскую тюрьму
Это было 27 августа (1930–1931 годы). В Белёве я направилась прямо в единоверческую церковь. Там в сторожке жила целая группа сестер, которые часто приезжали к нам, когда в Козельске был батюшка Никон. Они сочувственно встретили меня и пообещали, что квартира найдется, можно переезжать, а пока побыть у них.
Кроме большой сторожки, где они все жили, у них было еще помещение. Церковь была двухъярусная. Служба летом у них проходила наверху: там напротив церковных дверей было большое помещение, где обыкновенно принимали архиерея. Здесь меня и поместили.
Возвращаться домой меня не отпускали, а советовали пробыть еще день, чтобы на праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя приобщиться Святых Таин. Я согласилась; тем более что так удобно было приготовиться в этом уединенном помещении.
При этой церкви, кроме единоверческого священника, жил еще иеромонах с Афона. С вечера он меня поисповедовал, и в день праздника я приобщилась Святых Таин.
До обедни в храм пришла моя племянница Женя. Оказывается, накануне она приехала к нам в Козельск, чтобы провести с нами несколько дней отпуска. Не застав меня там, она решила поехать в Белёв, чтобы оттуда вместе ехать домой. Она была такая радостная, довольная. Но вот днем из Козельска приходит телеграмма, что меня ждут; конечно, я все поняла. Мы с Женечкой поехали вместе, так как в Сухиничи, где она в то время работала, надо ехать через Козельск.
Поезд остановился в Козельске. Я попрощалась с Женечкой, оставив ее на площадке вагона, а сама пошла по платформе. Здесь ко мне сразу подошли двое в военной форме. Как я потом узнала, Женя с площадки увидела это и соскочила, чтобы побежать за мной, но один конвойный сказал ей тихо: «Садитесь скорее обратно, она поедет в Сухиничи этим же поездом», и она успела вскочить обратно. А в Сухиничах она увидела, как к поезду подъехала легковая машина и меня увезли. В вагонах было душно, накурено, а я еще никак не могла оправиться после болезни и часто чувствовала дурноту.
Наконец, мы приехали; меня пересадили в автомобиль, я сидела с кем-то рядом, мы молчали.
Была уже глубокая ночь, накрапывал дождь. Я как будто и не волновалась; довольна была, что так вышло, т. е. что я успела подготовиться святым причастием.
Автомобиль подъехал, мы куда-то вошли, с шумом начали отпирать двери. В это время я как будто дрогнула – что-то будет дальше? Меня впустили – и сразу меня обступили все наши сестры, которые жили с матерью Ириной и с нами прежде, и еще некоторые. Меня стали обнимать, целовать, весело все заговорили. А мой провожатый в недоумении стоял и смотрел на эту картину. Помню, сказал что-то ласковое и ушел, заперев нас.
Здесь были только дощатые нары, которые занимали всю стену. В головах было сделано возглавие, тоже из досок. Мне дали лучшее место на самом краю, и кто-то из сестер даже уступил мне свою подушечку-думочку. Мы всё говорили и не могли наговориться.
Прошло немного времени с тех пор, как их взяли, но сестрам казалось, что это целая вечность, что за это время могло произойти много перемен: они расспрашивали обо всех. Сестра Мариамна (родная сестра Ирины) была очень обрадована, что я проводила на родину мать Ирину с дочерьми.
Оказывается, здесь мы были еще в ГПУ. Необходимые книги для чтения правил сестры каким-то образом получили, и здесь можно было исполнять все правила. Но враг рода человеческого во всякий момент вносит свое зло. Вот и здесь, казалось бы, как хорошо – только своя семья, все нужное есть, можно исполнять; никто не мешает, тишина. Как полагается и как говорят старцы, когда несколько человек соберется, то хорошо, когда они все участвуют в молитве.
Читала здесь одна – Катя Толстая, и я предложила: хорошо, если бы и другие принимали участие. Та расстроилась и бранила меня сестрам. Мне было тяжело. А кроме того, у меня прорвалось: «Мать Мариамна была у нас хозяйкой, когда мы жили вместе. Мать Мариамна, вы и теперь ведите порядок, т. е. смотрите время, когда чай, когда обед, – приятнее так будет» (а не то что вразброд). И Кате показалось обидным, что я ее называю просто Катенька, а Мариамну – матерью. Между тем я к ней всегда очень хорошо относилась и, зная ее совсем молоденькой, так называла. Она в Козельске жила далеко от нас, но часто приходила к нам, когда у нас собирались сестры.
Такое недовольство было, конечно, некоторой тенью в нашей жизни. Но, видно, без этого нельзя, слишком хорошо бы нам было.
В хорошую погоду нас выпускали погулять во двор, в разное время с соседними камерами.
Так мы пробыли до Воздвижения Честного Креста. К Кате часто приезжала живущая с ней сестра. Ко мне иногда приезжала Поля: спросить, что мне надо.
В день Воздвижения после обеда нам объявили, что мы переводимся в тюрьму. Нас выпустили в коридор и заключенных из соседней камеры тоже. Почему-то мы не сразу пошли, а чего-то ожидали. Рядом со мной оказался заведующий школами, интеллигентный человек. Он о чем-то спросил меня, и я ему ответила, что чувствую себя здесь неплохо; мне даже кажется, что за нами признают некоторое человеческое достоинство сравнительно с прежней нашей жизнью. «Вот-вот, и мне так кажется».
Сейчас же нас повели. Из нашей группы по нескольку человек разместили в разных камерах. Там были такие же нары, но людей очень много и очень тесно. Лечь можно было только боком, а чтобы повернуться – встанешь, завернешься одеялом и опять боком ляжешь. Мне дали опять место с краю, значит, у меня с одной стороны только доски. Конечно, это лучше. Но, к сожалению, из-за перегородки вылезает масса клопов и ночью спать почти нельзя. Когда прислали еще нескольких, то им пришлось лечь под нарами.
Наши окна с решетками выходили на юг. Погода стояла теплая, и у нас было душно. Отверстие в двери (волчок) мы открывали всегда, когда знали, что пойдут из камер: в это время мы надеялись увидеть своих батюшек (и всегда виделись). Быстро можно было кое-что и спросить.
Помню, отец Викентий, в утешение мне, бросил записочку: несколько выписок – слова подвижников XIX века.
Здесь нельзя было читать правило: много посторонних людей; можно было только по четкам читать Иисусову молитву, и потому я просила отца Викентия написать мне число молитв за разные правила. И в следующий раз он передал мне записочку с ответом.
Кто-то сказал, что отец Викентий и отец Макарий по своему желанию поместились под нарами. Вероятно, чтобы не расставаться. Но их там часто беспокоили крысы…
Здесь нас тоже выпускали в известные часы, чтобы мы, женщины, были одни. Предложили нам ходить на кухню чистить картофель. Это было большое утешение в нашей тюремной жизни. Но, к сожалению, я так ослабела, что и такая работа была мне не под силу.
К октябрьским праздникам нам принесли ленточки, чтобы делать бантики и флажки. Попробовала я сесть и взяться за них; сделала немного, но так ослабела, сердцу сделалось нехорошо, и пришлось лечь. Сил совсем не было: когда мы все шли в уборную, то приходилось держаться за стенку.
Я еще не оправилась после той тяжелой болезни. Еще в Козельске, когда я поправлялась, ко мне пришла врач (племянница владыки Михея) и послушала мой пульс: было около ста пятидесяти или больше. Видно было, что она не надеялась больше увидеть меня живой.
В приемные дни к нам сюда приезжали. Ко мне или Поля, или сестра Маня. А если сами не приедут, то передадут записочку. Против наших ворот, как только начались дожди, грязь невылазная. В приемные дни с самого раннего утра сестры стоят в грязи под дождем, ожидая очереди. И так больно-больно сделается сердцу, слезы невольно льются: ведь знаешь, каково им, бедным, так стоять. Ведь все батюшки взяты еще до нас, они здесь помещаются, и к ним приезжают. Некоторые даже добились свиданий.
Во время обеда нас по очереди выпускали из камер брать в миску обед. Женщины, которые приносят котел, говорят нам, есть ли там мясо; если нет, то мы берем. За кипятком для чая ходят два человека из наших же, приносят ведро кипятку, а мы уже здесь разливаем по частям.
В праздники предлагали нам идти в зал (смотреть кино или слушать пение), но из монашествующих, конечно, никто не ходил.
Приходил следователь, и нас поодиночке вызывали к нему. Когда я вошла, он сам сел и предложил сесть около него. Стал читать, в чем я обвиняюсь: в агитации молодых девушек, привлечении к монашеству и организации общины.
И стал еще читать, что мать жалуется: вы ее дочь привлекли к монашеству, совершенно отняли от нее. Прочел и остановился. А я в это время думала: так, видно, Богу угодно нам всем пострадать, и мне не хотелось больше говорить.
Но следователь ласковым, хорошим тоном сказал: «А сами вы расскажете, как это было?» И я по возможности кратко рассказала, что мать попросила меня принять ее больную дочь, которая не выносила шума, а у них квартиранты все молодежь.
«Но это дело совсем другое, и вашей вины здесь никакой нет. Но почему именно к вам приезжало так много молодежи?»
«Да потому, что я держу себя как-то так, что в нашем доме не чувствовалось, кто старший, и останавливающиеся чувствовали себя свободно». Говорила я с ним вполне искренно. А насчет агитации сказала: «Я избегала всяких знакомств, и мы вели жизнь самую уединенную».
«Да я знаю, знаю хорошо вашу жизнь. Вас можно обвинить только в немой агитации. Вас там знают и уважают. Вот врач – верующая, в этом безмолвная агитация». Все это он говорил успокоительным, дружелюбным тоном. И как ни странно в данном положении, даже расположил меня к себе.
Через некоторое время нас опять вызвали к следователю. На этот раз он еще более дружелюбно заговорил со мной. Я как будто не волновалась, но, когда пришлось что-то подписывать, рука у меня дрожала.
Он начал меня успокаивать: «Вины у вас никакой нет. Скорее всего, вас освободят или дадут какую-нибудь ссылку в недалекое место. Лишь бы вы уехали отсюда, где вас уважают и так вам доверяют». Затем он заговорил мягким и нерешительным тоном: «Если бы вам… немного… (чувствовалось, что он подыскивает необидные выражения) изменить внешность…» – и остановился, глядя на меня.
«Я уже на краю гроба, могу ли я менять свои убеждения?» И он больше не сказал ни слова относительно этого.
«Вот говорят, – спросила я потом, – что нас повезут в Смоленскую тюрьму, и для этого мы уже ходили отпечатывать свои пальцы. Если у меня нет вины, зачем же везти туда? Мне это надо знать, чтобы распорядиться насчет жизни моей больной».
«Это для того, чтобы отменить какую-либо вину», – ответил он.
Какой странный, откровенный разговор получился у нас, подумала я, следователь от души сочувствует мне.
Мы попрощались.
В приемный день приезжал кто-то из моих: или Поля, или сестра Мария. Они мне передали завязанный в салфетку горшок каши и записку. В записке было: «Посылаем кашу: просим горшок освободить сейчас же и прислать его». Открыла я горшок, полный каши, которая по краям прилипла, и стала быстро опоражнивать горшок. На дне, под жестяной крышечкой, в непромокаемой бумажке была записка. Маня спрашивает: «Кого благословите остаться при матери Анисье – мне или Поле?» Я написала: «Поле». Эту записку вложила в рубчик салфетки и отдала обратно.
Так я подумала: матушка Анисья откровеннее и ближе к Поле, мы все время с Полей жили. Поля может и постирать, и выкупать ее, а сестра Мария к физическим работам не привыкла, и как еще ее мать посмотрит.
Пошли слухи, что скоро нас отправят. Написала, чтобы мне в чемодане прислали нужные вещи и теплое пальто к зиме.
На Казанскую нас отправили. Вещи положили на подводу, а мы пошли пешком посреди улицы; по обеим сторонам – конвойные на лошадях и пешие с ружьями. Я не поспевала за идущими; конвойный несколько раз ударил меня тихонько ружьем, но, поняв, что это ничего не дает, взял под руку, помогая мне идти скорее. Народ во множестве шел за нами и рядом (в их числе и моя племянница Женя), поэтому верховым конвойным приходилось отгонять людей.
Когда нас ввели в вагоны, многие из народа просили нам кое-что передать. Всем отказывали. Смотрю, вдруг мне подают сверток со сладким пирогом: я поняла, что это, верно, Женечка прислала, так как таким пирогом угощала меня когда-то Вера Сергеевна.
Теснота была невозможная: на скамейке, где обыкновенно помещаются три человека, нас сидело пять. Наверху тоже набито полным-полно. Дышать было трудно. Как мы ехали, и вообразить невозможно!
Среди ночи объявили, что пойман какой-то преступник, очень известный, со своей шайкой, и их всех хотят поместить к нам. Мы стали кричать, что совсем изнемогаем от духоты и что все проходы заняты. После долгих переговоров их оставили на той станции.
Рано утром прибыли в Смоленск. Грязь страшная, моросил дождь. Конвойные отделили, кто должен идти, а меня оставили, зная по опыту из прошлого раза, что я за ними не поспею, а идти здесь очень далеко. Оставили меня при вещах, которые громадной кучей лежали на платформе. Мне сделалось страшно: лучше бы как-нибудь идти. Наконец, после долгого ожидания прибыло несколько подвод. Наложили вещи. Их было так много, едва уложили, высоко-высоко, и говорят: «Влезай наверх». Что делать? Я не в силах. Возница помог мне, было так страшно.
Когда влез кучер, стала держаться за него. Ехать пришлось долго. Разговорились; оказалось, что он очень молодой, тоже арестант, но уже испытанный, и ему поручаются дела.
«А за что же ты сидишь в тюрьме?»
«За убийство».
Такой молодой, симпатичный, подумала я. (Он потом рассказал мне про свое дело, но я уже забыла.)
Когда я приехала, наших уже разместили. В приемной комнате, где меня осматривали, я попросила тюремщицу (уже немолодую, добрую на вид женщину), чтобы она определила меня в камеру, где монашки, где наши.
«Конечно, конечно», – сказала она. Видно, добрая женщина. Она спросила, есть ли у меня образ. Я сказала, что есть на цепочке. «Ну это ничего, а если есть отдельно, то положите в чемодан, и он будет здесь храниться в кладовой». У меня было карманное Евангелие, и она попросила тоже положить его в чемодан.
Действительно, она привела меня в камеру, где было много наших. Скоро мы все перезнакомились. Нашлись сочувствующие, которые сразу же сказали, что мне, как более старой, надо уступить отдельную кровать – топчан. Большинство помещалось на дощатых кроватях, но на двойных.
Несколько человек было наших – Мариамна и ее двоюродная сестра Анна. Я очень им обрадовалась. И еще: симпатичная акушерка, молодая девушка Людмила, и Мария, сестра милосердия из смоленской больницы. Много интеллигентных: среди них Ирочка, самая молоденькая учительница. Все они с такой любовью относились ко мне.
Помню, что раз в неделю несколько человек отпускали в баню постирать белье, и они наперебой предлагали мне постирать мое. Спаси их Господи! А то у самой недостало бы сил.
Раз в неделю была уборка камеры, чистили кровати от клопов. И ежедневные разные дела: принести кипяток, вдвоем вынести в уборную. Для всех этих работ было составлено расписание: написаны фамилии, кому что делать, но мою фамилию ни за что не хотели вписать. Всё делали и за себя, и за меня.
Кому не было передачи, трудно было. Сколько-то времени прошло так, и вдруг в один из приемных дней подают мне большой батон белого хлеба, сахару, бутылку молока и жестянку халвы. Это было для меня большое благодеяние, я подкрепилась.
Через неделю или больше я опять получила такую же посылку. Хотелось мне знать, кто же мой благодетель. Случайно какая-то из находившихся здесь монашек сказала мне, что это передача от одной монахини из смоленского монастыря, и назвала ее имя. Тогда я вспомнила, что двадцать лет тому назад мне пришлось быть в Смоленском монастыре: там я осматривала сестру этой монахини и советовала операцию, которую и пришлось сделать. И вот она вспомнила обо мне. Как трогательно было это для меня! Я от умиления плакала.
Вскоре пришла к нам одна особа, настоящая красавица. Она тоже заключенная, но заведует одеяльной мастерской и предлагает работать у нее. Тихо и слегка высказала, что ей хотелось бы монашек. Целый день сидеть в камере трудно, часто многие курят или говорят неподходящее, а есть такие, которые дурачатся, шумят.
Я сказала, что я неопытная, но мне хотелось бы. «Ничего, – сказала она, – записывайтесь». Шить одеяла там было нетрудно, были все удобства. Некоторые только рисовали: это делала большей частью сама красавица. Другие настилали вату, наметывали подкладку и растягивали на пяльцы. Наше дело было только шить.
Я думала, мне дадут сначала какое-нибудь простенькое одеяло, а меня сразу посадили за атласное. Шила я, конечно, медленнее, чем опытные, но все одобряли и говорили – хорошо… Приятно было – мы сидели там в тишине.
Заведующая наша в какой-либо праздник или субботу тихонько скажет кому-нибудь из нас: «Не спешите уходить». Все поднимутся, убегут, а мы останемся, и она скажет: «Можете здесь помолиться». Помещение громадное. Она сама оставалась в передней за сторожа. И вот у нас читается или поется акафист и другие песнопения, а книги наши хранятся у нее в шкафу.
Какая это удивительная женщина! Величественная и с удивительно красивыми чертами лица, на голове у нее закручен тюрбан из белого шелка; напоминает восточных людей – истинная красавица! Она не очень молодая, у нее уже двое детей, младший – мальчик лет пяти – семи. Она была замужем за инженером, который работал в Смоленске. Муж и дети в приемные дни иногда приходили ее навестить.
Помнится, она имела какое-то отношение к поэту Блоку, вероятно родственница его, точно не помню. Она была верующая, но своеобразно. У нее было много мудрований. Она принадлежала к теософам. Рассказывала, что на Пасху, когда она видела, что все боятся принять священника, она, несмотря на то что она не такая православная и что рядом с ними живет начальство, пригласила священника к себе. И нам она сочувствует, хотя сама была другого верования. Как-то ничего не боялась, предлагала хранить Евангелие (у кого есть) и духовные книги. И такие молитвенные собрания смело устраивала у себя. А при разговоре с начальством часто позволяла себе многое. Ее впечатляющая наружность невольно действовала на людей, и ей многое прощалось, чего не потерпели бы от других. Имя ее, кажется, было Ольга, а отчество и фамилию совсем забыла.
К нам она была очень добра и доставляла нам большое утешение. Только в разговор о ее мудреных верованиях я не входила. Поговорит с ней, бывало, акушерка Людмила и расскажет мне. Мы иногда брали с Людмилой одно одеяло и шили с двух сторон, при этом могли и поговорить.
Тем, кто ходил на работу, давали больше хлеба: можно было поделиться с теми, которым не разрешалось выходить из камеры. Многих вызывали и увозили на допрос, преимущественно ночью. Вот и мы поначалу боялись, как заскрипит дверь ночью. Вот сейчас нас отправят на допрос… Но время шло, а нас никто не спрашивал и не трогал до самого конца. Верно, заглазно написали. Страшно было, когда слух пронесется, что сейчас отправят большую партию в ссылку.
Ввиду этого наша красавица раздала нам по большому куску ваты, чтобы сшить наколенники. У меня самой одеяла не было, так что этот кусок ваты я наложила на свое холстинное покрывало. Видя, что я настегиваю вату, некоторые дали мне свои куски, и у меня получилось одеяло: хотя и тоненькое, но все же было хорошо. Я им была очень благодарна.
Неожиданно приехала племянница Женечка. Она вошла в тюремный двор, но прием уже оканчивался, и, когда ей отказали, она начала плакать и сквозь слезы стала говорить, что ей непременно надо видеть меня. Измученный вид ее и горькие слезы тронули, вероятно, начальника тюрьмы, и он уже ласковым голосом сказал: «Ну идите, вас пустят».
Обыкновенно свидания были через решетку, а меня провели в комнату, где нам поставили два стула, и мы с ней могли поговорить свободно, без стражи. Приезд Женечки был для меня большим утешением.
Приезжала ко мне потом и сестра Мария. Она привезла пятьдесят рублей (вырученные за мои хирургические инструменты), но так как я была за решеткой и нас разделял довольно широкий проход, то ей невозможно было передать их мне. Она только намекнула, а сделать ничего не могла.
Но здесь помогла мне одна из заключенных – комсомолка. Ее иногда назначали в помощь надзирательнице, и она имела доступ к внешним воротам. Узнав о моем огорчении, она сейчас же побежала к воротам и еще застала там сестру Марию, которая не спешила уходить, так как не знала, как ей поступить. Вот здесь-то и пришла моя посланница, которой она и передала деньги. Но сама сестра Мария все же беспокоилась, дошли ли они до меня, так как пришлось отдать незнакомой и поверить на слово. Я ей написала, что все в порядке.
Грустно было смотреть на тюремный двор, где за внутренней стеной нам виднелось до третьего этажа красное здание. Его называли «американкой». (И теперь, после стольких лет, при этом слове у меня содрогается сердце.) Это была строгая одиночная тюрьма. Некоторые побывали там и знают, как тяжело, когда не видишь ни одного человеческого лица. Ирочка, всегда грустная, часто становилась на подоконник и смотрела на огоньки в окнах «американки». Там был заключен ее муж, с которым она прожила только два месяца, и вот пришлось разлучиться, чтобы на этом свете больше не увидеться…
У меня были рукописные утренние и вечерние молитвы, и, подготавливаясь к предполагаемому скорому нашему отъезду, я переписывала молитвы для тех, кто останется и кто просил меня об этом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.