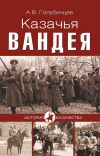Текст книги "История одной старушки"

Автор книги: Оберучева Монахиня
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
Служение (1917–1922)

Жизнь в Оптиной пустыни. Батюшка Анатолий
Я пока оставалась в гостинице. Здесь во мне большое участие принимала Варвара Иосифовна Т. – уже немолодая девица, идеальная послушница старца Иосифа, сохраняющая все его заветы (старец умер 9 мая 1911 года). Всегда точно приходила в церковь перед каждой службой. И вот такого благочестивого человека Господь послал мне при моем поступлении в монастырь.
По отъезде своих я по благословению отца Анатолия перешла к ней, после того как она меня пригласила (а она шагу не делала без благословения). Она купила для меня в монастырской лавке книгу аввы Дорофея и подарила мне. И дома в свободные часы давала мне свои книги, благословленные старцем.
Жила она здесь, при монастыре за оградой, уже больше десяти лет. Молодой девушкой приехала сюда со своей любимой няней (родители ее уже давно умерли) и по благословению старца осталась здесь: сначала в гостинице, а потом, с разрешения и благословения архимандрита (как многие из благочестивых, внеся некоторую сумму денег), получила на всю жизнь квартиру из двух комнат и кухни. Вот у нее я временно и поместилась.
Моя благочестивая хозяйка вставала аккуратно к утрене и будила меня. Вся ее жизнь, налаженная чисто по-монастырски, была мне так полезна на первых шагах моего знакомства с монастырем. Она строго смотрела на все, не делала ни малейшего упущения ни в правилах, ни в церковных службах, остерегаясь лишнего слова. С благоговейной любовью относилась ко всему, что касалось Оптиной пустыни, особенно к заветам старцев, которые она так хорошо помнила. Это была живая летопись старцев. Как жаль мне, что наша совместная жизнь была так непродолжительна!
После каждого богослужения я заходила в часовни поклониться старцам и попросить их благословения. Поблизости была могила моего брата, я заходила и к нему: здесь теплилась лампада… Когда-то, пятнадцать лет тому назад, как раз на этом месте я видела во сне лучезарную беседку из ярких роз. Тогда я недоумевала, почему из нашего семейства, которое я видела во сне, нет только моего брата. Только теперь я поняла, что это означало.
Часто после службы я брала хлеба в мешочек и палочку (батюшка, зная скудость Манечкиных средств, давал мне хлеба) и шла в Козельск навестить наших. А они приходили из Козельска в свободное от занятий время и к церковным службам по праздникам. Без них я проводила время в продолжительных службах в храме и немного читала. Большую часть времени приходилось сидеть в приемной батюшки отца Анатолия среди народа и ожидать общего благословения, а потом я просила келейника отца Евстигнея, чтобы батюшка принял меня и отдельно. Всегда батюшка исполнял эту просьбу. Во время первого же приема я высказала батюшке свое решительное желание поступить в монастырь. На это он сказал, что теперь мне надо молиться, чтобы Господь Сам положил мне на сердце – куда поступать…
Сначала я сказала батюшке, что у меня три дороги: 1) община во имя Христа Спасителя, где матушка настоятельница обещала построить скит; 2) миссионерская община на Алтае владыки Макария и 3) Шамордин монастырь. Сначала у меня мысли разбегались, но теперь я остановилась на одном решении – в Шамордин монастырь. Здесь близость старцев, а время теперь такое – может быть, окончательное… И это последнее решение я сказала батюшке. Он принял его как уже давно известное: «Молись, чтобы Господь утвердил тебя и указал путь».
С тех пор я продолжала после каждого богослужения заходить к батюшке, брала общее благословение и ждала, не примет ли он меня отдельно, чтобы мне окончательно просить принять меня в Шамордино. Просила келейника доложить батюшке мою просьбу. Келейник возвращался и как бы со смущением отвечал мне: «У батюшки сегодня много дела» или что-то вроде: «Едва ли он успеет». Вначале я спокойно принимала такой ответ, сама видела, как много народа ожидает.
Проходит так неделя, а батюшка ни разу не принял меня отдельно. Но я все прихожу и жду. Среди народа я заметила толстого господина, который добивался отдельного приема, но в первый день так и не добился. Пришел на другой день. Сидел рядом со мной и при выходе келейника начал роптать; указывая на меня, сказал: «Здесь каждый день приходят, и их принимают, а я, приехавший издалека, ничего не могу добиться». Этот несправедливый упрек очень подействовал на меня: я ничего не сказала, но у меня явилась такая боль в сердце, что я почти заплакала. Ведь я уже больше недели сижу в ожидании и получаю неизменный ответ: батюшка сегодня не может принять. Мне сделалось так тяжело!..
После вечернего богослужения на сон грядущим я пошла с тяжелым чувством на ночлег. И вижу во сне: нахожусь я в первой большой комнате, где обыкновенно батюшка благословляет. Там встречает меня женщина в черном шелковом платье, приятной наружности и говорит: «Ты обижаешься, что батюшка тебя долго не принимает, но посмотри (и указывает рукой на дверь спальни) – он за тебя молится». И я вижу в дверь, что батюшка стоит там как бы на воздухе с поднятыми кверху руками и молится. Этот сон так утешительно подействовал на меня, что с тех пор я со спокойной душой стала ожидать, когда меня батюшка примет, и нисколько не тяготилась, что мне приходится подождать еще несколько дней.
Когда он принял меня и я высказала свое твердое желание поступить в Шамордин монастырь, батюшка с радостным видом благословил меня.
Поступление в Шамординскую обитель
По приходе домой, т. е. к Варваре Иосифовне, я сообщила ей свою радость. У нее теперь вместо ее умершей любимой няни была в услужении м. Александра, сестра иеромонаха Феодота, благочинного Оптиной пустыни: она, по уговору своего брата, перешла из раскольниц в Православие, по его приглашению приехала сюда и находилась теперь в услужении у Варвары Иосифовны. Она приняла монашество и скоро сподобилась истинно христианской кончины.
Этот батюшка отец Феодот, который заменил для Варвары Иосифовны ее старца, батюшку Иосифа, часто посещал своих духовных чад: Варвару и Александру. И в этот день пришел отец Феодот, и ему сообщили о моем поступлении в Шамордин монастырь.
А он начал говорить о монашеской жизни: «В монастыре хоть и то же дело, но уже не то. Здесь вы себя Господу посвятили, и все, что делаете, ради Господа делаете, и все зачтется. Если и на службу через послушание не поспеете, не скорбите: монастырь – одно целое, единое тело, и друзья за вас молятся, когда вас нет в храме. За всех работающих на послушании молятся… Главное – не обидеть, не причинить другому скорбь».
По этому поводу он сказал: «Один святой при совершении литургии удостаивался видеть Господа. Но вот однажды не видит Господа и думает: что же это? Грех какой совершил? Думает и не знает, что это значит; спрашивает иеродиакона, но и тот не мог сказать, потом иеродиакон вспомнил: когда шел, то встретил нищего и на его просьбу не хотел ответить, а махнул рукой на него и обидел этим. Вот даже такая обида вменена в грех».
А далее в разговоре батюшка Феодот заговорил о скорбях: «Скорби мирские не всегда ведут ко спасению, бывают пересуды, ропот, обвинение других и т. д. Монастырские скорби – ко спасению. Монах поступает в монастырь; часть братии его полюбила, некоторые были против него. Он заскорбел и перешел в другой монастырь. В другом – то же, в третьем – то же. Тогда он сказал: “Что же я, так буду? Весь свет обойду?..” Написал на бумажке, положил в пояс и, когда кто обидит, вынет бумажку, прочитает и все терпит. Братия стали раздражаться: что это за колдун какой-то, смеется над ними, что ли? Сказали игумену. Монаха позвали, потребовали его записку. Сначала он не хотел давать, потом дал. Игумен прочел и затем велел вслух прочесть его записку: “Все буду терпеть ради Господа Иисуса Христа”. Прочли и поняли, в чем сила его терпения…»
В начале июня, кажется 8-го, приехала матушка игумения из Шамордина. Батюшка отец Анатолий позвал меня. Я поклонилась в ноги и просила принять меня. Они оба благословили меня. Матушка поцеловала меня и пригласила вместе с нею пойти ко всем старцам. У каждого и посидели. Батюшки с матушкой беседовали, благословляли меня и дали наставления, но я была в такой радости и восторге, что не сообразила записать все. Много времени прошло, и я забыла, не могу вспомнить их бесед.
Уезжая из гостиницы (которая была предназначена для шамординских сестер), матушка игумения благословила меня и сказала: «12 июня будет прислана лошадь за духовником или за иеродиаконом».
12 июня приехавшая из Шамордина монахиня дала мне записку от матушки игумении: благословляла меня приехать. Эту записку я хранила, но она пропала вместе с другими дорогими для меня письмами.
Этот знаменательный для меня день – 12 июня 1917 года – навсегда остался в моей памяти. Батюшка отец Анатолий благословил меня образом «Моление о Чаше» и сказал: «Благословляю послужить на пользу обители» – и добавил: «Можно каждую неделю писать». Благословил меня четками. Послал к батюшке отцу Агапиту, который был уже очень слаб и находился в больнице. Для него была отдельная келья; все старцы и монахи с особенным благоговением относились к этому старцу, живущему в Оптиной на покое. Он был еще на ногах, ласково принял меня и на просьбу мою благословить меня в монастырь Шамординский сказал: «Что ж, погости, погости, благословляю тебя. Но ведь монастыри закрываются». (У большинства тогда была надежда, что такое время пройдет, и потому эти слова упали, как камень на сердце.) А батюшка продолжал: «Монастыри все разойдутся, на два месяца только хлеба достанет… И мужские тоже, только до нас черед еще не дошел…» – «Помолитесь, батюшка, чтобы духовно устроилась моя жизнь». – «Молись и ты и смиряйся».
«В суете все живу». – «Сама с собой если будешь, помыслы пойдут. А доброе дело для ближнего заменяет молитву. Благословляю, погости, погости…»
И так прискорбны были мне эти последние слова…
Прощаясь, батюшка Анатолий дал мне некоторые наставления касательно моей монастырской жизни и, между прочим, благословил меня пить святую крещенскую воду по средам, пятницам, воскресеньям и по праздникам и еще – если чувствую нездоровье или собираюсь идти к очень трудной больной.
По назначению батюшки и матушки я пока должна была жить в новой гостинице. Несмотря на печаль (не исчезавшую после смерти брата), радость переполняла мою душу.
К концу дня мы подъехали к гостинице. Радушно встретив меня, послушница провела в приготовленный номер. От всего веяло святыней и уютом. Заботливая рука матушки Нины, заведующей гостиницей, поставила мне на стол букет цветов.
Радость в моей душе не вмещалась и распространялась на все окружающее. И теперь, при воспоминании об этом времени, что-то необъяснимо радостное поднимается в груди…
Строгая, уважаемая до благоговения своими послушницами, матушка Нина с любовью относилась ко мне, давала мне ценные советы касательно внешнего монашеского поведения. Обладая очень слабым физическим здоровьем (несмотря на свой рост и полноту), она скоро стала обращаться ко мне за медицинскими советами.
Но ближе всех для меня была матушка игумения. Она приветливо встретила меня и потом часто заставляла читать для нее правило или что-либо из духовных книг. По своему устроению она походила на древних старцев. А на первый раз она велела мне открыть «Отечник» и прочесть, и я прочла:
«1. Оказывай милость, и спасешься.
2. Трезвись, и будешь помилована.
3. Молчи».
Я прониклась таким уважением и благоговением к матушке игумении, что готова была ей открыть всю свою душу, чтобы она наставляла меня. И у меня возникла мысль просить старца благословить меня обращаться к матушке, как к старице: поверять ей все свои помыслы. На первой же исповеди я сказала об этом старцу, но он не благословил меня на это. Только потом я поняла мудрость старца. Это повело бы к тому, что меня с первых же шагов окружила бы зависть и ненависть, мне трудно было бы жить.
Вот и насчет поселения моего в больнице, где жили две фельдшерицы, тоже был трудный вопрос. Батюшка и матушка понимали это и действовали осторожно.
Наружно фельдшерицы приняли меня хорошо. А я, не подозревая ничего, чувствовала себя с ними и со всеми очень свободно. Только иногда видела у аптечных сестер и помогающих мне лица заплаканными. И через некоторое время выяснилось, что сестры огорчаются потому, что жалеют меня. Например, я прописываю для больной такое-то лекарство, а фельдшерицы требуют, чтобы давали другое. А в разговорах с сестрами старались подорвать ко мне доверие. Особенно практиковалось это среди интеллигентных монахинь, имеющих большое значение в монастыре.
А мирских пациентов, к которым так охотно ездили фельдшерицы, мне даже хотелось отделить от себя, и я просила батюшку благословить меня безвыходно оставаться в стенах монастыря. Но фельдшерицы испугались и жаловались сестрам, что я лишу их практики. Такое было недоразумение…
На первых порах, так как у меня ничего не было, матушка игумения благословила дать мне все, что необходимо. Прислала мне несколько своих простынь, чтобы у меня было свое белье, а что касается одежды, я пока ходила в своем черном платье.
Церковная служба у нас была легче тем, что не надо было вставать к утрене: утреня справлялась с вечера. Повечерие было в три часа дня, в шесть – вечерня с утреней, в шесть утра – обедня. Конечно, я старалась ходить на все службы. После обедни прихожу к себе, где мне дают чай, и иду на прием больных. Затем прихожу обедать. В три часа повечерие, затем вечерний чай и вечерняя служба. После утрени заведено было во время войны читать какой-либо из акафистов, и теперь это продолжалось по случаю тяжелого времени. Впоследствии сестры мне поручали его читать.
В начале моего пребывания матушка позвала меня с собой поехать на луга, на дачи. Себя она уже чувствовала слабой и сказала мне: «Вот с этим образом святителя Николая Чудотворца ты обойди луга, а я посижу здесь, в экипаже». Образ считался чудотворным, был написан старцем Герасимом-старшим, когда однажды он был оставлен на отдых в матушкиной комнате в богадельне (она прежде была там старшей).
В один из первых дней моего пребывания в монастыре я была у матушки и читала ей духовную книгу, а затем матушка сказала: «Пойдем, навестим некоторых вновь поступивших сестер».
Сначала мы пришли к сестре Евдокии Саломон (итальянская фамилия), поступившей только через несколько дней после меня. Она была почтенная старушка, лет за шестьдесят. С самых юных лет она со своей матерью приезжала в Оптину и хорошо знала оптинских старцев. Отец занимал какое-то высокое место в Петербурге, а брат ее (друг Владимира Соловьева) служил при Святейшем Синоде. Когда оптинские монахи или шамординские монахини по какому-либо случаю посещали Петербург (в прежние времена), то заходили в дом Саломон и видели, в какой роскоши жила сестра Евдокия, как она ездила в карете и т. д. А теперь она в темненьком платье и в лаптях. Мудрая матушка поместила ее в келью, которая пришлась ей как нельзя более по духу: келья стоит в отдалении от построек, среди деревьев; старинные низенькие сени и две смежных кельи – для сестры Евдокии и для одной простенькой старой монахини. Обстановка кельи простая, напоминающая старину: окна низенькие, стены бревенчатые, увешанные иконами, картинами, портретами старцев. Входишь как в келью какого-нибудь древнего отшельника. Все это так соответствует самой сестре, отрешившейся от всего прежнего.
Матушка спросила, как она себя чувствует, не нуждается ли в чем. Сестра Евдокия благодарила с земным поклоном. Послушание ей матушка дала читать Псалтирь, свою очередь – два часа, при старом храме, где заведено было неусыпающее чтение.
Сестра Евдокия, видно, с любовью работала в огороде, находившемся при этой келье. У нее был образ святителя Тихона Задонского, написанный на доске его гроба, где лежали святые мощи, когда их открывали. Мать Евдокия уже в конце своей жизни захотела дать мне этот образ (самое для нее дорогое) – и отдала; теперь он у меня стоит. При открытии святых мощей этот образ был поднесен ее отцу или брату.
Затем мы с матушкой отправились к другой недавно поступившей сестре – Ольге Петровне. Она приехала в Оптину пустынь немного раньше меня, там я с ней и познакомилась. Она была замужняя женщина, горела любовью к Господу; с мужем они жили необыкновенно дружно, но у нее было великое горе: он был лютеранин. По этому поводу она несколько раз приезжала к батюшке Анатолию, просила у него святых молитв за мужа. А батюшка твердо говорил ей, чтобы она не настаивала, не уговаривала мужа, а только сама молилась, и Господь приведет его к Православию; чтобы она твердо на это надеялась. И действительно, муж сам впоследствии выразил желание принять Православие, чтобы им быть неразлучными и в той жизни. Он скончался православным, она привезла его тело в Оптину и похоронила недалеко от старцев. А теперь сама решила остаться в Шамординском монастыре.
Для этой сестры келья была более светлая, с большими окнами, высокая. Рядом жили две сестры-монахини, могущие служить сестре Ольге. А сама сестра Ольга – немолодая, лет пятьдесят пять. Доброта и простота необыкновенные, лицо так и дышит любовью. По стенам ее кельи много хороших икон, привезенных из Царского Села, где они жили с мужем; все говорит о тонком художественном вкусе хозяйки. Много иконок – память от высоких духовных лиц. Любила я иногда приходить и рассматривать ее святыню. Ей матушка тоже назначила послушание – чтение Псалтири и ежедневно ходить на повечерие и там читать канон. Она упросила матушку назначить ей читать Ангелу-хранителю. Вот на повечериях, куда и я ежедневно ходила (если какое экстренное дело не задержит), мы и встречались с сестрой Ольгой.
Иногда были особые поминальные дни, когда подавался чай или обед в игуменской столовой; туда сходились священник отец Николай, иеромонахи отец Мелетий и отец Иннокентий, а также некоторые старшие сестры, и нас с сестрой Ольгой приглашали часто. Монахини отличались молчаливостью, и монахи тоже. И вот добродушная сестра Ольга нарушала молчание, я к ней присоединялась, тогда и остальные поддерживали разговор. Мне не казалось это предосудительным, а вот находились среди простых монахинь, которые ей говорили: «Вы всё суетесь своим языком». Ей, конечно, обидно было, но она со смирением это принимала и как-то спросила батюшку Анатолия: нехорошо, что она начинает разговор и входит в общую беседу? Батюшка ей ответил: «Нет, ничего. Ты пожилая, может, и полезное что скажешь». И так ободрил и утешил ее. В ней было много детского. Все она делала с благословения; еще перед поступлением, живя в Оптиной, она ходила в своем нарядном плюшевом пальто; батюшка сказал ей: «Ты его перелицуй, и так будешь ходить и в монастыре, когда поступишь». И вот на другой же день ее можно было увидеть уже в некрасивом пятнистом пальто, так как изнанка имела ужасный вид. Теперь батюшка одобрил ее костюм.
Эти две интеллигентные сестры, не имевшие никакой связи с деревней, больше всех терпели нужду. Пока жива была матушка, она знала все их обстоятельства: как бы случайно увидит или позовет кого-нибудь из них и даст кусочек масла или булочки (отрежет от того, что ей принесут) и поручит еще отдать другой.
Сестра Ольга не долго прожила в монастыре, года три или четыре. Ее не успели постричь, она была только рясофорная. Умерла она внезапно, от кровоизлияния в мозг. Меня не было несколько дней в монастыре, и я со скорбью узнала, что ее похоронили.
Чувствовала я, что матушке не по духу был наш священник, всегда с белым воротничком, подстриженный. Матушка старалась даже выхлопотать другого, но пока ничего не выходило. Многим старшим монахиням он нравился, пока впоследствии они не узнали его. Он только служил, а исповедь и причастие были на обязанности иеромонаха Мелетия. А на время постов приезжал еще второй иеромонах – Иннокентий, уже старый, почтенный, бывший казначей Оптиной пустыни. К ним сестры и обращались за советами. В старой гостинице, в коридоре, можно было видеть сестер (и здешних, и пришедших с дач), желавших рассказать о своих нуждах и получить старческий совет.
У нас в больнице некоторые сестры жили подолгу, например туберкулезные – до смерти. И я с ними сроднилась, как своя семья была. Особенно близка мне была сестра Анисия – впоследствии схимонахиня Аполлинария. Поступила она за год до меня. Восемнадцатилетняя здоровая на вид деревенская девушка. Ее отправили на дачу пахать. Еще дома повлияло на нее чтение о будущей жизни, так что она ни за что не хотела оставаться в миру и покинула своих родителей и брата в деревне. Горячо взялась исполнять все, что от нее требовалось, но, бывши и раньше слабого здоровья, уже через несколько месяцев изнемогла.
«Выйду пахать, – говорила она, – пройду борозду и упаду в изнеможении – и прошу Полю (которая с ней пахала, тоже молоденькая), чтобы она никому не говорила, а то вдруг скажут: “Как такую больную держать?”» А она так боялась оставить монастырь.
«Молюсь Царице Небесной: буду терпеть всякую болезнь, лишь бы Ты оставила меня в монастыре», – рассказывала она мне потом в Козельске. Царица Небесная услышала ее молитву. Она заболела язвой желудка и все пять лет лежала в больнице, а потом мы поехали в Козельск; там она тоже жила, как в монастыре. Всего мы с нею неразлучно прожили четырнадцать лет до ее кончины. Если бы она была покрепче, хотя бы на ногах, родители бы непременно ее взяли при закрытии монастыря к себе в деревню. А теперь, видя ее в таком изнеможении, побоялись взвалить на себя тяготу…
Сестра Ирина (больничная) старалась познакомить меня с подвижницами-монахинями, которые проходят молитву Иисусову.
Прежде всего мы пошли к матушке Надежде Аксаковой. Она с ее келейницей жили в старом домике вроде того, какой мы видели у сестры Евдокии С. Мать Надежда – интеллигентная, даже из высшего общества, из семьи писателя, а теперь вела самый простой образ жизни, смирялась во всем; с ней жила младшая монахиня средних лет, неинтеллигентная, очень ее любящая, но довольно строптивого характера, так что мать Надежда во всем ей подчинялась, вела суровый образ жизни. Страдая расширением (аневризм) аорты, очень сильным, она, несмотря на это, исполняла все домашние свои работы, даже колола дрова (я ее раз застала за этим занятием и ужаснулась). Она была знакома со схимонахом старцем Иларионом, отшельником в Кавказских горах, вела с ним переписку. Показывала его письма; помню одно письмо, где он пишет: «Какое счастье – Иисусова молитва: вот мы теперь с вами разве можем исполнить подвиги? А молитва от нас не отнята, мы только и можем в такие года ею молиться, какое счастье!»
Она предложила мне почитать книгу «На горах Кавказа». Но я не решилась взять, пока не спрошу у батюшки. А батюшка сказал мне: «Я читал ее и находил в ней перлы молитвы Иисусовой, но, когда узнал, что Святейший Синод признал в ней еретическое, я по своей прямолинейности, из послушания, как сын Православной Церкви, все выписки, сделанные из этой книги, перечеркнул. Хорошо ведь об Иисусовой молитве и у епископа Игнатия».
Ходили мы с сестрой Ириной еще к схимонахине Херувиме. Она уже преклонных лет, слабенькая; у нее есть келейница, которая делает все по келье. У них совсем маленький домик из двух крохотных келеек и сенцев. Мать Херувима из евреек, была преданная дочь батюшки Амвросия. После крещения, еще в миру, ездила в Иерусалим из любви к Господу Иисусу Христу. Теперь ведет совершенно уединенный образ жизни, молится и работает схимнические аналавы. Она учила меня, иногда я ходила к ней: как будто научилась, нескольким сшила, а теперь не могла бы, забыла. Мне хотелось хоть иногда побыть в той молитвенной атмосфере, которая окружала эту подвижницу. Она всецело занята приготовлением к будущей жизни, все у нее готово, и гроб готов, стоит на чердаке. Но умереть ей пришлось после закрытия монастыря, в Козельске, в полном уединении, в 1928 году, в день Рождества Христова.
Водили меня в приют, а потом я часто ходила туда и для медицинской помощи. Как приятно там: все до мельчайшей подробности устроено по плану батюшки Амвросия, все исполняется по его благословению. Здесь воочию убеждаешься, какое благотворное влияние оказывает религия на душу ребенка, смотришь на них как на ангелов…
Совсем маленькая хорошо произносит «Отче наш», и, когда у нее спросили, какие слова для нее главные, она задумалась и ответила: «Да будет воля Твоя». Другая – очень хорошо читает акафист Спасителю. По праздникам детей водят в храм, на обед они приходят в общую трапезную.
Начальница приюта – опытная монахиня Вера Хрущева (о ней рассказывается в житии батюшки Амвросия: как мать приехала выручать из монастыря свою дочь, а потом и сама осталась). В приюте были учительницы и хорошие няни.
В синодике у меня записана отроковица, молитвенница, проходившая Иисусову молитву с семи лет; умирая, она сказала матушке игумении (когда все окружили ее одр): «Мне нехорошо, когда сестры говорят; благословите их читать молитву Иисусову».
Немного в отдалении была келья, где жила блаженная Дашенька со своей матерью. Монахини относились к ней с особенной любовью, несмотря на ее иногда странные поступки; при недоуменных вопросах обращались к ней за советом. Она вела себя как дитя.
Осматривала я уединенную хибарку, где жила первая настоятельница монастыря матушка София, глубоко чтимая всеми монахинями. Там живут ее родные племянницы – Мария и Марфа – и сохраняют все, как было при матушке.
Часто приходилось мне бывать в так называемой «молчанке». Это маленький уютный домик, названный так еще батюшкой Амвросием. В одной половине домика жила затворница Херувима, умершая до моего поступления, а в другую часть батюшка поместил двух тогда при нем поступивших светских барышень: Елизавету, совсем юную (впоследствии казначею), с ее прислугой Грушей, и Марию, образованную, бывшую учительницей у детей Льва Толстого, случайно приехавшую со знакомыми и оставшуюся здесь навсегда.
Последняя была особенно преданной, беззаветной послушницей батюшки Амвросия, а впоследствии стала схимонахиней Анатолией. Всем им, обитательницам этого домика, было заповедано молчание; говорить они могли только самое необходимое и жили в отдельных кельях. Мать сестры Марии, нежно любившая свою единственную дочь и оставшаяся в монастыре только из любви к дочери, жила отдельно от нее и по завету старца могла только раз в неделю навещать дочь.
Сестре Елизавете батюшка благословил составлять синодик – ежедневно вписывать в тетрадь умерших известных старцев из монахов Оптиной пустыни и всех умиравших монахинь шамординских. Из ее тетради я и могла составить синодик для себя.
А Груша – прислуга девицы Елизаветы, оставшаяся только временно в монастыре, пока ее барышня попривыкнет к новой жизни, потом осталась и навсегда, сделавшись впоследствии такой серьезной монахиней Арсенией, а потом и благочинной монастыря. (Недавно, в 1940 году, она скончалась в Козельске в страшной нищете после выселения матери казначеи.)
Мать Елизавета и мать Анатолия были живыми летописями монастыря; я так любила послушать их рассказы о том времени, когда еще жили матушка София и батюшка Амвросий, когда каждое его слово ценилось как святыня.
Мать Анатолия, несмотря на свою бывшую светскость, на свою образованность (она училась на высших курсах) и на свое увлечение, как она рассказывала, «французской революцией», была буквально потрясена случайным свиданием с батюшкой Амвросием и совершенно переродилась: она сделалась верной послушницей батюшки. Ей было назначено послушание – заведовать золотошвейной мастерской, там необходим был вкус к изящному, которым и отличалась мать Анатолия. А монахиней она сделалась необыкновенно смиренной, любвеобильной и простой. Когда в монастырь приезжали гости и осматривали, между прочим, и золотошвейную мастерскую, то иногда она случайно помогала одеться посетителям; ей давали монету, и батюшка не велел отказываться для смирения. Сестры из мастерской ее нежно любили, да и все в монастыре. После смерти любимого старца она очень скорбела и сразу заметила в себе упадок зрения: сделалась до крайности близорука и стала бояться всякой простуды. Мне часто приходилось навещать ее при болезни, и я любила слушать ее беседы о старцах.
У нее была необыкновенная память и способность передавать словами всякое тонкое впечатление. Она охотно мне многое рассказывала, я все собиралась приходить к ней с тетрадочкой и записывать, но все как-то не находилось времени, и, к сожалению, это осталось неисполненным.
Я уважала ее за детскую веру и простоту. Однажды, во время голода, ей захотелось рыбки, и она обратилась с детской молитвой к святому апостолу Иоанну: «Угодниче Божий, любимый ученик Господа, ты ведь был рыбак, пошли мне рыбки!» И вот в этот же день в дверь стучится какой-то крестьянин и говорит: «Здесь болящая? Я принес ей рыбки».
Как-то вечером я должна была навестить больную мать Анатолию. Подхожу к «молчанке», кругом темно, а на их «молчанку» льется сверху свет. Электричества тогда не было. Меня это поразило, но я почему-то никому не сказала.
В одну из моих поездок за хлебом (во время голода) мать Анатолия заболела воспалением легких и умерла в мое отсутствие. Кончина ее была мирная. Мать ее, схимонахиня Вера, заведующая приютом, умерла в 1933 году (уже после закрытия монастыря, в городе Орле, окруженная любовным уходом монахинь).
* * *
В больнице работала сестра инженера В. А. Вейденгаммера. Она ходила на костылях, потому что у нее болел тазобедренный сустав; с большой любовью относилась к больным; так и осталась она у меня в памяти: пот градом на лице, а она все трудится.
Ее брата я не знала, только слыхала в монастыре его имя: он приезжал к нам по поводу каких-нибудь построек. Я повстречала монаха из Оптиной пустыни, его бывшего друга (отца Виктора), и вот что он мне рассказывал.
В 90-х годах XIX века строилась железная дорога Козельск – Сухиничи. На постройку этой дороги и был назначен инженер Вейденгаммер Виктор Алексеевич. Он был, как сам о себе говорил, человек неверующий, развратный. Кутила. Был женат и имел дочь, но жене постоянно изменял. Среди постоянных мимолетных увлечений он встретил девушку, которую серьезно полюбил. Он приехал с ней как с женой и поселился в Козельске на время постройки этой ветки железной дороги. Жена его (он называл ее Даня) была очень хороший человек, удивительной кротости: она влияла на мужа своей светлой личностью, с ней он переродился. Скоро она познакомилась со старцем Иосифом, полюбила его и сделалась его духовной дочерью. Когда она шла к старцу, муж сопровождал ее и терпеливо ожидал, сидя на скамейке недалеко от хибарки в скиту.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.